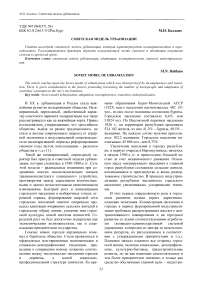Советская модель урбанизации
Автор: Балдано Марина Намжиловна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Колонка редактора
Статья в выпуске: 7, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья исследует советскую модель урбанизации, которая характеризуется незавершенностью и переходностью. Рассматриваются факторы перехода возрастающей части горожан и адаптация вчерашних сельчан в городской среде.
Советская модель урбанизации, адаптация, незавершенность, переход, индустриализация
Короткий адрес: https://sciup.org/148179011
IDR: 148179011 | УДК: 947.084(571.54)
Текст научной статьи Советская модель урбанизации
В ХХ в. урбанизация в России стала важнейшим рычагом модернизации общества. Незавершенный, переходный, двойственный характер советского варианта модернизации все чаще рассматривается как ее важнейшая черта. Правы исследователи, утверждающие, что «российское общество, выйдя за рамки традиционного, не стало и вполне современным: переход от аграрной экономики к индустриальной сопровождался ее милитаризацией; периоды реформирования сменяли годы застоя, консолидации – расколом общества и т.д.» [1].
Такой же незавершенный, переходный характер был присущ и советской модели урбанизации, которая сложилась в 1930-1980-е гг. Суть этой модели – радикальные изменения при сохранении многих основополагающих звеньев традиционалистского социального устройства, противоречия между серьезными количественными и далеко недостаточными качественными изменениями. Быстрый рост и концентрация городского населения в выборочных точках огромной страны, формирование широкой сети городских поселений заметно опережали процессы адаптации вчерашних сельских жителей к городскому образу жизни, усвоение ими городской культуры, новой системы ценностей. Городской рост не был достаточно подкреплен как экономическими возможностями, так и социальными приоритетами государства.
Генезис новых городов кардинально изменил и бурятское общество. Стали проявляться и оформляться долговременные экономические и социально-демографические тенденции, приведшие к совершенно новому долевому соотношению между численностью населения городов и деревень, к новой социальнопрофессиональной структуре занятости. Ко вре- мени образования Бурят-Монгольской АССР (1923) всего населения насчитывалось 482 151 чел., из них около половины составляли буряты. Городское население составляло 6,4%, или 31024 чел. По Всесоюзной переписи населения 1926 г., на территории республики проживало 524 102 жителя, из них 41,2% – буряты, 49,5% – женщины. На каждую сотню мужчин приходилось 102,2 женщины. Городское население насчитывало 45 868 чел., или 8,75%.
Увеличение населения в городах республики, в первую очередь в Верхнеудинске, началось в начале 1930-х гг. и происходило большей частью за счет механического движения. Основную массу мигрирующего населения в главный город республики составляли сельские жители, вовлекавшиеся в производство и вновь развертываемое строительство. В процессе индустриализации республики численность городского населения увеличивалась ускоренными темпами.
В этот период определяющую роль в городском развитии начала играть директивноплановая экономика. Концентрация населения в городах в период форсированной индустриализации требовала распространения жесткого централизованного планирования и на городское развитие со всеми соответствующими атрибутами (командно-административной системой управления, контролем из центра за использованием ресурсов, их расходованием в соответствии с утвержденными приоритетами и т.д.). Плановое начало охватило все стороны городской жизни, включая социальные, демографические, культурно-бытовые, градостроительные аспекты, но не как имеющие самостоятельное и тем более приоритетное значение, а только как средство обеспечения главной цели – индустри- ального рывка любой ценой. При ограниченности ресурсов главным условием выполнения таких планов стала дешевизна промышленного и иного хозяйственного строительства. Она обеспечивалась своеобразной системой организации производства, включавшей нищенский уровень жизни рабочих и – в ряду других – своеобразную «городскую политику», сутью которой была минимизация расходов на человека в городе путем жесткой экономии на жилищнокоммунальном строительстве, социальнокультурной сфере, городском транспорте и т.д. [2].
Отсюда острая нехватка жилья, недостаточный уровень жилищно-коммунального хозяйства в городах, еще более низкие стандарты обустройства населения в малых городах и поселках городского типа. Эти тенденции стали определяющими и последующие десятилетия. Города застраивались стандартными жилыми домами из дешевых панелей и силикатного кирпича при низком качестве строительства. Печать той же стандартности лежала на общественных зданиях и всей материальной среде городов – их планировке, архитектуре, способах освоения пространства и др. Делая минимум необходимого, государство стремилось переложить как можно большую часть расходов и тягот городской жизни на плечи самого населения.
Обычно город в качестве носителя урбанизации характеризует концентрация разнообразия во всех формах деятельности, в конечном счете – концентрация культуры, высших ее достижений. В советских же условиях многие российские города, даже крупные, нередко сохраняли (и продолжают сохранять) исторически сложившийся «поселковый» характер, так как они формировались как сумма рабочих поселков при предприятиях. Поэтому можно сказать, что одной из глубинных черт советской урбанизации является поселковая сущность городов, которая и по сей день остается реальной преградой для развития подлинной урбанизации в современном понимании.
Быстрому росту числа горожан способствовали многие факторы – социальноэкономические, политические, демографические, массовые миграции из деревень, осуществление правительством государственной программы индустриализации, строительство новых городов и поселков, так называемая переквалификация статуса городов. В 1960-х гг. в урбанизационных процессах стали действовать новые тенденции и явления. И среди них, такие как сближение условий труда и жизни в городе и деревне, внедрение в сельские районы элемен- тов городской жизни, городской культуры и системы городских услуг. В СССР официально было провозглашено о стирании различий между умственным и физическим трудом, между городом и деревней. Миграция из села в город усугублялась непродуманными административными преобразованиями сельских территорий в городские. Все это способствовало возникновению явления, известного в литературе, как «ложная урбанизация», характерная для многих развивающихся стран. Переходный характер урбанизации выражается также и в том, что далеко не все городское население и поныне включено в городской образ жизни по характеру занятости, уровню обслуживания, разнообразию досуга и т.д.
С наплывом вчерашних крестьян в города республики, в первую очередь в столицу, их адаптацией к городской среде с иными правилами игры и новой системой ценностей справиться было очень сложно. Это остается и сей день острейшей проблемой. Процесс «крестьяниза-ции» приобрел широкие масштабы. Подавляющая часть улан-удэнцев и сейчас – выходцы из села в первом и втором поколениях.
На самом деле переселение человека в город – классический пример маргинализации человека. Городской житель по своему сознанию, ментальности остается полугородским, живущим сельскими представлениями, а отчасти и трудом, вне урбанистической культуры. Одним из путей «подпитки» маргиналов являются ежедневные поездки на работу в город из сельской местности (трудовая маятниковая миграция), к примеру, из п. Иволга, с. Гурульба, Эрхирик. Если же говорить о крупных городах страны, то к маятниковым мигрантам добавился еще один источник рабочей силы – миллионы бесправных городских «лимитчиков», типичных маргиналов, обычно выходцев из деревни, работающих на самых непрестижных местах приложения труда и не имеющих постоянной прописки.
Понятно, что по мере укоренения в городах бывших крестьян, крестьянских детей и внуков происходит их врастание в развивающуюся систему городских связей, маргинальность постепенно изживается. Однако скорость этого процесса неодинакова не только в различных социальных условиях, но и у отдельных индивидуумов. Одни всеми силами стремятся к овладению новыми для них культурными богатствами, проделывают огромную духовную работу, чтобы соответствовать более развитой городской среде. Такие люди быстрее проходят этап адаптации и вписываются в новые городские условия. Более того, из их рядов вышла целая плеяда лю- дей, составивших гордость отечественной культуры. Но есть и масса других людей, пополняющих деклассированные слои маргиналов, с которыми тесно связаны самые различные проявления торможения городского развития, включая распространение социальной патологии в городе.
Маргиналы не случайно оказались в СССР у власти. Интересно, что самой высокой была доля уроженцев города в первых составах руководства времен революции и гражданской войны – как раз тогда, когда доля горожан в населении страны была самой низкой. Позднее, по мере того, как доля городского населения росла, партийно-государственная элита все больше рекрутировалась за счет выходцев из деревни. Сегодня подавляющее большинство руководителей городского и республиканского масштаба являются выходцами из деревни.
Самым главным следствием индустриализации-урбанизации было сокращение сельского населения и сельскохозяйственной занятости. За период «великого скачка» в течение короткого срока (одно десятилетие) произошел перелив рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность и иные сферы деятельности и, следовательно, разрушались аграрно-традиционные структуры, на их месте складывались новые социальные и профессиональные слои и группы. В настоящее время развивается нематериальный «третичный» сектор производства, который включает все виды торговли и коммерции, кредитно-финансовую систему, банки, страховые компании, государственнообщественные учреждения, систему услуг, массовые коммуникации, науку, просвещение, здравоохранение и т.д. Этому способствует ряд тенденций экономического, политического, социокультурного характера и направления постиндустриального развития.
С 1980-х гг. наблюдается не вполне устойчивая тенденция снижения темпов роста горожан, некоторая стабилизация урбанизационных процессов и увеличение численности населения городов в результате его естественного прироста.
В 1990-х гг. возникли явления и тенденции, отчасти подготовленные предшествовавшими событиями, но в основном обусловленные изменившейся социально-экономической обстановкой. Процесс урбанизации затормозился. Промышленный спад имел тяжелые экономические и социальные последствия. Усилились негативные явления социальной патологии, возросла криминогенность. Расслоение населения стало заметно сказываться на микрогеографии городов и характере использования территории пригородных зон. К примеру, в Улан-Удэ квар- тиры в «престижных» районах (пр. Победы, ул. Коммунистическая и др.) скупались разного рода бизнесменами и чиновниками, а в пригородных зонах началось строительство коттеджных поселков.
Одной из причин сокращения численности городского населения стало преобразование части поселков городского типа в сельские поселения. Мотивы этого не вполне ясны, т.к. наряду с утратившими значение и потерявшими население мелкими поселками было отказано в городской карьере и десяткам крупных пгт, в т. ч. исполнявших обязанности райцентров.
Произошла резкая дифференциация самих городов в зависимости от их адаптивной способности к рыночным условиям. В республике выделились «фавориты» и «неудачники». Ко второй группе были отнесены: а) города – центры угледобычи и добычи редкоземельных металлов, в которых кризис был осложнен реструктуризацией добывающей промышленности (Гусиноозерск, Закаменск); б) центры административных районов (Кяхта), которые были втянуты в кризис развалом сельского хозяйства и деградацией сельской местности, а также ряд других.
Улан-Удэ как столица и центр республики был отнесен к «фаворитам». Многофункциональность, выгоды географического положения, близость расположенных в них объектов к местной власти облегчили ему экономический маневр, установление новых связей, перестройку функциональной структуры. Это – основные точки роста. Именно в Улан-Удэ заметны перемены к лучшему: стала развиваться рыночная инфраструктура, некоторые виды деятельности (например, издательская), привлекались инвестиции, в т.ч. зарубежные, заметное развитие получило высшее (особенно негосударственное) образование. Еще одно существенное обстоятельство, заслуживающее внимания. Это четко фиксируемая по объективным данным тенденция уплотнения Улан-Удэ, рост в нем концентрации населения.
По-прежнему сохраняется значительный разрыв в уровне урбанизации регионов России. В целом отставание периферийных регионов по уровню урбанизации, не говоря уже о степени урбанизированности общества, сохранится еще не одно десятилетие. Если в странах Запада к 1970-м гг. закончилась первая стадия современной индустриализации и урбанизации, то говорить об этом относительно нашей страны еще рано. Хотя в роли результирующих компонентов этого процесса вполне могут быть такие показатели, как занятость самодеятельного населения в разных отраслях экономики (прежде всего, аграрная и промышленная) и уровень урбанизации – удельный вес городского населения.
Однако следует помнить о несовпадении понятий «рост городского населения» и «урбанизация», которые нередко используются как синонимы. Первое – условие необходимое, но недостаточное для развития современной урбанизации с характерным для нее усвоением горожанами урбанистической культуры и их повышенными требованиями к качеству жизни, комфорту городской среды, масштабу социальноинформационного разнообразия и т.д. Ведь именно эти фундаментальные характеристики, а не формальные статистические данные отражают суть урбанизации страны или региона.