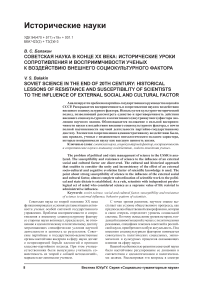Советская наука в конце XX века: исторические уроки сопротивления и восприимчивости ученых к воздействию внешнего социокультурного фактора
Бесплатный доступ
Анализируется проблема партийно-государственного руководства наукой в СССР. Раскрывается восприимчивость и сопротивление науки к воздействию внешнего социокультурного фактора. Используется культурно-исторический подход, позволяющий рассмотреть единство и противоречивость действия внешнего социокультурного и когнитивного (внутринаучного) фактора эволюции научного знания. обосновывается положение о сильной восприимчивости науки к воздействию внешнего социокультурного фактора, о почти полной подчиненности научной деятельности партийно-государственному диктату. Элементом сопротивления административному воздействию были, как правило, ученые с независимым психологическим складом характера, которые воспринимали науку как высшую ценность жизни.
Советская наука, социокультурный фактор, восприимчивость и сопротивление науки к внешнему воздействию, модели поведения ученых
Короткий адрес: https://sciup.org/147150926
IDR: 147150926 | УДК: 94(470
Текст научной статьи Советская наука в конце XX века: исторические уроки сопротивления и восприимчивости ученых к воздействию внешнего социокультурного фактора
Советская наука во второй половине ХХ века функционировала в условиях регламентации активности ученых особой системой государственного управления. Проблема восприимчивости и сопротивления к внешнему социокультурному фактору со стороны науки возникает, прежде всего, по отношению к идеологическому и политическому диктату затрагивающих специфические условия научной деятельности и ценность ее результатов. Советские партийные и государственно-ведомственные органы настойчиво внедряли в сферу науки догмат о непримиримой борьбе идеологий и принцип классово-партийного подхода. При этом ученые-естественники были вынуждены учитывать совместимость их теорий с «общей методологией», марксистско-ленинским учением.
С точки зрения развития, научное знание выступает как условие общественного прогресса, как предпосылка общественной саморефлексии, которая в свою очередь определяет уровень социальной системы. Поэтому осмысление уроков истории, тенденций взаимоотношений ученых с политическими режимами, специфики генезиса советской и российской науки, приобретают особую актуальность. Под внешним социокультурным фактором понимается совокупность политических социальных, экономических и культурных процессов оказывающих влияние на сферу науки.
Важной особенностью развития советской науки было настойчивое регулирование ее динамики в соответствии с идеологическими и политическими целями. Рассматривая эти вопросы в спектре руководства наукой, необходимо понимать роль партийно-государственных постановлений, вмешательство директивных органов во внутреннюю структуру научных процессов, поскольку предполагалось, что это «руководство» может оказать решающее воздействие на конечный результат.
Директивно-бюрократический тип руководства следует отличать от научной политики, имеющей дело с внутренними потребностями науки (поощрение фундаментальных исследований) или с ценностью самого процесса научного познания. Последнее имеет место, когда от финансируемых исследований ждут практических рекомендаций (например, по осмыслению глобальных проблем современности). Во всех этих случаях цель политического и государственного контроля не предполагает вмешательства во внутренние законы развития соответствующей науки или изменение структуры научной специальности. Поэтому восприимчивость науки к такому руководству не представляет особой проблемы.
История СССР второй половины ХХ в. богата примерами сопротивления и восприимчивости науки к воздействию внешнего социокультурного фактора. Н. Л. Кременцов высказал мнение, что поворотной точкой к политике идеологического диктата в послевоенной истории советской науки стало лето 1947 г., когда ЦК ВКП(б) развернул пропагандистскую кампанию «по делу профессоров Клюевой и Роскина», затем Ждановым был «срежиссирован» сценарий суда чести над ними1. Автор справедливо указывает на то, что целью всей кампании был не арест «провинившихся» ученых, а демонстрация обществу, «антипатриотических проступков» ученых и необходимости их перевоспитание в духе советского патриотизма.
Не менее поучительной является эпопея так называемого поворота Сибирских рек. Реализация предложений водно-энергетических проектных организаций по переброске стока рек Сибири в АралоКаспийскую низменность по рекомендации ученых была приостановлена в начале 1950-х гг.2 В 1961 г. идея «изменения течения некоторых северных рек и регулирования их вод с целью использования мощных гидроресурсов для орошения обводнением засушливых районов» вновь была включена в основные программные документы КПСС3. Подготовка трасс каналов в Сибири началась в 1970-е годы. В 1986 г. работы по проекту «поворота рек» еще раз были приостановлены совместным решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Однако, в 1988 г. в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О первоочередных мерах по улучшению использования водных ресурсов в стране» Государственному комитету СССР по науке и технике, Академии наук СССР, ВАСХНИЛу и Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР снова было поручено продолжить изучение научных проблем, связанных с региональным перераспределением водных ресурсов, на основе всесторонних экономических и экологических исследований4.
В литературе уже предпринимались попытки раскрыть механизм разрешения конфликта между различными ведомствами, секторами государства в случае возникновения публичных дебатов в научной и общественной сферах. В данном случае имеется в виду конфликт вокруг проекта о «повороте рек». Социолог Д. Воробьев подчеркивал, что «дебаты в научной и общественной сферах, отражали борьбу групп интересов за легитимацию своих позиций и апеллировали к науке, власти, общественному мнению»…, «при этом центр играл роль координатора интересов»5. По его мнению, в центре конфликтов были институциональные аспекты взаимодействия и согласования групп интересов. О. В. Аксенова раскрыла этот вопрос более широко. В генезисе кризисов природы и общества СССР она выделила проблему конфликта интересов экономики и экологии6. Процесс экологической модернизации индустриального общества в России видимо еще и не начинался, а значит, проблема экологизации экономики находится только в стадии осмысления.
В истории российской науки ситуация складывалась так, что часть ученых в ходе институционального конфликта отстаивала не только определенные научные позиции, но и интересы более экологического развития экономики, общества или ценности науки. В начале 1950-х годов позицию сопротивления ведомственным интересам Гидроэнергопроекта и Министерства электростанций занимали академик В. С. Немчинов, профессор В. В. Цинзелринг и другие ученые7. В начале 1960-х годов, когда противостояние между коалициями сторонников и противников проекта Нижне-Обской ГЭС (с созданием искусственного моря во много раз большего, чем на Волге и Днепре) достигло пика8, против этой идеи резко выступил академик М. А. Лаврентьев9. В середине 1980-х годов академики Я. М. Колотыр-кин и А. В. Фокин в сложной ситуации конфликта интересов партийных органов, ряда высокопоставленных академиков и сотрудников прокуратуры поддержали директора института биофизики АН СССР Г. И. Иваницкого и работу коллектива института с перфторуглеродами («голубая кровь»)10.
О «нормальном» противодействии в сфере научной деятельности новому знанию уже писали историки науки11. Рассматривая догматический характер реакции ряда ученых-обществоведов на теоретические новации, следует отметить ее взаимосвязь с эмоционально-чувственным отношением к мировоззренческим проблемам. С другой стороны, значительная часть ученых с идеологизированным мировосприятием предпринимает попытки решить дискуссионные вопросы с помощью писем-сигналов в партийные органы. Как правило, они содержали требования «применить власть» к инакомыслящим ученым. Об этом ярко свидетельствуют документы Отделов науки ЦК КПСС.
Попытки ученых вернуться к дискуссии по проблемам генетики, по-новому подойти к разработке теоретических вопросов общественных наук, к обобщению практики руководства народным хозяйством встретили противодействие со стороны ответственных партийных работников и секретарей ЦК КПСС. Например, Т. Д. Лысенко 30 августа 1954 г. написал письмо-жалобу на имя Н. С. Хрущева в которой просил» сделать так, чтобы в Большой советской энциклопедии существо мичуринского-го учения было освещено научно правильно». Из
Исторические науки канцелярии Н. С. Хрущева заместителю главного редактора энциклопедии было отдано распоряжение о том, что «будет публиковаться статья не В. Н. Столетова, а Т. Д. Лысенко»12. В июне Весной 1957 г. секретарь партбюро биолого-почвенного факультета МГУ им. Ломоносова, профессор Б. В. Добровольский и его заместители в письме в ЦК КПСС попытались придать конкурсному замещению должностей политический характер. Они обвинили декана факультета, профессора Л. Г. Воронина в нападках на мичуринскую биологию, в выступлениях «против нашей методологической линии в биологической науке», в «затушевывании фронта идеологической борьбы» и в пассивности по отношению к ревизионизму в биологии»13.
В 1959 г. развернулась дискуссия о проблемах структурной лингвистики, понимаемой как составной части семиотики. По мнению профессоров А. А. Ляпунова, П. С. Новикова С. А. Яновской, член-корреспондента академии наук А. А. Маркова и П. Н. Третьякова в Отделении литературы и языка академии наук «сложилось нигилистическое отношение к структурной лингвистике», а в советском языкознании сформировалась монополия противников развития структурализма»14. Однако, заместитель академика-секретаря Б. А. Серебренников, профессора Б. В. Горгунг, Р. А. Будалов и М. М. Гухман в своем письме в ЦК КПСС изложили свою точку зрения. Они утверждали, что «философской основой структурной лингвистики и применяемых ею математических методов, в том числе математических, служит буржуазный идеализм, а значит, в основе концепции лежат ложные принципы»15. В декабре 1959 г. Секретариат ЦК КПСС утвердил документ подготовленный Отделом науки, вузов и школ. В постановлении утверждалось, что якобы структурная лингвистика как западная наука, противостоит «общей методологии советского языкознания», поэтому академии наук было рекомендовано «развивать прикладное языкознание», при этом ЦК КПСС не счел нужным поддержать идею об открытии института семиотики16. Этот фактический запрет исследований по структурной лингвистике имел негативные последствия для развития теории информатики, конструирования электронно-вычислительной техники, разработки языков программирования и применения технологий машинного перевода.
Не менее драматично сложилась дискуссия по проблемам разработки «системы оптимального функционирования экономики» (СОФЭ). Обвинения профессор Н. П. Федоренко в «антисоветизме» начались после выхода его книги «О разработке системы оптимального функционирования экономики». В 1974 г. журнал «Плановое хозяйство» опубликовал рецензию на его книгу под заголовком «Антисоветизм под маской научного исследования». Под псевдонимом «экономист» пожелал скрыть свое авторство доктор экономических наук А. И. Зал-кинд17. В ноябре 1974 г. заместитель секретаря парткома Госплана СССР направляет в ЦК КПСС выписку из решения коллегии «Об обсуждении на страницах журнала «Плановое хозяйство» проблем теории и практики планирования». В ней сообща- лось, что якобы «некоторые авторы недооценивают исторический опыт планирования, накопленный в СССР, и некритически заимствуют идеи, из арсенала буржуазной науки, из «теорий» предельной полезности…» и заявлялось о «справедливой критике в журнале отдельных экономистов, пытающихся подменить директивный характер перспективных планов информациями и рекомендациями их заменяющими». Работники Госплана СССР также выразили надежду, что ЦК КПСС «поможет навести необходимый порядок в организации и руководстве экономической наукой»18. В ЦК КПСС посчитали необходимым не заметить шельмования известного не только в стране экономиста и предложили Н. П. Федоренко «выступить в печати с разоблачением маневров буржуазной пропаганды».
Многие научные работники были абсолютно уверены в том, что разные точки зрения на философские и социально-экономические проблемы не могут существовать в принципе, что есть только одно правильное мнение — партийное (классовое). Еще одной формой иррационального мышления, характерного для научных работников, был политико-экономический утопизм. Он проистекал из неадекватной оценки социальной действительности и опирался на такую социокультурную традицию, характерную черту мировосприятия, как вера в абсолютное добро, справедливость, идеальное политическое и экономическое устройство общества. При этом Отделы и Секретариат ЦК КПСС как правило поддерживали определенную группу ученых. В начале 1980-х гг. в партийных и ведомственных органах управления наукой и в научной среде, будет усиливаться тенденция определять истину чисто административным путем.
Историческими ориентирами массового сознания второй половины ХХ века были персонификация власти через поклонение вождю, «единство партии и народа», административное руководство экономикой, государственная дисциплина, уравнение доходов и др. Все эти «феномены» весьма прочно связаны с образом жизни и ментальностью народа. Наука как разновидность социокультурных отношений, постепенно заимствует многие свойства существующей системы политического управления, правящего режима. На науку распространялся мир авторитарного сознания и модели поведения, связанные с институциональным наследием. Конформизм научных работников становится многоликим. Часто он был связан с социальным чувством страха, опасностью потерять работу или привилегии.
Конформизм и сопротивление административному диктату ярко отразились в жизни советской науки 1980-х гг. С. Э. Шноль проанализировал эту особенность научной среды на примере разработки и испытаний перфторана. По мнению автора, чрезвычайная подчиненность науки партийному руководству и структурам госбезопасности, почти полная готовность академических кругов принять эту подчиненность привели к гибели профессора Ф. Ф. Белоярцева19. В конце 1980-х гг. вокруг этой проблем развернулась «газетно-журнальная война». Тем не менее, перфторан в 1990-е годы вновь прошел клинические испытания и широко используется при необходимости экстренно замены крови.
Удивительно, писал С. Э. Шноль, что перфторан все еще не устарел и по ряду свойств не уступает зарубежным препаратам.
Таким образом, в конце ХХ века научные работники демонстрируют большой запас изменчивости в социокультурных представлениях. В их поведении переплетается и проявляется наследство разных исторических эпох. Дух товарищества, взаимной помощи, а не конкуренции, обогащается жертвенным служением высшим государственным, общенациональным целям. Энергичность и деловитость сопряжены с патриотизмом. При этом ценностносмысловое ядро культуры не распадается. Оно внутри каждого человека сильно защищено эмоциональными реакциями, «нравственными чувствами», профессиональной этикой.
Вместе с тем все более масштабными становятся проблемы перехода от обжитого мира к незнакомому и потому дискомфортному. Проявляется тенденция вернуться к старому, утраченному, сформировать неотрадиционалистские идеалы. Обостряются и проблемы профессиональной этики, все чаще научные работники выполняют «социально-политический заказ».
Многие противоречия и конфликты в науке происходили и продолжаются от непонимания властями институциональных особенностей научной деятельности, и исторически сложившегося механизма самоорганизации научного сообщества. Необходимость в организационных преобразованиях науки была обусловлена постоянным ее взаимодействием с другими общественными институтами. При этом характер взаимодействия определялся социокультурным и социально-экономическим окружением. Только уменьшив иерархичность науки с помощью самих ученых, сделав ее системой оптимально-автономного научного сообщества, поддерживая смыслосодержательные ценности науки и ее этику, устранив перекосы в дисциплинарном развитии науки и создав эффективную систему финансирования исследований можно надеяться получить науку как фактор движения к цивилизации знания.
Список литературы Советская наука в конце XX века: исторические уроки сопротивления и восприимчивости ученых к воздействию внешнего социокультурного фактора
- Кременцов Н. Л. Советская наука на пороге холодной войны: «Дело КР»//In memorian: исторический сборник памяти Ф. Ф. Перченка. -М.; СПб.: Феникс; Atheneum, 1995. -С. 272
- Балакина Л. П. Академик В. С. Немчинов о научных проблемах оптимального пространственного разме щения производительных сил страны (1949-1963 гг.)//Вестник Южно-Уральского государственного университета. -Т. 13. -№ 1. Серия «Социально-гуманитарные науки». -Челябинск, 2013. -С. 12
- Программа Коммунистической партии Советского Союза//Материалы XXII съезда КПСС. -М.: Госполитиздат, 1961. -С. 374
- Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О первоочередных мерах по улучшению использования водных ресурсов в стране». 19 января 1988 г. № 64: [Электронный ресурс]. -URL: http:/www.base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=796 (дата обращения 14 мая 2013 г.)
- Воробьев Д. Когда государство спорит с собой: Дебаты о проекте «поворота рек»//Неприкосновенный запас. -2006. -№ 2(46) [Электронный ресурс]. -URL: http://www.magazines.russ.ru/nz/2006/2/vo8.html (дата обращения 14 мая 2013 г.)
- Аксенова О. В. Экономика и экология: конфликт интересов//Поиск истоков. Серия «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в России»/под ред. Э. С. Кульпина. -Вып. XV. -М.: Институт востоковедения РАН, 2000. -С. 59.
- Экология и власть. 1917-1990. Документы/под ред. акад. Д. Н. Яковлева. -М.: МФД, 1999. -С. 105.
- Некрасов В. Д., Стафеев О. Н. Госплан СССР и проект Нижне-Обской ГЭС (1958-1963): лоббирование, коалиции интересов, оппортунизм [Электронный ресурс]. -URL: http:www. regconf. hse.ruI./70af0eb38f8 512fb1c6e65a97a525bbb6b98fc7b.doc (дата обращения 14 мая 2013 г.).
- Кочина П. Я. Я. благодарна ему за Сибирь//Век Лаврентьева. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «ГЕО», 2000. -С. 212-216.
- Шноль С. Э. Герои, злодеи, конформисты российской науки. -2-е изд. -М.: Крон-Пресс, 2001. -C. 732.
- Балакин В. С. Отечественная наука в 1950 -сер. 1970-х гг. Опыт изучения социокультурных проблем. -Челябинск: ЧГТУ, 1997. -204 с.
- Наука и власть: воспоминания ученых-гуманитариев и обществоведов/отв. ред. Г. Б. Старушенко. -М., 2001. -319 с.
- Подвластная наука? Наука и советская власть/сост., научн. ред. С. С. Неретина, Д. П. Огурцов. -М.: Голос, 2010. -815 с.