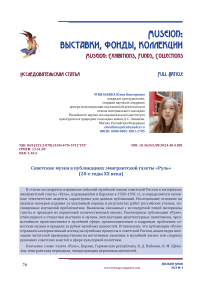Советские музеи в публикациях эмигрантской газеты «Руль» (20-е годы XX века)
Автор: Чувилькина Ю.В.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции
Статья в выпуске: 4 (40), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется отражение событий музейной жизни советской России в материалах эмигрантской газеты «Руль», издававшейся в Берлине в 1920-1931 гг., и определяются основные тематические акценты, характерные для данных публикаций. Исследование основано на анализе номеров издания за указанный период и результатах работ российских ученых, посвященных изучаемой проблематике. Выявлены связанные с исследуемой темой материалы газеты и проведен их первичный количественный анализ. Рассмотрены публикации «Руля», относящиеся к открытию выставок и музеев, эксплуатации архитектурных памятников, чрезвычайным происшествиям в музейной сфере, организационным и кадровым проблемам советских музеев и продаже за рубеж музейных ценностей. Установлено, что публикации «Руля» отражали альтернативный взгляд на музейные процессы в советской России, акцентируя внимание читателей преимущественно на негативных явлениях в музейной жизни или спорных решениях советских властей в сфере культурной политики.
Газета «руль», берлин, германская республика, в. д. набоков, н. м. щёкотов, эмигрантская периодика, экспроприация церковных ценностей
Короткий адрес: https://sciup.org/170209067
IDR: 170209067 | УДК: 069:[325.2:070] | DOI: 10.36343/SB.2024.40.4.005
Текст научной статьи Советские музеи в публикациях эмигрантской газеты «Руль» (20-е годы XX века)
Эмигрантская пресса представляет собой значимую часть культурного наследия Русского мира, выступая уникальным средоточием интеллектуальных, литературных и философских традиций, которые в силу различных причин оказались утраченными в Советском Союзе. Изучение периодических изданий русского Зарубежья, деятельности редакций соответствующих газет и журналов, а также сотрудничавших с ними журналистов и общественных деятелей имеет в настоящее время значительную актуальность, поскольку подобные исследования способствуют осмыслению феномена эмиграции, что приобретает особую важность в контексте современных миграционных процессов. Анализ данных материалов позволяет провести исторические параллели между прошлым и настоящим, выявить причины и последствия эмиграции, а также оценить ее влияние на формирование идентичности и культурной памяти.
Эмигрантская периодическая печать в целом представляет собой огромнейший пласт источников, исследуемых отечественной исторической наукой на протяжении уже нескольких десятилетий. Среди наиболее значимых трудов общего характера следует выделить диссертационные исследования П. Н. Базанова «Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.)» [1] и А. В. Лысенко «Эволюция русскоязычной прессы Берлина от противостояния к культурно-политическому диалогу с советской Россией (1919–1922 гг.)» [19], а также отдельные работы А. А. Пронина и М. И. Кондрашёвой [30], Е. А. Игнатьевой и М. Ю. Шматова [11], Н. М. Михалева [21], Л. П. Муромцевой [24], Е. Н. Ляпоровой [20] и др. Большое значение имеют также составленные М. Вороновым [5] и А. Г. Даниловым [9] обзоры эмигрантской прессы, издававшейся в рассматриваемый период. Эти материалы не только систематизируют обширный пласт исторических источников, но и предоставляют ценный инструментарий для их анализа, что способствует более глубокому пониманию изучаемой проблематики.
Настоящее исследование посвящено газете «Руль» – ежедневному эмигрантскому общественно-политическому и литератур- ному изданию, выходившему в Берлине в период с 1920 по 1931 гг. и являвшемуся одним из наиболее значимых печатных органов русской диаспоры в межвоенный период. Издание отличалось высокой информационной насыщенностью и разнообразием тематики, охватывая вопросы политики, культуры, экономики и общественной жизни.
Собственно газета «Руль» становилась объектом научных изысканий главным образом в контексте анализа ее политической направленности. Так, упоминавшийся выше А. В. Лысенко в своих статьях анализировал сюжеты, связанные с противостоянием газеты официальной советской идеологии [16], исследовал причины негативной реакции издания на заключение германо-российского соглашения в 1921 г. [17] и изучал значение деятельности редакции «Руля» в процессе кампании помощи голодающим в Советской России [18]. С опорой на материалы газеты Л. А. Вафиной были выявлены характерные черты, присущие образу Советской России, формировавшемуся в эмигрантской прессе в 1920–1930-е гг. [4]. С. В. Попова рассматривала издание с точки зрения либерального политического влияния на читателей [28]. Работы З. С. Бочаровой [2] и А. М. Зверева [10] посвящены определению места газеты «Руль» среди других периодических изданий русского зарубежья 1920–1930-х гг. И. В. Реброва проследила влияние литературной критики рассматриваемой эмигрантской газеты на советскую прозу [33] [34]. Несмотря на наличие достаточно обширного массива публикаций, относящихся к анализируемому изданию (а их число, оставшееся за рамками представленного обзора, достаточно велико), приходится констатировать, что материалы газеты «Руль» до настоящего времени не были изучены в контексте освещения их авторами музейной проблематики.
Таким образом, целью исследования является анализ публикаций эмигрантской газеты «Руль», посвященных событиям музейной жизни советской России и определению основных тематических акцентов, характерных для данных публикаций.
Основу исследования составляют впервые вводимые в научный оборот газетные материалы, освещающие события советской музейной отрасли 1920-х гг.: номера издания за указанный период, представленные в виде электронных копий на сайте Берлинской государственной библиотеки. Кроме того, работа опирается на труды отечественных историков и культурологов, использование результатов научных изысканий которых обеспечило комплексный подход к изучению темы.
Выбор методов обусловлен спецификой исследования: системный метод позволяет рассмотреть эмигрантскую газету «Руль» как альтернативный источник информации о развитии музейного дела в СССР; структурнофункциональный метод дает возможность выделить ключевые тематические блоки в общем массиве публикаций и определить степень их значимости для изучения музейной истории в указанный период; герменевтический метод обеспечивает учет исторического контекста создания анализируемых текстов, что способствует более точной интерпретации их содержания.
В рамках исследования планируется проанализировать структуру газеты «Руль», выявить разделы, содержащие наибольший объем информации о советских музеях. Основные задачи работы включают анализ числа публикаций на музейную тематику, установление их взаимосвязи с социально-экономическими процессами, происходившими в стране, а также определение наиболее важных, по мнению журналистов издания, событий, оказавших влияние на развитие музейного дела. Особое значение имеет характер описания в эмигрантской газете «Руль» советских музейных событий. В работе последовательно рассматриваются номера газеты за период с 1920 по 1931 год.
Как уже отмечалось, представление музейной жизни Советской России и СССР в эмигрантской прессе 20–30-х гг. ХХ в. недостаточно полно освещено в современной историографии, поэтому научная значимость работы заключается главным образом в восполнении существующего пробела в изучении данной темы. Кроме того, анализ материалов газеты позволит расширить научные представления о характере освещения советской действительности в зарубежной прессе, а также оце- нить степень объективности передачи информации о развитии музейного дела в СССР.
* * *
Газета «Руль» была основана в ноябре 1920 г. видными деятелями кадетской партии – И. В. Гессеном, В. Д. Набоковым и А. И. Ка-минкой, которых объединяли не только общность политических взглядов, но и многолетние тесные дружеские связи. Главными редакторами издания в течение всего одиннадцатилетнего периода его существования являлись одновременно В. Д. Набоков (отец писателя В. В. Набокова) и И. В. Гессен. В разные годы ответственными редакторами выступали И. В. Гессен, Н. И. Радин, Г. В. Оф-росимов, Р. И. Штейн, А. А. Аргунов, А. Л. Бём, А. И. Каминка, А. А. Кизеветтер, С. С. Маслов, В. Е. Татаринов [10].
Издание освещало широкий спектр тем, включая политические конфликты, выборы, катастрофические события, достижения в области науки и спорта, развитие промышленности, а также изменения в советском законодательстве. Структура газеты включала разделы, посвященные новостям, объявлениям, аналитическим материалам и статьям, отчетам о мероприятиях. Литературные страницы появились в газете спустя некоторое время после начала ее издания.
Газета публиковала произведения новых авторов, в ее структуре также имелись регулярные рубрики о театральной и художественной жизни Москвы и Берлина. Культурные события Берлина, представленные в издании, включали международные выставки (сельскохозяйственные, промышленные, кустарные), а также рекламу русских эмигрантских театров, оркестров и ресторанов с концертной программой, вечерами музыки и поэзии 1. В газете регулярно выходил раздел «Хроника культуры», а также постоянные рубрики, посвященные выставкам и театральным постановкам. Например, в заметке «По выставкам» от 1921 г. сообщалось о проведении выставки картин Л. С. Бакста, К. А. Сомова, Б. М. Кустодиева, А. Е. Яковлева, С. Ю. Судейки-на, Н. В. Ремизова и Б. Д. Григорьева в парижской галерее Пеней [27].
Количество публикаций о событиях музейной жизни в советской России на страницах газеты «Руль» по годам (1920–1931)
Таблица 1
The nuтber of publications about тuseuт events in Soviet Russia on the pages of the newspaper “Rul” by year (1920–1931)
Table 1
|
1920 |
1921 |
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
1931 |
ИТОГО |
|
3 |
16 |
20 |
43 |
30 |
31 |
37 |
16 |
15 |
11 |
4 |
20 |
246 |
Cистематически освещала газета и события, связанные с трансформацией культурной и музейной сферы в раннесоветский период. Как известно, первые послереволюционные годы в России характеризовались кардинальной реорганизацией музейной системы, включая изменение принципов развития учреждений, методов экспозиционной работы и форм взаимодействия с аудиторией. Параллельно формируется сеть музеев новой тематической направленности.
Количество выявленных публикаций на музейную тематику, вышедших на страницах издания за весь период его существования, с разбивкой по годам приведено в Таблице 1, их общее число составило 246. Представленный ряд данных свидетельствует о том, что наибольший интерес к музейной жизни советской страны издание проявляло в период с 1923 по 1926 гг. (на эти пять лет приходится 161 публикация – по 32,2 в среднем на год, в то время как среднее арифметическое публикаций, рассчитанное за весь период, составляет 20,5 материала в год).
На страницах издания регулярно публиковались материалы, посвященные открытию музеев и модернизации музейной сети. Особое место занимали очерки сотрудников музеев, а также репортажи, детализирующие особенности музейных и дворцовых комплексов. Например, в 1922 г. газета информировала читателей о предстоящем открытии мемориального музея А. П. Чехова в Москве [22]. Аналогичное внимание уделяется музейной жизни Петрограда: публикации содержат не только информацию о происходивших в тот период институциональных изменениях, но и критические оценки музейных учреждений посетителями, как в случае с рецензией на обновленную экспозицию Толстовского музея [3].
Значимым явлением 1920-х гг. становится развитие Пскова и Новгорода как центров экскурсионного и туристического притяжения. Концентрация памятников древнерусского наследия в сочетании с географической близостью к европейским границам создала условия для активизации исторических и археологических исследований. Характерным примером новаторской музейной практики выступает упомянутый в «Руле» «Музей контрабанды», экспонировавший аутентичные артефакты и архивные материалы, связанные с нелегальным перемещением товаров через границу, а также документальные свидетельства о деятельности преступных групп и их лидеров [23].
В конце 1920-х гг. структура Псковского музейного фонда включала ряд самостоятельных подразделений: Исторический музей, Художественный отдел, Музей советского строительства, Антирелигиозный музей, Естественно-исторический музей, Музей революции и Дом-музей В. И. Ленина на Плехановском посаде. Обращая внимание на обширность музейных коллекций, газета «Руль» отмечает инициативу Академии истории материальной культуры, выступившей с предложением о придании Пскову и Новгороду статуса заповедных городов. В публикации подчеркивается, что «соответствующее ходатайство будет внесено в совнарком 1», а указанные города, «насыщенные первоклассными памятниками старины», планировалось использовать как центры экскурсионной деятельности и международного туризма [35].
Значительный интерес представляют материалы, освещавшие отдельные решения, не способствовавшие сохранению исторического наследия. Так, передача дворцов и усадебных комплексов под нужды общественных организаций в ряде случаев приводила к деградации архитектурных объектов, незаконной реализации музейных предметов через комиссионные сети и утрате коллекций из-за ненадлежащих условий хранения и отсутствия организованной охраны. В качестве примера газета приводит ситуацию с петербургскими особняками: Юсуповский дворец был передан профсоюзу работников просвещения, который, эксплуатируя здание, довел его до плачевного состояния. Шуваловский дворец, по выражению автора материала, «как дом-музей тоже улыбнулся. Самая память о доме-музее канула в Лету» [7]. Зимний и Ше-реметевский дворцы оказались под угрозой утраты исторических интерьеров. Критикуя эти процессы, автор публикации использует метафору «уничтожение музейных младенцев», отмечая вовлеченность в них как государственных органов, так и профессионального сообщества [7].
Особое внимание «Руль» уделял чрезвычайным происшествиям в музейной сфере – заметки о них почти всегда носили эмоциональный характер. Реакцию газеты вызвало дело директора Исторического музея Н. М. Щёко-това, секретаря П. А. Серповского и ученого сотрудника Н. С. Щербатова, которые в 1922 г. были привлечены к ответственности за халатность, приведшую к хищению музейных ценностей на фоне систематического пренебрежения обязанностями, связанными с охраной экспозиции [12, с. 4]. Случаи краж из музеев издание систематически освещало на протяжении одиннадцати лет, включая, например, похищение произведений искусства из Эрмитажа в 1923 г. [14] и кражу пяти картин из московского Музея изящных искусств в апреле 1927 г.: «Христос» Х. Рембрандта, «Ecce Homo» («Се человек») В. Тициана, «Святое семейство» А. Корреджо, «Святой Иоанн» К. Дольчи и «Бичевание Христа» Н. Пизано – общей оценочной стоимостью 655 тыс. руб. (по довоенным меркам). Несмотря на усиленную охрану, преступникам удалось похитить полотна, что породило версии о причастности международной преступной группы [13].
Появлялись на страницах эмигрантской газеты и сообщения о кадровом дефиците и недостаточном финансировании музейных учреждений в советской России. Например, журналисты «Руля» в 1920 г. сообщали, что в Эрмитаже из-за нехватки сторожей публичный доступ ограничили тремя днями в неделю, а охрану обеспечивали временными наемными сотрудниками [39]. Еще одним деструктивным фактором, на который обращалось внимание в публикациях, были техногенные катастрофы: пожар 1923 г. в Соловецком монастыре, использовавшемся как лагерь принудительных работ, привел к утрате колокольни и деревянных построек [8].
Отдельным аспектом государственной политики 1920-х гг., также отражавшимся в публикациях «Руля», стала экспроприация церковных ценностей [40], инициированная советским правительством в условиях борьбы с последствиями голода и нехватки валюты. Реализация конфискационного плана позволила бы добиться создания партийного «золотого фонда», предназначенного для решения задач хозяйственного строительства, поддержания обороноспособности и т. д. [15]. Процесс экспроприации, начавшийся в феврале 1922 г., курировался губернскими комиссиями, действовавшими под эгидой Центральной комиссии помощи голодающим (Помгол). Параллельно ВЦИК учредил в губерниях свои собственные комиссии [25].
21 августа 1924 г. Народным комиссариатом финансов был издан секретный циркуляр № 19/ф, регламентировавший порядок ликвидации предметов религиозного культа (см.: [38]). Согласно данному документу, все предметы, изготовленные из драгоценных металлов, подлежали передаче в Государственное хранилище ценностей (Гохран), а вещи, обладавшие исторической или художественной ценностью, направлялись в Главное управление научными и музейными учреждениями (Главмузей) [15]. Предметы культового назначения, прошедшие обряд освящения (иконы, ризы, хоругви, покровы и т. д.), передавались верующим «для переноса в другие молитвенные здания того же культа…» (Цит. по: [38, с. 147]).
В период 1920-х гг., наряду с экономическими мерами, другим направлением деятельности государственных органов в отношении церкви стало закрытие культовых учреждений. Большинство из них передавалось в распоряжение различных ведомств. Координацией этого распределения занимался Народный комиссариат просвещения, который также разрабатывал практические рекомендации по использованию освободившихся зданий и церковного имущества.
Материалы, опубликованные в газете «Руль», содержат подробное описание процессов вывоза и продажи за границу культурных ценностей, изъятых у религиозных учреждений. Например, данные, опубликованные в 1922 г., относились к демонтажу и переплавке колоколов, а также реализации на европейских аукционах окладов икон и других предметов культа. Публикация опиралась на сообщение корреспондента ревельской газеты «Жизнь», по информации которого, конфискованные в провинции церковные ценности направлялись большевиками в Москву, где в одном из флигелей Кремлевского дворца был организован специализированный склад. Данный объект, находившийся под круглосуточной охраной «коммунистического отряда совнаркома» [36], служил местом временного хранения изъятых предметов. Также сообщалось, что их переплавка производилась на Московском аффинажном заводе, деятельность которого велась в интенсивном режиме. Руководство процессами приема, хранения, переработки и распределения ценностей было возложено на И. С. Уншлихта – заместителя начальника Главного политического управления (ГПУ, преемника ВЧК).
По данным западных корреспондентов, операции проводились в условиях строгой секретности под контролем сотрудников ГПУ. Персонал кремлевского склада и аффинажного завода комплектовался исключительно членами коммунистической партии. После поступления церковных ценностей осуществлялась их сортировка: предметы, обладающие исторической или художественной значимостью, изымались из общего потока и сохранялись на складе до получения особых указаний Совнаркома. Остальные изделия из золота и сере- бра подвергались переплавке. Драгоценные камни, извлеченные из культовых предметов, передавались комиссии экспертов-ювелиров для оценки, после чего направлялись в Гохран [26].
В публикациях также отмечалось, что одна часть переработанных драгоценных металлов поступала на Петроградский монетный двор, другая – передавалась Народному комиссариату внешней торговли (Наркомв-нешторг), при этом корреспондент указывал, что «наркомвнешторгом отправлено значительное количество церковных вещей в Одессу, откуда они вывозятся в Турцию» [36].
Экспроприация церковного имущества вызывала негативную общественную реакцию. Несмотря на то, что золотовалютные резервы страны временно пополнялись за счет выручки от реализации конфискованных ценностей, вскоре возникла необходимость в дополнительных мерах по приобретению золота у населения. Одним из таких механизмов в 1920-х гг. стали комиссионные магазины, которые принимали ювелирные изделия и драгоценный лом, выступая важным источником пополнения государственного бюджета.
Активное использование сети советских комиссионных магазинов для реализации культурных ценностей отмечалось и в публикациях газеты «Руль», писавшей в 1928 г., что «развернутая сеть советских комиссионных магазинов проводит “распродажи”, рассчитанные на иностранных туристов: один раз в неделю, по понедельникам, в Москве, на Арбатской площади, в аукционе “Прага”» [32]. На этих аукционах, организованных в бывшем ресторане, продавались предметы искусства и антиквариат по заниженным ценам, что привлекало сотрудников иностранных дипломатических миссий и частных лиц. Автор публикации подчеркивал, что они «скупают картины, мебель, хрусталь, ковры, бронзу, скульптуру и антикварные ценности для того, чтобы купленные здесь за бесценок вещи продать за границей с огромной пользой» [32].
Значительная часть реализуемых вещей была из ранее национализированных коллекций. Среди проданных в «Праге» произведений в материале упоминаются «редкие и исключительные по ценности экземпляры картин Врубеля, Левитана, Серова, Айвазовского и десятка других художников, завоевавших себе мировое имя» [32]. Указывается, что часть предметов поступала в магазины через Главнауку Наркомпроса, которая «не знает цены этих вещей и продает за бесценок» [32].
По сообщению автора того же материала, дополнительным каналом пополнения ассортимента становились учреждения, размещенные в бывших дворцах и особняках. В частности, утверждалось, что «многие из этих учреждений для пополнения своих денежных средств продавали… все имущество тех особняков, в которых они расположились» [32].
Интерес редакции «Руля» вызвала продажа личных ценностей императорской семьи в 1924–1925 гг. Это представлялось закономерным: экономическая целесообразность реализации монархических реликвий сочеталась с идеологической неприемлемостью их прежних владельцев для новой власти. Данное мероприятие стало началом масштабной распродажи предметов из собраний Гохрана и Алмазного фонда. Последний на протяжении многих веков выполнял функцию главной сокровищницы российских монархов.
Одна их газетных публикаций того времени описывает подготовку к масштабной продаже имущества царской семьи в Москве и Петербурге. Среди выставленных на торги предметов упоминаются как повседневные вещи – «столовое белье, платья, ковры» [29],– так и уникальные ценности, включая «драгоценнейшие меха» и «золотую купель, в которой крестили новорожденных великих князей» [29]. Автор отмечает активную рекламную кампанию: московские газеты публикуют «заманчивые сообщения», а иллюстрированные журналы дополняют статьи снимками редких экспонатов. Эмигрантское издание отмечает, что участие в аукционах доступно лишь узкому кругу лиц – прежде всего «нуворишам, щедро наживающимся на советском режиме, и иностранцам» [29].
Описанные события косвенно свидетельствуют о важности для государства мер по реализации драгоценных активов, включая как экспонаты, хранившиеся в музейных собраниях, так и предметы, находившиеся в частном владении. В рамках антикризисной экономической политики был инициирован процесс широкомасштабной продажи художественных ценностей: произведений живописи, музейного серебра и золота, а также ювелирных изделий, не обладающих значимой историко-культурной атрибуцией.
Данная кампания была реализована через специализированное учреждение – контору «Антиквариат», которая, установив партнерские отношения с европейскими аукционными домами, организовала серию торгов. Информация об этих мероприятиях получала отражение в материалах газеты «Руль» (см., например: [6, с. 3]).
Однако, несмотря на первоначальный операционный успех, доходность этих продаж оказалась весьма краткосрочной. Уже через шесть месяцев власти констатировали экономическую неэффективность проекта, что обусловило изменение основного вектора деятельности: акцент теперь был перенесен на закрытые переговоры с крупными зарубежными коллекционерами, о чем свидетельствует публикация 1928 г. «Распродажа Эрмитажа». В статье указано, что по согласованию с советским правительством обсуждалась реализация трех шедевров из собрания Эрмитажа: полотен Х. Рембрандта «Возвращение блудного сына» и «Портрет матери», а также «Мадонны делла Каса» Рафаэля Санти [31].
* * *
Материалы газеты «Руль», издававшейся в Берлине в 1920-е гг. под редакцией В. Д. Набокова и И. В. Гессена, представляют собой значимый источник для изучения процессов музейного строительства и музейной жизни в СССР в рассматриваемый период. Публикации газеты отражают ключевые события музейной практики, зачастую предлагая иную интерпретацию фактов по сравнению с официальными советскими источниками.
Наиболее информативным для исследования стал раздел хроники газеты «Руль», посвященный культурным и музейным событиям 1920-х гг. Авторы публикаций стремились привлечь внимание читателей к проблемам, характерным для русских музеев данного периода. Вместе с тем, актуализируя какую-либо тему, издание ставило в ней разнообразные акценты, которые накладывали подчас до- статочно яркий отпечаток на транслируемые факты. Так, сообщая о событиях советской музейной жизни, газета в то же время писала о критических оценках, которые давали музеям их посетители. Информация о решениях властей по поводу эксплуатации архитектурных памятников в освещении журналистов «Руля» сопровождалась данными о негативных последствиях использования исторических зданий советскими общественными организациями. При размещении в газете новостей о чрезвычайных происшествиях в музейной сфере обращалось внимание на злоупотребления должностных лиц, проявления безответственности и халатности. Организационные и кадровые проблемы советских музейных учреждений трактовались эмигрантскими журналистами как причина ограничения доступа посетителей к музейным коллекциям. Наконец, продажа музейных ценностей (в том числе ранее принадлежавших царской семье или религиозным учреждениям) вызывала у авторов издания исключительно критическую реакцию, отнюдь не предполагавшую учета сложных социально-экономических обстоятельств, в которых оказалась страна, переживавшая последствия Гражданской войны; при этом журналисты акцентировали внимание читателей на фактах некомпетентности советских чиновников, отдельно отмечалась особая роль членов ВКП(б) в процедурах, связанных с переплавкой и переработкой драгоценных предметов.
Анализ опубликованных изданием материалов, посвященных советской музейной жизни, показывает, что в них находили свое отражение такие особенности эмигрантской прессы, как приверженность ценностям родной культуры и стремление к гласности. Однако необходимо иметь в виду, что эмигрантские издания (и газета «Руль» отнюдь не являлась в данном смысле исключением) часто выступали в качестве инструмента политической борьбы против советской власти. Их авторы, будучи представителями антибольшевистских кругов, стремились дискредитировать СССР, что могло приводить к субъективным интерпретациям событий, преувеличению негативных аспектов и замалчиванию положительных изменений. Например, критика собы- тий музейной жизни в советской России могла быть излишне эмоциональной и не всегда объективной.
Кроме того, эмигрантские авторы, находясь вдали от СССР, часто воспринимали происходящее в стране с достаточно большой культурной дистанции, через призму собственного опыта и представлений, что могло приводить к упрощенным или искаженным трактовкам. Например, советская музейная политика могла a priori интерпретироваться ими исключительно как варварское уничтожение культурного наследия при полном невнимании к сложным процессам трансформации музейного дела в новых политических условиях. В силу всех изложенных соображений использование исследуемых материалов требует тщательного анализа контекста, сопоставления с другими источниками и учета политической, идеологической и социальной ангажированности авторов.
Освещение исследуемой тематики в газете «Руль» находилось в очевидной зависимости от значимых событий, происходивших в советской музейной отрасли и вызывавших широкий общественный резонанс как среди жителей СССР, так и среди эмигрантских кругов (резонансные преступления, антропогенное разрушение архитектурных памятников, продажа ценностей за рубеж и др.).
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении материалов газеты «Руль» как источника по истории советского музейного дела. В отличие от предшествующих научных работ, акцентировавших внимание на политической полемике и литературной значимости издания, в настоящем исследовании впервые проанализировано освещение газетой ключевых событий музейной жизни.
Перспективным направлением дальнейшего изучения темы может стать углубленное исследование истории отдельных музеев или анализ конкретных событий музейной жизни с привлечением материалов газеты «Руль». Сопоставление данных, представленных в эмигрантской и советской периодике, позволит выявить новые аспекты в интерпретации резонансных культурных явлений периода 1920-х гг.
Yulia V. CHUVILKINA
Soviet Museums in the Publications of the Emigrant Newspaper Rul’ (1920s)