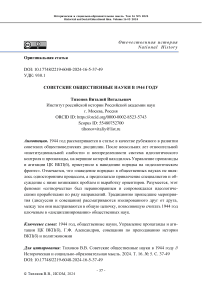Советские общественные науки в 1944 году
Автор: Тихонов В.В.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 5 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
1944 год рассматривается в статье в качестве рубежного в развитии советских обществоведческих дисциплин. После нескольких лет относительной «институциональной слабости» и неопределенности система идеологического контроля и пропаганды, на вершине которой находилось Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), приступило к наведению порядка на «идеологическом фронте». Отмечается, что «наведение порядка» в общественных науках не являлось односторонним процессом, а предполагало привлечение специалистов и обсуждение с ними возникших проблем и выработку ориентиров. Разумеется, этот феномен «сотворчества» был неравноправным и сопровождался идеологическими проработками по ряду направлений. Традиционно прошедшие мероприятия (дискуссии и совещания) рассматриваются изолированного друг от друга, между тем они выстраиваются в общую цепочку, позволяющую считать 1944 год ключевым в «дисциплинировании» общественных наук.
1944 год, общественные науки, управление пропаганды и агитации цк вкп(б), г.ф. александров, совещания по преподаванию истории вкп(б) и политэкономии
Короткий адрес: https://sciup.org/149147277
IDR: 149147277 | УДК: 930.1 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-5-37-49
Текст научной статьи Советские общественные науки в 1944 году
Общественные науки в Советском Союзе рассматривались в качестве важного участка «идеологического фронта», политического образования и просвещения. Предполагалось, что в создании «нового человека» гуманитарная составляющая должна играть ключевую роль, формируя «идеологически сознательную личность». В этом контексте грань между идеологией, образованием и наукой стиралась и открыто признавалось их тесное взаимодействие. Недаром Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (УПА) (работало в 1939–1948 гг., хотя под разными названиями существовало с 1920 г. и на протяжении всей советской истории) курировало развитие науки и образования.
Методы исследования, историография
В историографии устоялась точка зрения, что Великая Отечественная война заметно ослабила, а затем и трансформировала идеологический контроль [17] над общественными науками [2, с. 170; 4, с. 333-334]. Этому способствовал ряд факторов: во-первых, пропагандистская машина и система политического образования отвлеклись на более насущные проблемы военного времени; во-вторых, надзор был в значительной степени ослаблен из-за кризиса самой системы идеологического контроля, столкнувшейся с беспрецедентными трудностями, кадровыми потерями и нехваткой ресурсов, то есть система оказалась в состоянии относительной «институциональной слабости»; в-третьих, актуальные политические установки заметно менялись в зависимости от ситуативных факторов, что вносило заметную неразбериху и противоречивость в работу идеологов и транслируемых ими установок. В ситуации неопределенности «рядовые пропагандистского фронта» (а к ним относились очень и очень многие ученые-гуманитарии) получили известную свободу для импровизации и публичной демонстрации собственных убеждений и понимания текущего момента. Разумеется, в определенных рамках. Тем более, что в главном они были едины с властью: Родина в опасности, и для победы над врагом нужны общие усилия.
Многими исследователями отмечается, что 1944 год стал рубежным в идеологической сфере. Во многом это связывается с завершением в конце 1943 г. освобождения территории Советского Союза от оккупантов и выходом РККА за границу 1941 года [10; 2, с. 155]. Перед органами пропаганды и образования были поставлены задачи ресоветизации освобожденных территорий. Это предполагало определение новых идеологических ориентиров и решение многих организационных вопросов.
Помимо прочего, именно в 1944 году можно было наблюдать планомерную работу органов политического контроля за упорядочением ситуации в так называемых идеологических дисциплинах. Именно в этот год прошла серия совещаний и дискуссий, призванных выработать новые стандарты интерпретации тех или иных явлений и событий. В историографии череду совещаний и дискуссий рассматривают изолировано друг от друга. Особое внимание традиционно уделяется совещанию историков в ЦК ВКП(б). Между тем это событие являлось лишь элементом общего процесса «дисциплинирования» общественных наук и выработки новых установок. Системный подход позволяет увидеть общую логику этих событий.
Результаты
Нужно подчеркнуть, что формирование идеологических ориентиров не проходило в одностороннем порядке. Доминирующим форматом стали совещания, призванные не только и даже не столько донести новые идеологические установки, сколько выработать новые и скорректировать старые при участии ученых. Именно в военные годы наиболее ярко проявился феномен неравноправного сотворчества власти и интеллектуальной элиты.
Письмо Г.Ф. Александрова о проблемах пропагандистской работы
31 марта 1944 г. в Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) прошло совещание, посвященное положению на идеологическом фронте. Несмотря на высокую интенсивность идеологической работы, было признано, что сделано недостаточно. Начальник УПА Г.Ф. Александров озвучил организационные планы на будущее. В частности, он предлагал открыть Академию общественных наук для подготовки партийных и советских кадров [13, с. 247]. В этот же день на имя А.С. Щербакова от Александрова было отправлено письмо с подробными предложениями по улучшению пропагандистской работы. Заметное место в нем уделялось вопросам общественных наук и преподаванию их в вузах. Признавалось, что студентам недостаточно освещают героическое прошлое Родины. Среди некоторых преподавателей «появилась в последнее время тенденция поменьше говорить о классовой борьбе в Истории СССР и рассматривать деятельность всех царей как деятельность прогрессивную» [13, с. 500]. Некоторые из них якобы увлеклись буржуазной историографией и игнорируют марксистскую. Отмечалось отсутствие серьезных трудов по послеоктябрьской истории.
Утверждалось, что «в советской исторической науке не преодолено еще влияние реакционных историков-немцев, фальсифицировавших русскую историю, доказывавших, что именно немцы принесли русским начала государственности и т.д.» [13, с. 523]. Доля истины в этом утверждении, действительно, была. Так, в брошюре «Политические задачи немецкого солдата в России в условиях тотальной войны» утверждалось, что варяги были германцами и древнерусское государство следует назвать «Германским государством варягов» [3, с. 468-469]. Поэтому в годы войны развернулась настоящая кампания с критикой так называемой норманской теории, согласно которой первые русские князья имели скандинавское (германское) происхождение. Теперь в этом виделась историческая дискредитация славян. В свете этого любые утверждения, хоть как-то напоминающие немецкие расовые теории, без сомнений признавались идеологически вредными. В письме Г.Ф. Александрова в качестве примера «подыгрывания» немецким историкам приводилась книга А.И. Яковлева «Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. По архивным документам холопьего и посольского приказов, оружейной палаты и разряда» (Т. 1. М., 1943), награжденная в 1943 г. Сталинской премией [13, с. 523].
В отношении истории партии рекомендовалось усилить подготовку новых кадров через аспирантуру. На «философском фронте» предлагалось обсудить III том «Истории философии», подвергшийся критике из-за якобы излишнего пиетета перед немецкой классической философией. Также отмечались ошибки в IV томе того же издания, посвященном истории русской философии, в связи с чем предлагалось его переработать. Планировалось выпустить серию трудов признанных советской властью классиков русской материалистической философии (Ломоносова, Радищева, Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Плеханова).
Без внимания не осталась и политэкономия. В письме Г.Ф. Александрова указывалось, что экономисты все еще не используют замечания, сделанные Сталиным на совещании в начале 1941 года по учебнику политэкономии. Ощущается острый недостаток литературы. Критике подвергалась выпущенная Институтом мирового хозяйства АН СССР книга «Истощение экономических ресурсов фашистского военного хозяйства» (1943). Беспокойство вызывали и работы И.Г. Блюмина и Д.И. Розенберга по истории экономической мысли. В них русские экономисты якобы представали учениками иностранцев.
Настоящий разгром ждал работу сотрудника Госплана Н.И. Сазонова «Введение в теорию экономической политики СССР», где признавалось, что советское народное хозяйство, в котором сохраняются деньги и обмен, подчиняется тем же законам, что и капиталистическая экономика. Предлагалось провести критическое обсуждение трудов И.Г. Блюмина, Д.И. Розенберга и особенно Н.И. Сазонова [13, с. 525-526]. В итоге идеи Сазонова признали вредными сначала на заседании ученого совета Института экономики АН СССР, а затем и во всесоюзном масштабе на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук. Его обвинили в «полном игнорировании новых экономических законов развития производительных сил, порожденных социалистическим способом производства» [6, с. 54-55].
Дискуссии и совещания по вопросам общественных наук
Письмо Г.Ф. Александрова отражало главные «точки напряжения» в общественных науках с позиции контролирующих органов и намечало объекты для критики. Важным событием стало обсуждение III тома «Истории философии» (под редакцией – Г.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского, М.Б. Митина, П.Ф. Юдина), где рассматривалась немецкая классическая философия Канта, Фихте и Гегеля. Ранее книга получила Сталинскую премию.
Против издания выступил бывший секретарь парткома Института философии З.Я. Белецкий, работавший теперь в МГУ. 27 января 1944 г. он написал письмо лично Сталину, в котором убеждал, что немецкая классическая философия является аристократической реакцией на Французскую революцию. Авторов «Истории философии» обвинили в том, что они не сумели показать противоречие между прогрессивным методом Гегеля и его реакционным мировоззрением. Выводы были далеко идущими: «Эти ошибки свидетельствуют о серьезном неблагополучии в Институте философии АН СССР. Институт не освещал актуальных вопросов марксистко-ленинской философии, не разрабатывал философского наследия В.И. Ленина, не создал работ, разоблачающих разбойничью фашистскую идеологию. Институт не объединял, не готовил и не выдвигал молодые кадры теоретических работников, оторвался от научной общественности и научных учреждений…» [9]. Постановление фактически ставило знак равенства между немецкой идеалистической наукой и нацизмом. Учитывая тесную связь русской гума-нитаристики и немецкой научной традиции еще с XVIII–XIX вв., когда русские ученые именно в немецкой модели образования и науки видели идеал, приходится признать, что борьба с засильем немцев неизбежно ударяла по традициям отечественной науки. Директор Института философии М.Б. Митин лишился своего поста [1, с. 294-298]. Также его сняли с должности директора ИМЭЛ [8, с. 162]. Новым директором Института философии стал В.И. Светлов. Фактически произошло закрепление позиций влиятельного партфункционера Г.Ф. Александрова, который поставил в правление института своих сторонников [7, с. 188-190].
На протяжении всей войны «главной» наукой являлась история. Во многом это было следствием того «исторического поворота», который произошел в советской идеологии и общественных науках в середине 1930-х годов. Патриотическая пропаганда только усилила эту тенденцию, актуализировав образы прошлого в качестве актуального ресурса для патриотической мобилизации. В этом уже можно было увидеть призрак послевоенного сталинского «большого стиля», с его пафосом исторического величия и регулярной апелляцией к историческим аналогиям.
Между тем на «историческом фронте» обозначился явный кризис из-за столкновения разных идеологических и мировоззренческих установок. Его символом стал резонанс, вызванный изданием «Истории Казахской ССР» (1943) [15]. Для прояснения позиции историков было созвано совещание в ЦК ВКП(б), прошедшее весной – летом 1944 г. Совещание началось 29 мая 1944 г. и проводилось с перерывами 1, 5, 10, 22 июня и 8 июля. На мероприятие были приглашены ведущие историки Советского Союза.
По итогам совещания были осуждены все крайние точки зрения, а историкам фактически рекомендовалось пользоваться формулой «меньшее зло» в конструировании национальных историй. Совещание стало во многом поворотным событием в процессе создания новой концепции национальных историй народов СССР. На нем идеологи увидели основные противоречия, группировки и отчетливее могли сформулировать стратегию дальнейших действий. Демонстрация братства народов во главе с «великим русским народом» являлась актуальной задачей историков. Ясно, что антироссийские движения становились «неудобным»
материалом, который не рекомендовалось выпячивать. Появление новых директивных установок радикально изменило идеологический ландшафт советской исторической науки. Теперь историки оказались в более определенных концептуальных рамках, чем это было ранее.
В 1944–1945 гг. были обнародованы два важнейших идеологических документа – «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» [11] и «О состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной организации» [12]. В них отмечалось проявление «буржуазного национализма» и осуждалась идеализация феодального прошлого.
После того, как исчезли надежды на мировую революцию, а во внутренней политике начали преобладать патриотические мотивы, советская историческая наука совершила поворот к позитивному (в умеренной форме) освещению русской истории. Но во время войны вновь появились обоснованные надежды на дальнейшее распространение коммунистических идей за пределы СССР, а излишне патриотическая риторика могла этому помешать. Поэтому нужно было сохранить не только патриотические элементы идеологии, которые показали себя крайне эффективно во время войны, но и не отпугнуть воинствующим советским национализмом другие народы. На основании этих соображений и принималась резолюция совещания историков 1944 года. Ее авторы не поддержали ни одну из проявившихся на совещании позиций: они выразили недовольство как излишним принижением русской истории, так и излишней ее героизацией.
Однако обнародована резолюция не была. Причина, видимо, кроется в том, что главный идеолог, И.В. Сталин, был слишком занят ситуацией на военных фронтах и внешней политикой, а без него принимать важнейшие решения в идеологической сфере опасались. Более того, в самом ЦК не все одобряли слишком рьяную реабилитацию дореволюционного прошлого за счет привычного к тому времени набора антиимпериалистических, антиколониальных и интернационалистских идеологем.
Совещания по преподаванию общественных дисциплин
По мере освобождения ранее оккупированных территорий вставал вопрос о восстановлении работы высшей школы, просветительских и пропагандистских органов. Планы работ в этом направлении проходили согласование с рядом ведомств, в том числе и с Комитетом по делам высшей школы во главе с С.Ф. Каф-тановым [14, с. 69-78].
В 1944 г. Всесоюзный комитет по делам высшей школы провел серию общесоюзных заседаний, посвященных преподаванию общественных дисциплин. Близилось окончание войны, и руководство стремилось навести порядок на идеологическом фронте. Реэвакуация и освобождение ранее оккупиро- ванных территорий потребовало наладить систему преподавания общественных дисциплин в вузах.
На особом контроле Комитета находилось преподавание политэкономии и марксизма-ленинизма – ключевых «идеологических» общественных дисциплин. Еще в 1942 г. Г.Ф. Александров, Е.М. Ярославский и М.Б. Митин указывали, что преподавание в Высшей партийной школе, находившейся в эвакуации в Свердловске, находится на низком уровне. Предлагалось вернуть ВПШ в Москву [13, с. 175].
В 1944 г. Кафтанов направил записку на имя Г.М. Маленкова, в которой указывал, что из-за мобилизации и военных потерь существует острый дефицит преподавателей указанных дисциплин, особенно остро проблема стояла для освобожденных республик. Предлагалось организовать пятимесячные курсы для подготовки лучших выпускников исторических факультетов к чтению политэкономии и марксизма-ленинизма [13, с. 248-249].
Собственно курс политэкономии начали изучать в вузах в 1942/43 учебном году [6, с. 16]. 4 марта 1944 г. прошло совещание кафедр политической экономии. Программа курса разрабатывалась в Комитете по делам высшей школы, и теперь требовалось провести ее обсуждение. На заседании рассматривались и вполне технические проблемы (количество часов, специфика преподавания на разных факультетах, ведение семинарских занятий, привлечение аспирантов и т.д.), и содержательные вопросы курса (трактовка закона стоимости, определение политэконо-мических категорий и т.д.). Интересно высказывание членкора АН СССР, заведующего кафедрой политэкономии МГУ, председателя Экспертной комиссии по политэкономии Комитета по делам высшей школы при СНК СССР К.В. Островитянова, который говорил, со ссылкой на Сталина, о том, что ответы на все вопросы нужно искать не у Маркса, а следует исходить из практики социализма в СССР. В этом утверждении можно видеть предпосылки для политэкономической дискуссии, которую Сталин развернет в начале 1950-х годов и активным участником которой станет К.В. Островитянов [ГАРФ. Ф.8080. Оп.2. Д.78. Л.13-14.].
14-19 августа 1944 г. прошло 3-е Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук1. Докладом «О постановке преподавания марксизма-ленинизма в вузах» его открывал Кафтанов. В выступлении указывалось, что помимо уже канонизированного «Краткого курса истории ВКП(б)» особую актуальность приобретает новая книга Сталина – «О Великой Отечественной войне Советского Союза». Касаясь преподавания марксизма-ленинизма, Кафтанов подчеркнул, что главная претензия к ведению этого ключевого идеологического предмета заключается в том, что курс читается в отрыве от актуальной политической ситуации. Если отбросить бюрократические и идеологические клише, то речь шла о потере главным идеологическим курсом своей мобилизующей функции, переходе его в перформативное состояние. В условиях, когда война подходила к концу и военная пропаганда постепенно теряла былую актуальность, требовалось вновь активизировать мобилизующую функцию марксизма-ленинизма, но теперь уже в обновленном, сталинском формате. Призыв обращаться к современному опыту неизбежно подразумевал в такой начетнической дисциплине обращение к текстам единственного живого классика – Сталина. Кроме того, такой подход должен был способствовать реализации принципа единства теории и практики, что в условиях послевоенного восстановления представлялось актуальным [16, с. 10-47].
Касаясь кадрового состава, Кафтанов отметил, что преподавателей общественных наук в вузах относительно немного. Из общего числа в 35 487 их всего 2771 человек, то есть 7,2%. Особенно мало преподавателей философии – 77 человек. При этом качественные характеристики преподавателей марксизма-ленинизма зачастую были самыми низкими. Профессоров и доцентов среди преподавателей философии было 63,7%, среди преподавателей политэкономии – 61,8%, среди преподавателей истории СССР – 48,8%, а вот среди преподавателей марксизма-ленинизма – 32,8%. При этом докторскую степень имели только около 5%, а среди преподавателей марксизма-ленинизма таких оказалось только 0,7% (7 из 1376 чел.). Схожая картина наблюдалась и в ситуации с обладателями кандидатской степени. По всем дисциплинам – около 20%, среди преподавателей марксизма-ленинизма – 11,8%, больше всего среди историков – 30,4% [16, с. 43].
Сохранялась проблема недоукомплектования кадрами. Среди преподавателей марксизма-ленинизма дефицит составлял 10,5%, политической экономии – 13%, философии – 16,5%, истории – 12% (в том числе истории СССР – 11,2%) [16, с. 44]. Особенно проблемными являлись освобожденные территории. Существовал острый недостаток кадров в национальных республиках, особенно представителей коренных национальностей. Нужно, как указывалось, значительно расширить аспирантуру. Оперативно решить проблему предполагалось при помощи шестимесячных курсов повышения квалификации для преподавателей марксизма-ленинизма.
Кафтанов призывал активизировать научную работу на обществоведческих кафедрах1. Также он указывал, что статус кафедр марксизма-ленинизма и их преподавательского состава требует особого умения общения с людьми. Кафтанов привел следующий анекдотичный случай: «К сожалению, у нас иногда проявляются среди менее подготовленной части преподавателей элементы зазнайства. Они ведут себя иногда как пророки марксизма-ленинизма: не допускают живого обсуждения вопросов; то, что они говорят, – истина и никто не может возражать или дополнить их мысль; все, кто высказывается против их утверждений, высказывается против марксизма-ленинизма. Приведу один факт, о котором мне рассказали студенты и товарищи, проверявшие этот факт. Случай произошел с преподавателем марксизма-ленинизма Московского художественного института т. Дурикиным. Студент защищал в институте дипломную работу. Работа была выполнена не на высоком уровне мастерства, т.е. человек не доучился, недовыполнил взятую им неплохую тему. Присутствовавший на государственном экзамене т. Дурикин высказал мысль, что студент написал плохую картину потому, что он плохо изучал марксизм-ленинизм. Студент ответил, что Репин не изучал марксизма-ленинизма, а картины писал хорошие. Тов. Дурикин на это заметил, что если бы Репин изучал марксизм-ленинизм, то писал бы еще лучшие картины. Но студент тоже не растерялся и ответил тов. Дурикину примерно так: «Если по знаниям марксизма-ленинизма измерять мастерство художника, то вы должны быть самым крупным художником в мире» [16, с. 53-54].
Директор Института философии АН СССР В.И. Светлов представил доклад «О недостатках преподавания философии в вузах». Фоном являлась критика III тома «Истории философии», где давалась немецкая классическая философия. В.И. Светлов указывал, что в некоторых вузах слишком много внимания, вопреки рекомендациям Комитета, уделялось немецкой идеалистической философии в ущерб рассказу о марксизме и материализме.
В том же августе прошел VII пленум ЦК Союза работников высшей школы и научных учреждений, на котором Кафтанов озвучил директивные установки в развитии вузовской науки в докладе «Задачи высшей школы в 1944/45 учебном году». Касательно общественных наук он остановился на преподавании марксизма-ленинизма, который преподносится для студентов слишком сухо и схоластично.
Кафтанов касался в своем выступлении и критики за «преувеличение» роли немецкой философии III тома «Истории философии»: «В период Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков особое значение приобретает разоблачение всех тех реакционных философских и политических взглядов и течений, которые в дальнейшем послужили идейным источником человеконенавистнической расовой теории всей лженауки фашизма в целом» [5, с. 16].
В области политэкономии главным недостатком объявлялась абстрактность. Особое внимание уделялось истории. Указывалось, что необходимо сделать особый акцент на русской истории – русской государственности, русском военном искусстве, русской науке, международной роли России. В свете совещания историков в ЦК ВКП(б) отмечалось, что нельзя представлять историю народов «как сплошные восстания, направленные против России». В то же время, «желая оттенить прогрессивную роль русского народа, отдельные историки нередко от- носят все положительные факты нашей истории на счет царизма, всякие мероприятия царизма толкуют как прогрессивные, что не только является неправильным, но и умоляет всемирно-историческое значение Октябрьской социалистической революции» [5, с. 18]. Подчеркивалось, что героизация прошлого должна перекликаться с героическим настоящим. Наконец, самое пристальное внимание рекомендовалось обратить на историю русской науки и культуры, продемонстрировать ее исключительный вклад в мировую историю. Эти установки станут ведущими в послевоенное время.
Выводы
Итак, 1944 год стал ключевым в «дисциплинировании» «фронта общественных наук». Военное время привело к ослаблению идеологического контроля. Более того, соотношение и актуальность идеологем менялись в зависимости от смены ситуации на фронте и внешнеполитических реалий. Теперь все это планировалось привести в порядок. Для этого решались вопросы обеспечения кадрами, выстраивались структуры образовательных курсов. В условиях идеологической «неопределенности» контролирующие органы пытались в неравноправном диалоге с учеными и преподавателями определить актуальные концептуальные рамки.
Список литературы Советские общественные науки в 1944 году
- Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС, 1922–1991. Т. 1. 1922–1952. – М.: РОССПЭН, 2000.
- Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм: советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). – М.: Политическая энциклопедия, 2017.
- Война: 1941–1945. – М., 2010.
- Дубровский А.М. Власть и историческая мысль в СССР (1930–1950-е гг.). – М.: Политическая энциклопедия, 2017.
- Кафтанов С.В. Задачи высшей школы. – М., 1944.
- Кондакова Н.И., Куманев Г.А. Ученые-гуманитарии России в годы Великой Отечественной войны. Документы. Материалы. Комментарии. – М., 2004.
- Корсаков С.Н. Институт философии и Великая Отечественная война // Философия науки и техники. – 2015. – Т. 20. – № 2. – С. 179–192.
- Мухамеджанов М.М. От власти идеи к идее власти. Из истории Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М.-СПб.: Нестор-история, 2018.
- О марксистко-ленинском воспитании кадров советской интеллигенции // Большевик. – 1944. – № 6.
- Орлов И.Б. Национальный и интернациональный компонент советской военной пропаганды // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы: Мат-лы VI междунар. науч. конф. Киев, 10–12 октября 2013 г. – М.: РОССПЭН, 2014. – С. 406–415.
- Пропагандист. 1944. № 15–16. – С. 19–22.
- Пропагандист. 1945. № 3–4. – С. 16–18.
- Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны / авт.-сост. А.Я. Лившиц, И.Б. Орлов. – М.: РОССПЭН, 2007.
- Советская пропаганда на завершающем этапе войны (1943–1945 гг.): Сб. док. / авт.-сост. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. – М., 2015.
- Тихонов В.В. «Коренной перелом» на историческом фронте: «История Ка-захской ССР» (1943) и ее критика // История и историки: историографиче-ский вестник. 2020–2024 / отв. ред. Ю.А. Петров. 2024. – С. 138–164.
- III Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. 14–19 августа 1944 г.: Сб. мат-лов. – М., 1945.
- Berkhoff K. Motherland in danger: Soviet propaganda during World war II. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. Press, 2012.