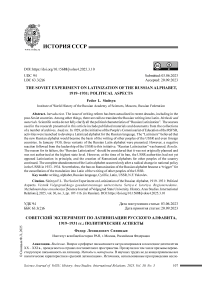Советский эксперимент по латинизации русского алфавита, 1919–1931 гг.: политические аспекты
Автор: Синицын Ф.Л.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: История СССР
Статья в выпуске: 3 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Вопрос о реформе письменности актуализировался в последние десятилетия XX – XXI в., прежде всего в странах постсоветского пространства. Прозвучали в том числе призывы перевести русскую письменность на латиницу. Методы и материалы. В научных трудах не до конца прояснены все политические характеристики «русской латинизации». Источники, использованные при проведении исследования, представленного в данной статье, включают опубликованные материалы и документы из фондов ряда архивов. Анализ. В 1929 г. по инициативе Наркомата просвещения РСФСР была развернута деятельность по разработке латинизированного алфавита для русского языка. «Латинизаторы» считали, что новый русский алфавит станет основой письменности других народов СССР и даже зарубежных стран. В январе 1930 г. были представлены три варианта русской латиницы. Однако от руководства СССР на эту инициативу последовала отрицательная реакция. «Русская латинизация» была запрещена. Результаты. Причиной неудачи «русской латинизации» следует считать то, что изначально она не планировалась и не была санкционирована на высшем государственном уровне. Однако в момент ее запрета власти СССР еще не выступали против латинизации в принципе, и создание латинизированных алфавитов для других народов страны продолжалось. Полный отказ от латиницы произошел лишь после кардинального изменения национальной политики в СССР в 1933–1934 годах. Тем не менее запрет латинизации русского алфавита стал «триггером» для отмены перевода на латиницу письменности других народов СССР – сначала этносов Крайнего Севера, затем угро-финских народов Поволжья и Урала и наконец – всех остальных.
Письменность, алфавит, русский язык, кириллица, латиница, СССР, Н.Ф. Яковлев
Короткий адрес: https://sciup.org/149148813
IDR: 149148813 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.3.10
Текст научной статьи Советский эксперимент по латинизации русского алфавита, 1919–1931 гг.: политические аспекты
DOI:
Цитирование. Синицын Ф. Л. Советский эксперимент по латинизации русского алфавита, 1919–1931 гг.: политические аспекты // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регио-новедение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 107–116. – DOI: jvolsu4.2025.3.10
Введение. Как минимум со второй половины XVII в. в России было отмечено появление русскоязычных записей и на латинице. В 1842 г. К.М. Кодинский в своей книге «Упрощение русской грамматики» подверг критике русский алфавит и призвал к переходу на латиницу. Тремя годами позднее В.Г. Белинский предложил свой вариант русской латиницы [11; 5]. Призывы перевести русскую письменность на латиницу время от времени раздаются до сих пор [4, с. 23]. В целом вопрос о реформе письменности актуализировался в последние десятилетия XX–XXI в. в ряде других стран постсоветского пространства – на латинский алфавит перешли азербайджанский, молдавский, узбекский и туркменский языки, готовится перевод на нее казахского языка.
Методы и материалы. В 1920–1930-х гг. научно-исследовательская работа в сфере лингвистики в СССР получила значительный импульс, обусловленный развернутым в стране «языковым строительством», включавшим в том числе разработку письменности и литературного языка для десятков народов Советского Союза. Среди ученых, внесших заметный вклад в эту деятельность, следует отметить В.М. Алексеева, Б.М. Гранде, Е.Д. Поливанова, Н.Н. Поппе, Н.Ф. Яковлева. В дальнейшем в СССР и современной России было издано множество трудов, посвященных истории «языкового строительства» (среди авторов – В.М. Алпатов, В.В. Базарова,
М.Н. Губогло, Ю.Д. Дешериев, М.И. Исаев и другие ученые). В частности, в монографии и статьях В.М. Алпатова [2–4] рассмотрены отдельные аспекты деятельности «латиниза-ционной» подкомиссии Н.Ф. Яковлева, однако еще не до конца прояснены все политические особенности процесса «русской латинизации».
Цель исследования, представленного в данной статье, заключается в определении роли и места деятельности по латинизации русской письменности в советской государственной политике и практике, ее корреляции с направлениями национальной политики. Источники, использованные при проведении исследования, включают опубликованные материалы и документы из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Архива РАН (АРАН) и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПФ АРАН). В качестве методологической основы исследования взяты принципы научной объективности и историзма. Из числа общенаучных применены исторический и логический методы, а в тесной связи с общенаучными – другие специальные методы, характерные для исторического исследования.
Анализ. Как известно, после Октябрьской революции в Советском государстве были отвергнуты даже положительные моменты истории дореволюционной России, которая получила клеймо «тюрьмы народов», а русский народ – статус «колонизатора» и «поработителя». В СССР была развернута кампания по «коренизации», которая заключалась в том числе в минимизации использования русского языка.
В рамках таких тенденций в 1919 г. во властных кругах РСФСР «возникла мысль о желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию Республики», и начать было предложено с русской письменности. Подходы, которыми в эти годы и позднее руководствовались сторонники латинизации, базировались на уверенности, что кириллица – это якобы негодная, «ветхая», «отсталая» графика (мало того – даже «наиболее отсталая» по сравнению с письменностями народов СССР, уже перешедших на латинскую основу), она «не годится» [14, л. 2; 25, л. 122; 30, л. 20–21; 32, л. 12–13] для решения задач «социалистического строительства».
Одновременно пропагандировались «преимущества» латинского алфавита. Во-первых, его «интернациональное» значение [8, л. 8 об.; 14, л. 2] (что было важным в условиях ожидания «Мировой революции»). Во-вторых, латиницу рассматривали как инструмент обеспечения разрыва с «проклятым прошлым» [15, с. 214–215]. В-третьих, указывали на то, что «латинский алфавит... удобен, прост и легко читаем» [23, л. 63] (даже было посчитано, что в этом он якобы «превосходит русский» ровно в четыре раза [35, с. 39, 41]). «Латинизаторы» были уверены, что введение латиницы «даст рационализацию системы письма» [15, с. 216], в частности, устранит «лишние буквы, что позволит сократить их число до 30» [35, с. 40]. В-четвертых, считалось, что «введение нового алфавита сократит срок и облегчит процесс обучения грамоте», а также взаимное изучение русского и «нерусских» языков [8, л. 8; 16, с. 216].
Разумеется, у латинизации уже в 1919 г. обнаружились противники в лице ученых – членов Московской диалектологической комиссии (председатель – Д.Н. Ушаков) и Московского лингвистического кружка (председатель – Р.О. Якобсон), которые в письме, направленном в Наркомат просвещения РСФСР, разбили все доводы «латинизаторов» [14, л. 1–1 об.].
Тем не менее в начале 1920-х гг. в стране была осуществлена некоторая практическая деятельность в сфере латинизации рус- ской письменности. Научный отдел Нарком-проса провел ряд заседаний и разослал информацию об этой инициативе в ведущие высшие учебные заведения страны [8, л. 9–10 об., 16; 31, л. 10]. Однако в те годы эта деятельность не была активной и не привела к практическим результатам.
В то же время в 1920-х гг. в Советском Союзе начали осуществлять программу перевода письменности многих народов – в первую очередь ранее пользовавшихся арабской письменностью – на латинскую основу и создания на этой основе алфавитов для бесписьменных этносов (так называемый новый тюркский алфавит, НТА). Были созданы Всесоюзный центральный комитет нового тюркского алфавита (далее – ВЦКНТА), позднее переименованный во Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (далее – ВЦКНА), и аналогичные региональные структуры (костяк «латинизато-ров» включал видных советских деятелей, представлявших в основном кавказские и среднеазиатские регионы страны, в их числе были С. Агамали-Оглы, Д. Коркмасов, Н. Тюряку-лов и др.). Достижения латинизации к концу 1920-х гг. (на латиницу была переведена основная часть письменности народов Азербайджана, Средней Азии, Северного Кавказа) стали не только основанием для утверждений «латини-заторов» о «регрессии» русской письменности, но и катализатором возрождения деятельности по латинизации русского алфавита [13, с. 23; 23, л. 64; 30, л. 3, 12, 19, 22]. Разворачивание этой работы поддерживал известный советский деятель А.В. Луначарский.
В 1929 г. Наркомат просвещения РСФСР развернул разработку реформы русской орфографии. Одновременно с этим вновь всплыл вопрос о латинизации. В ноябре 1929 г. по инициативе Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями Наркомпроса РСФСР (Главнауки) в составе комиссии по реформе орфографии была организована подкомиссия по разработке вопроса о латинизации русского алфавита под руководством Н.Ф. Яковлева 1.
Для «идейного подкрепления» возрождения латинизации русской письменности были выдвинуты аргументы, которые в целом соответствовали подходам, разработанным «ла-тинизаторами» ранее.
Во-первых, целью этой деятельности была объявлена «унификация» алфавитов всех народов страны. Звучали также доводы, что латинизация приведет к «международному признанию русского языка», «применению его как мирового» или как минимум включению Советского Союза в «международное научное общение» [8, л. 7 об.; 20; 30; 23, л. 63, 66].
Во-вторых, была подсчитана экономическая выгода от латинизации. Член подкомиссии профессор В.В. Николаев произвел «микрометрические измерения существующего русского алфавита» и выявил, что переход на латиницу даст экономию в типографском наборе на 11 %. Эту цифру «латинизато-ры» не только стали постоянно использовать как важнейший аргумент, но и нередко увеличивали ее до 15 % [22, л. 57; 26, л. 60] и даже 20 % [13, с. 25]. Подкомиссия рассчитала, что переход на латиницу даст в 1932– 1933 гг. экономию в размере 18,145 млн руб. и позволит «совершенно избавиться от импорта бумаги», после чего на сэкономленные средства «можно будет ежегодно ввозить не менее 1 500 наборных машин» либо «печатать 500 млн лишних оттисков книг» [22, л. 72]. «Ла-тинизаторы» заявили, что только переход с «и» на «i» должен дать экономию до 4 млн руб. в год, в том числе до 1 млн руб. в иностранной валюте, на которую закупались цветные металлы для производства типографских литер [24, с. 99–100]. Еще одним обоснованием курса на латинизацию была объявлена ее «всеобщая поддержка». (Действительно, некоторые люди присылали в Москву проекты латинизации русской письменности и создания соответствующей орфографии [21, л. 64–70; 23, л. 65; 26, л. 41, 55 об. – 56; 30, л. 23–24].)
Несомненно, перевод русской письменности на латиницу был трудной задачей. Подкомиссия по латинизации полагала, что латинизация «может пройти полностью только к концу [первой] пятилетки» [22, л. 72] (то есть к концу 1932 г.) либо даже «в срок не менее четырех лет» (без затрат на капитальное переоборудование полиграфии) [15, с. 216], то есть к концу 1933 года. Трудности имелись и в идейно-политической сфере.
Во-первых, непросто было обосновать сам отказ от кириллицы и переход на латиницу, так как оба алфавита не имеют принципи- альных отличий [2, с. 52]. Поэтому привести те же аргументы, которые использовались «латинизаторами» при переводе на латиницу письменностей, раньше имевших совершенно иную, например арабскую, основу, было невозможно. (Характерно, что в 1920-х гг. жителям СССР, пользовавшимся арабской письменностью, и латинский, и русский алфавиты казались «одинаковыми» [16, с. 173].)
Во-вторых, «мешало» наличие богатейшего культурного наследия на русском языке, написанного и изданного кириллицей. Действительно, в истории еще не было примера смены системы письма для языка с таким количеством литературы, как русский (а также, например, японский или китайский) [2, с. 53]. Закономерно, что известный советский синолог академик В.М. Алексеев считал, что для русского языка переход к латинизации «будет так же труден», как для китайцев – отказ от иероглифов. (Аналогичное признание этой трудности звучало, когда латинизация русской письменности выдвигалась как аргумент за латинизацию китайской и наоборот [8, л. 8 об.; 27, л. 1; 31, л. 11 об.].)
«Латинизаторы» признавали наличие трудностей вплоть до констатации факта, что взрослую часть русского населения переучить на латиницу будет невозможно. Они сетовали на то, что длительное время придется совмещать и старый, и новый варианты письменности [8, л. 8 об.; 14, л. 2].
Тем не менее «латинизаторы» были уверены, что эти трудности вполне преодолимы. На заседании подкомиссии по латинизации русского алфавита при Главнауке 14 января 1930 г. было объявлено, что, «конечно, все ценное из области художественной и научной литературы должно быть переиздано на новом алфавите». Н.Ф. Яковлев тогда же отметил, что «количество неграмотного русского населения до сих пор почти равно количеству грамотных» (то есть далеко не всех нужно будет переобучать), и «все расходы на латинизацию, несомненно, будут покрыты в ближайшее же время достигнутой экономией» [15, с. 211, 215].
Упор на экономию и «унификацию» всех советских алфавитов как основную цель был сделан «русскими латинизаторами» именно ввиду осознания трудности доказывания пре- имущества латинской графики перед русским алфавитом [16, с. 142]. Так, Н.Ф. Яковлев обходил эту проблему с помощью утверждения, что проблема кириллицы состоит не в ее качествах, а в том, что она в отличие от латиницы не является «мировым алфавитом» (цит. по: [3, с. 145]).
В задачу подкомиссии, созданной под руководством Н.Ф. Яковлева, входила главным образом разработка «принципиальной стороны вопроса о латинизации», что и было сделано в виде формулирования принципов построения нового алфавита: «Использовать без графического изменения возможно большее число букв латинского алфавита»; «число букв... должно быть меньше, чем в теперешнем русском» и т. д. Кроме того, в январе 1930 г. подкомиссия представила разработанные ею три «пробных» варианта русской латиницы: a, b, v, g, d, e, z (ж), z, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, f, x, ç (ц), c (ч), ş (ш), y (ы), í (ь), ú (ю), á (я), ó (е); a, b, v, g, d, e, z, z, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, f, x, ç, c, ş, y, j (ь), ü (ю), ä (я), ö (ё); a, b, v, g, d, e, z, z, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, f, x, ç, c, ş, ь (ы), j (ь), y (ю), Э (я), e (ё) [15, с. 208, 212– 213, 216–218].
-
6 января 1930 г. Н.Ф. Яковлев был приглашен сделать доклад в Коммунистической академии об идейно-теоретических основах и итогах работы подкомиссии по латинизации. Однако ученый секретарь подсекции материалистической лингвистики Комакадемии В.Б. Аптекарь еще до начала доклада обозначил свое неоднозначное отношение к «русской латинизации», высказал критику всего опыта латинизации в СССР и выразил сомнительное отношение к компетентности Главнауки в этой сфере [30, л. 1–2].
После доклада Н.Ф. Яковлева В.Б. Аптекарь вновь подверг сомнению идею, что латинизация будет служить «одним из рычагов социалистического строительства» и сможет дать экономию. Он напомнил, что для сотен миллионов человек вполне эффективно применяется китайская и индийская письменность и что дореволюционное «тяжелое наследие» русского алфавита к началу 1930-х гг. (то есть через много лет, прошедших после Октябрьской революции) уже не более значимо, чем «колонизаторское» наследие латиницы. Аптекарь отметил, что «целый ряд начертаний ла- тинского алфавита гораздо хуже для восприятия, чем знаки русского алфавита», обвинил «латинизаторов» в «западничестве» и «обезьянничестве» и заявил, что латиница – это инструмент «мирового капитализма» [30, л. 39–42].
Сведения о дискуссии уже на следующий день были опубликованы в газете «Вечерняя Москва» с закономерным выводом, что «направление работ подкомиссии Главнауки не встречает особого сочувствия у работников подсекции материалистической лингвистики Коммунистической академии» [12].
Тем не менее «латинизаторы» во всеуслышание объявили о результатах их деятельности, опубликовав 13 января 1930 г. статью в «Литературной газете» [33]. Очевидно, они ожидали похвалу и поощрение своей дальнейшей работы.
Через три дня заведующий Главнаукой И.К. Луппол через наркома просвещения РСФСР А.С. Бубнова сообщил И.В. Сталину, что подкомиссия под руководством Н.Ф. Яковлева успешно завершила «предварительную проработку» латинизации русской письменности. Однако эта информация была подана «с оглядкой»: «Всякие слухи о предстоящем якобы уже введении латинского алфавита не основательны. Вопрос... лишь прорабатывается в органах Наркомпроса» [24, с. 99–100]. Очевидно, у чиновников Наркомпроса не было уверенности, что «наверху» гарантированно поддержат это начинание.
Действительно, от руководства СССР последовала отрицательная реакция. 26 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление: «Предложить Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита» [24, с. 100]. «Предложение» высшего партийного органа в условиях того времени, разумеется, следовало рассматривать как приказ.
В ответ чиновники Наркомпроса доложили об исполнении. 5 февраля 1930 г. И.К. Луппол сообщил в секретариат Политбюро, что 30 января того же года «была распущена [под]комис-сия по латинизации, и в аппарате Главнауки вся работа по латинизации была прекращена». Луп-пол также представил оправдания в отношении предыдущих «слухов о латинизации»: «Частные заметки, появляющиеся в печати... шли не из Главнауки, а от отдельных членов [под-]комиссии, с которыми учреждения вели переговоры до постановления ЦК. Во избежание такого явления в будущем... Главнаука обратилась в печать с предложением прекратить помещение в печати заметок и статей по вопросу о латинизации» [24, с. 100–101].
Между тем деятельность «латинизато-ров» на самом деле не прекратилась – они фактически проигнорировали указание Политбюро ЦК ВКП(б), причем не скрывали этого, объявив в вышедшей не ранее конца апреля 1930 г. 6-й книге сборника «Культура и письменность Востока», что «в настоящее время работы [под]комиссии [по латинизации] продолжаются» [15, с. 208]. Весомая часть этой книги (с. 20–43 и 208–219) была посвящена именно латинизации русской письменности. 26 апреля 1930 г. Н.Ф. Яковлев сделал в Коммунистической академии доклад на тему «Очередные задачи прикладной лингвистики». Он вновь выдвинул аргумент о необходимости введения «международного латинского алфавита» и заявил, что «русский язык в отношении своего языкового строительства... является довольно отсталым». Очевидно, продолжение деятельности «латинизаторов» оставалось возможным потому, что вопрос о «русской латинизации» продолжал «циркулировать» в некоторых партийных органах; так, в сентябре 1930 г. Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) сообщил в Совет национальностей ЦИК СССР о наличии плана «будущей латинизации русского, украинского и белорусского языков» [17, л. 40 об.; 30, л. 10 об. – 11]. Тем не менее во время заседания в Комакадемии 26 апреля 1930 г. планы «русской латинизации» открыто уже не звучали, в чем, по всей видимости, проявилось влияние решения Политбюро, принятого в январе 1930 года.
Попутно продолжалась разработка реформы орфографии, которой занимался образованный при Наркомпросе Научно-исследовательский институт языкознания. На всесоюзном совещании по реформе орфографии, состоявшемся в июне 1931 г., было оглашено предложение ввести «i» вместо «и», «j» вместо «й», упразднить буквы «э», «й», «ъ», писать «е» вместо «э» [9, л. 58]. Эта реформа предполагалась как временная мера, нацеленная на переход в дальнейшем на латиницу [4, с. 19–21].
Правда, теперь на данную деятельность со стороны властей последовала уже более жесткая реакция. 2 июля 1931 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление: «Ввиду продолжающихся попыток “реформы” русского алфавита... создающих угрозу бесплодной и пустой растраты сил и средств государства... воспретить всякую “реформу” и “дискуссию” о “реформе” русского алфавита» [24, с. 101].
Следует отметить, что, несмотря на утверждения «латинизаторов» о «всеобщей поддержке» латинизации русской письменности, в начале 1930-х гг. общественность, как и в 1919 г., сопротивлялась этой инициативе. Так, в 1931 г. профессор Н.Н. Фатов прислал письмо в «Литературную газету», в котором заявил, что проект латинизации русской письменности является «объективно вредительским». Кроме того, выдвигались проекты «рационализации» русского алфавита без его латинизации [19, л. 5; 23, л. 6, 8; 30].
После нового постановления Политбюро «латинизаторам» все же пришлось прекратить свою деятельность. Как в марте 1932 г. отмечали сотрудники Всесоюзного общества по культурной связи с заграницей, реагируя на запросы из зарубежных стран по проблеме «русской латинизации», «Комиссия по латинизации русского алфавита при Наркомпросе временно прекратила свои занятия, и вопрос о латинизации русского алфавита временно снят с обсуждения». На самом деле прекращение этой деятельности было не «временным», так как оно более не возобновилось. В мае 1937 г. академик В.М. Алексеев на заседании в Академии наук СССР заявил, что русская латинизация, скорее всего, никогда не будет осуществлена [20, л. 3; 32, л. 9].
Почему же так быстро и безрезультатно закончилась эпопея с созданием «русской латиницы»? В.М. Алпатов указывает в качестве причины то, что «политически [этот] проект в обстановке 1930 года был не ко времени», так как изменилась общественно-политическая ситуация в стране [4, с. 18].
На наш взгляд, это не совсем так. В 1930– 1931 гг. советское руководство прекратило латинизацию только русского алфавита, тогда как аналогичная деятельность в отношении письменности других народов продолжа- лась, причем при основательной государственной поддержке; вплоть до 1937 г. финансировался и активно действовал ВЦКНА. После запрета латинизации русской письменности продолжалась и деятельность по латинизации «нерусских» алфавитов, построенных на кириллице (коми, марийский, мордовский, осетинский, удмуртский, чувашский, якутский и др.).
Негативный политический оттенок проблема латинизации приобрела значительно позднее того времени, когда произошел отказ от латинизации русской письменности, только в 1933–1934 гг., когда власти СССР по ряду внутри- и внешнеполитических причин решили пересмотреть основы своей национальной политики, вернув русскому народу государствообразующую роль. В рамках этих изменений новые подходы закономерным образом были приняты и в отношении русского языка, который отныне получил статус «первого среди равных» в Советском Союзе [7, с. 18] и должен был «стать достоянием каждого советского гражданина» [29]. Русская письменность была объявлена «алфавитом творений Ленина и Сталина», «первым в мире по количеству изданной на нем маркс[истск]о-ленин-ской литературы», алфавитом, «на котором изданы лучшие образцы мировой литературы» [18, с. 88–89].
Была развернута жесткая критика предыдущей деятельности, направленной против русского языка и алфавита. Партийные идеологи объявили, что замена русского алфавита «латинским... обесценила бы все... богатства, принадлежащие культуре пролетариата». Кроме того, они отмечали «недоказанность» того, что будущим всемирным алфавитом «будет именно латинский алфавит, вырабатывавшийся в свое время отнюдь не для обслуживания культуры коммунистического общества» [18, с. 89] (именно об этом и говорил В.Б. Аптекарь на заседании Комакадемии в январе 1930 г.). Очевидно, теперь роль «всемирного алфавита» могла перейти к русской письменности.
Начиная с 1933 г. нарастали изменения в подходе к латинизации. Весной того года Отдел культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) дал ВЦКНА «твердые указания»: «Ни в коем случае не латинизировать алфавит тех народностей, которые применяют русскую письмен- ность» [24, с. 102]. В январе 1934 г. первый секретарь Восточно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) М.О. Разумов на XVII съезде ВКП(б) резко высказался против латинизации алфавитов народов Севера: «Кому и для чего это надо? В чем преимущества латинского алфавита перед русским, на котором созданы огромные культурные ценности страны Советов?» [1, с. 215]. В феврале того же года в статье Л.Я. Ровинского в «Правде» было объявлено, что замена русского алфавита латинским – это «вреднейший вздор», который имеет «объективно антиреволюцион-ную основу» [28]. При обсуждении деятельности ВЦКНА в июне 1935 г. ЦИК СССР обратил внимание на «серьезную ошибку», заключавшуюся в переводе на латинский алфавит письменности народов, пользовавшихся русской графикой письма [10, с. 254–255]. В этой «вредной деятельности» нашли след и «русских латинизаторов» [34, с. 192].
С 1935–1936 гг. постепенно, но неумолимо был развернут перевод письменности почти всех народов СССР на кириллицу, который завершился к началу Великой Отечественной войны. Эти процессы происходили на фоне изменений всей советской национальной политики. К 1938 г. русский народ официально получил руководящую роль в Советском государстве. Были исправлены некоторые перегибы, связанные с избыточной «коренизаци-ей» и умалением русского национального фактора. В систему государственных ценностей были возвращены героические страницы истории России и русского народа. В марте 1938 г. было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей».
После войны в СССР продолжилось укрепление статуса русского языка и письменности, которая была объявлена «замечательным образцом тонкого понимания общеславянской и русской фонетической системы» [6, с. 101].
Результаты. Таким образом, идеи о латинизации русской письменности возникли в Советском государстве раньше, чем об аналогичной реформе какого-либо другого алфавита. Можно сказать, что в этом проявилось значение русского языка как «государствооб- разующего». «Русские латинизаторы» считали, что именно новому, «латинизированному» русскому алфавиту уготована роль основы для письменности других народов СССР и даже зарубежных стран.
Тем не менее аргументация того, почему кириллицу следует поменять на латиницу, была слабой в связи с отсутствием принципиальных отличий между кириллицей и латиницей, а также наличием в кириллице большего числа букв, включая специально придуманные для русского языка. В дальнейшем, осознавая огромные трудности и масштабность сопротивления «русской латинизации» со стороны общественности, «латинизаторы» пытались выдвинуть новые аргументы за латинизацию (унификация, экономия ресурсов, рост международного статуса русского языка). Кроме того, они определяли для реализации этого проекта длительные сроки и указывали на необходимость долголетнего сосуществования кириллицы и латиницы в будущем.
Причиной неудачи «русской латинизации» следует считать то, что изначально она не планировалась и не была санкционирована на высшем государственном уровне, фактически являясь «самодеятельностью». Когда эта деятельность «была обнародована» (через прессу и сообщение Наркомпроса РСФСР в ЦК партии), властям стало ясно, что она зашла слишком далеко и на нее растрачиваются государственные ресурсы. После этого Политбюро ЦК ВКП(б) в 1930–1931 гг. указало на ненужность латинизации. Однако если бы власти в этот момент были против нее как явления в принципе, то уже тогда свернули бы и остальную деятельность в данной сфере.
Произошло же это лишь после кардинального изменения национальной политики в СССР в 1933–1934 годы. В последующем отказ от латинизации русского алфавита стал «триггером» для отмены перевода на латиницу письменности других народов СССР – сначала этносов Крайнего Севера, затем угро-финских народов Поволжья и Урала и наконец – всех остальных (здесь вновь проявила себя роль русского языка как «государствообразующего»).
Закрепление такой политики осуществлено и в современной России, где введена правовая норма, что алфавиты русского языка
(государственного языка РФ) и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы (Федеральный закон от 11 декабря 2002 г. № 165-ФЗ «О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федерации “О языках народов Российской Федерации”»).