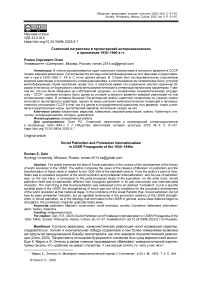Советский патриотизм и пролетарский интернационализм в пропаганде 1930–1940-х гг.
Автор: Осин Р.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается идея советского патриотизма в контексте развития в СССР теории мировой революции. Сопоставляются взгляды классиков марксизма на этот феномен и представления о нем в 1930–1950 гг. ХХ в. С точки зрения автора, И. Сталин был последовательным сторонником мировой революции и пролетарского интернационализма, а использование им патриотизма было уступкой мелкобуржуазным слоям населения; кроме того, в советское время это социальное чувство коренным образом отличалось от буржуазного своим антишовинистическим и интернационалистским характером. Главное же, что оно было обращено не к абстрактной «родине», а к конкретному социалистическому государству – СССР, усиление которого было одним из условий успешного развития мировой революции на том историческом этапе. В условиях Великой Отечественной войны советский патриотизм не утратил своего классового пролетарского характера, однако по мере усиления капиталистических тенденций в производственных отношениях СССР в нем, как и в целом в государственной идеологии того времени, стали усиливаться надклассовые черты, пролетарский характер постепенно сходил на нет.
Патриотизм, марксизм, коммунизм, мировая революция, советы, Коминтерн, отечество, интернационализм, история, диалектика
Короткий адрес: https://sciup.org/149148193
IDR: 149148193 | УДК: 32.019.5 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.7
Текст научной статьи Советский патриотизм и пролетарский интернационализм в пропаганде 1930–1940-х гг.
Введение . Согласно марксизму, коммунистическая революция носит всемирный характер, следовательно, полная и окончательная победа социализма и тем более коммунизма возможна как результат международной борьбы пролетариата, как итог мировой социалистической революции (Осин, 2025). Патриотизм в отношении буржуазного отечества был чужд марксистской мысли. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс в своем главном произведении «Манифест коммунистической партии» прямо писали, что «рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет»1.
И действительно, если речь идет о буржуазном отечестве, то пролетарий, отчужденный от власти, собственности и культуры, действительно не имеет своего отечества, поскольку не владеет им. И вопрос может быть решен только посредством всемирной революции, если пролетариям разных стран нечего делить между собой и нечего терять в своих отечествах кроме собственных цепей, если главный враг – в своей стране, и это главным образом буржуазия (как представитель мирового капитала в целом), то какое тут может быть отведено место патриотизму? Если с отношением к буржуазному государственному патриотизму все более-менее понятно, то идеологический конструкт советского патриотизма часто вызывает вопросы. Как совместить идею пролетарского интернационализма с пусть и советским, но патриотизмом? Если мы говорим о всемирной революции, то какое значение для нее имеет советский патриотизм? Отошла ли советская пропаганда времен 1930–1940 гг. от пролетарского интернационализма и идеи мировой революции? На эти и некоторые другие вопросы мы постараемся ответить в предлагаемой статье.
Поскольку подходов к научно-теоретическому осмыслению патриотизма достаточно много, что позволяет давать самые разнообразные трактовки советскому проявлению этого феномена и проводить самые невероятные исторические параллели, мы будем рассматривать данное понятие и его эволюцию с точки зрения методологии материалистического понимания истории. Указанное направление социально-философской мысли представляется нам наиболее проработанным, поскольку увязывает развитие патриотизма и в целом идеологических форм общественного сознания с господствующим способом производства и социально-классовыми интересами, что позволяет глубоко и всесторонне рассмотреть указанные явления. Помимо этого, в статье широко применяются сравнительный и исторический методы, контент-анализ текстов и пр.
Советский патриотизм: история идеи . Объективные условия становления идеологии советского патриотизма стоит искать в не совершившейся мировой пролетарской революции, которую ожидали большевики. Попав в положение «осажденной крепости», первое в мире государство пролетарской диктатуры вынуждено было не начинать тут же отмирать, как предполагали классики марксизма, исходя из гипотезы мировой революции, а все больше заниматься черновой внутренней работой по восстановлению и созданию новой экономики, наведению правопорядка, формированию государственных институтов и правовой системы нового общества. В этих условиях обращение к идеям патриотизма было вполне закономерным ходом в идеологической эволюции советской коммунистической пропаганды. Но вопрос состоит в том, какой это был патриотизм и чем отличался от патриотизма капиталистических государств?
Идеологическую основу советского патриотизма стоит искать в коммунистических идеях Великой Октябрьской революции и патриотизме Гражданской войны, которая сопровождалась иностранной интервенцией со стороны стран Антанты (Васильченко, 2023). Революционный же патриотизм (предшественник советского) был неразрывно связан с приверженностью граждан идеям мировой революции и пролетарского интернационализма. Еще 21 февраля 1918 г. В.И. Ленин подписал знаменитый декрет Совета народных комиссаров (СНК) «Социалистическое отечество в опасности», где идея революционного патриотизма и мировой революции составляют единое целое. В частности, указанный декрет оканчивается такими словами: «Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!»1. Уже здесь идея революционного патриотизма прекрасно сочетается с пролетарским интернационализмом и мировой революцией. Показательно, что в годы Гражданской войны советскому революционному патриотизму противостоял, с одной стороны, великорусский шовинизм белогвардейцев, а с другой – местный национализм, ярким примером которого была гуситская военная традиция в Чехословацком корпусе интервентов (Васильченко, Галямичев, 2010: 108).
В 1930–1950-е гг. патриотизм также понимали классово. В этой связи мы обратимся к воззрениям на это понятие И.В. Сталина как главы первого в мире социалистического государства. На наш взгляд, их можно считать отражением в целом идеологической эволюции партии тех лет, тем более что вождь активно формировал соответствующую линию.
Среди современных исследователей сталинской эпохи популярна точка зрения, отрицающая интернационализм И. Сталина и приписывающая ему переход на позиции государственного патриотизма. Интересно, что одни исследователи ставят ему это в вину2, обвиняя вождя в «шовинизме» и «отходе от ленинских воззрений», другие – напротив, высоко оценивают «патриотический поворот» и якобы отказ от мировой революции (Антипенко, 2010; Багдасарян, 2024; Жуков, 2010; Зюганов, 2008). Однако указанный взгляд не является единственным среди обществоведов. Так, к примеру ряд ученых придерживается позиции признания сталинских воззрений марксистскими и интернационалистскими (Трушков, 2019; Елисеев, 2016). С нашей точки зрения, утверждения, будто И. Сталин отошел от идей пролетарского интернационализма, не выдерживают критики и опровергаются главным образом эмпирическими данными: высказываниями самого И. Сталина и практикой пропагандистской работы в СССР.
Несмотря на определенные реверансы в сторону патриотизма, общая нацеленность на мировую революцию и пролетарский интернационализм никуда не устранялась из пропаганды 1930-х гг. Красноречивыми являются слова И. Сталина, произнесенные им в 1931 г. на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, где он прямо отметил, что «в прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость»1. И далее он продолжает «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Но у нас есть еще другие, более серьезные и более важные обязательства. Это – обязательства перед мировым пролетариатом»2.
Из этой цитаты видно, что речь шла не о пересмотре доктрины мировой революции и пролетарского интернационализма, а о глобальном революционном процессе, одним из этапов которого был подъем первого в мире социалистического государства на должный уровень промышленного, военного и культурного развития. Советский же патриотизм увязывался с идеологией пролетарского интернационализма, с мировой победой коммунизма, ведь СССР как первое и на тот момент единственное в мире социалистическое государство выступало оплотом продвижения мирового рабочего класса к мировой революции, и интересы СССР как первого в мире социалистического государства, таким образом, совпадали с интересами мировой революции. Стало быть, и патриотизм в отношении Советского государства означал приверженность идеям пролетарского интернационализма, ведь именно оно могло наиболее последовательно и глубоко проводить в жизнь политику пролетарского интернационализма и приближать мировую революцию.
Таким образом, И. Сталин был сторонником классового подхода к патриотизму. Особенно это заметно в его ответе на вопрос немецкого писателя Э. Людвига о сравнении себя с Петром I. Приведем для понимания отрывок из их беседы: «Да, конечно, Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев… Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно – рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо “национального” государства, а укрепление государства социалистического, и значит – интернационального, причем всякое укрепление этого государства содействует укреплению всего международного рабочего класса… Вы видите, что Ваша параллель не подходит»3.
Стоит обратить внимание, что этот отрывок красноречиво говорит о взглядах И. Сталина. Во-первых, как видно из беседы, ему было глубоко чуждо абстрактное государственничество и державничество. Когда у И. Сталина спрашивают о его отношении к Петру I, он сразу переводит вопрос из абстрактно-исторического в классовое русло. Во-вторых, И. Сталин специально подчеркивает, что дело, которому он служит, намного шире и глубже укрепления «национального» государства, а состоит оно в служении рабочему классу и укреплению его государства. Как видно, нет тут места абстрактному патриотизму или отказу от мировой революции. Напротив, именно здесь мы видим развитие идей пролетарского интернационализма.
Данное теоретическое положение вошло в Программу Коминтерна, принятую на VI Кон-грессе4. Суть его состояла в том, что СССР превращается в отечество пролетариев всего мира и защита его равна защите мировой пролетарской революции. Подобный интернационалистский подход проявился и в подготовке учебника по истории СССР. Весьма показательно, что в «замечаниях по поводу конспекта истории СССР» 1934 г., подписанных И. Сталиным, А. Ждановым и С. Киро-вым5. Указанные «замечания» проникнуты пролетарским интернационалистским духом и марксистским подходом. И. Сталин прямо указывает авторам учебника на необходимость вскрыть реакционную, жандармскую сущность внешней политики России на протяжении второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Особо подчеркивает вождь важность освещения национально-освободительной борьбы угнетенных царизмом народов. Но самое главное, И. Сталин четко отмежевывает историю российского народа от истории царизма. Подобный диалектический подход разделения прогрессивного и реакционного использовался им и ранее, в переписке с поэтом Д. Бедным.
Диалектический подход к истории России на примере полемики И.В. Сталина с Демьяном Бедным . Данная полемика отражает в целом движение идеологической линии СССР в 1930-е гг. Нигилистические оценки советской истории пресекались, сохранялся классовый подход и диалектическое понимание исторического процесса как борьбы классов. Некоторые исследователи пытаются использовать указанное письмо в целях доказательства якобы «патриотического поворота» в идеологии ВКП (б) 1930-х гг. Так, к примеру, историк Ю.В. Емельянов пишет, что «Сталин давал отпор любым попыткам перечеркнуть русскую самобытность и опорочить прошлое России. Об этом свидетельствовало его личное письмо к поэту Демьяну Бедному от 12 декабря 1930 года» (Емельянов, 2017: 71). Но давайте посмотрим, о чем действительно свидетельствовало данное письмо? О защите ли И. Сталиным русской самобытности или о применении им марксистского анализа к российской истории?
Суть вопроса состояла в следующем (Суровцева, 2015): ЦК подверг критике ряд фельетонов Демьяна Бедного в Постановлении секретариата ЦК ВКП (б) от 6 декабря 1930 г.1 Критика поэта состояла, прежде всего, в том, что он огульно рассматривал весь русский народ как от природы ленивый, не «желающий слезать с печи». С точки зрения Центрального комитета партии, поэт не отразил двойственности России, сочетания в ней революционных и антиреволюци-онных элементов. У Д. Бедного получалась одна сплошная ленивая Россия, сидящая на печке. Но в таком случае непонятно, откуда у «ленивого от природы» русского человека нашлись силы произвести три революции, радикальном образом трансформировавшие не только Россию, но и весь мир; выдвинуть из своих рядов талантливых революционеров, ученых, полководцев и пр. Очевидно, что такой подход, который представлял Демьян Бедный, противоречил классовому, предполагавшему, что в каждом народе есть «две нации»: господ и эксплуатируемых, а в каждой культуре есть также две: реакционная, направленная на консервацию порядков, выгодных эксплуататорам, и революционная, направленная на ниспровержение эксплуататорских порядков, служащая трудящимся массам и двигающая вперед дело социального прогресса.
8 декабря 1930 г. Д. Бедный написал письмо-оправдание И. Сталину, и 12 декабря 1930 г. вождь ответил ему, разъяснив его ошибки2. И. Сталин критиковал Д. Бедного не за абстрактные нападки на русскую самобытность, а с последовательно марксистских позиций, с точки зрения классового историко-материалистического подхода к истории первой в мире социалистической страны. Ведь совершенно очевидно, что если в ней нашлись силы, способные сокрушить царский, а затем и буржуазный режимы, выиграть Гражданскую войну, развязанную бывшими эксплуататорскими классами в союзе с Антантой, то эти силы должны были сформироваться и созреть в самом российском обществе еще до революции. По мнению И. Сталина, история России – это не только история русского мракобесия, диктатуры помещиков и капиталистов, классового и национального гнета, безусловно, свойственного царской России. Это еще и история революционной русской интеллигенции, рабочего освободительного движения, революционной мысли, история великого рабочего класса и крестьянства России и их борьбы, результатом чего в конечном счете стал Великий Октябрь и последующие достижения Советского государства. Не видеть этой двойственности исторической России, того, что наряду с Россией Николая I и К.П. Победоносцева была Россия А. Герцена и Н. Чернышевского, что наряду с Россией Николая II и П. Столыпина была Россия В. Ленина и М. Горького, не видеть всего этого – значит отходить от марксистского классового подхода и становиться на позиции отрицания революционных достижений, фактически – на контрреволюционные позиции, когда ненависть к самодержавной России и ее эксплуататорским порядкам переходит в ненависть к самому трудовому народу страны в целом. И. Сталин в своих выступлениях и речах очень четко различал царизм и российский народ.
Таким образом, мы видим, что критика И. Сталиным Д. Бедного – это не защита абстрактной русской самобытности, а отстаивание завоеваний революции и классовой стороны российской истории, их ограждение от огульного охаивания со стороны знаменитого поэта. Никакого противоречия с пролетарским интернационализмом данное письмо И.В. Сталина не имеет, напротив, именно в нем мы видим, что партийная идеология, хоть и стала подвергать критике наиболее ретивые формы проявления исторического нигилизма, но не отошла от марксистского классового подхода к государству и истории страны. Изменилась ли концепция советского патриотизма в Великую Отечественную войну?
Конечно, в 1930-е и особенно 1940-е гг. были сделаны определенные идеологические уступки в сторону надклассовой трактовки патриотизма. Связано это, с нашей точки зрения, было как с внешнеполитическими обстоятельствами, так и с крестьянским характером основной массы населения СССР. Можно вспомнить про экранизацию фильмов, восхвалявших дореволюционных полководцев, возврат в армию погон, плакаты времен Великой Отечественной войны «Убей немца» и пр. Однако при определенном усилении патриотических нарративов советской пропаганды, что было оправдано предвоенными и в особенности военными реалиями того времени, интернациональная пролетарская и коммунистическая идеология сохранялись, доказательством чего является критика наиболее выраженных антигерманских проявлений со стороны советской пропаганды. Так, к примеру, в 1945 г. вышла статья писателя И.Г. Эренбурга «Хватит», в которой автор в категорической форме назвал Германию шайкой, смешав тем самым (возможно, и не желая этого) немецкий народ и фашистскую власть. Так, И.Г. Эренбург писал: «Вопрос не в том, захочет ли Германия капитулировать. Некому капитулировать. Германии нет: есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности»3.
Но указанная позиция едва ли может считаться мейнстримом советской пропаганды. Напротив, статья «Хватит» вызвала дискуссию и отповедь в советской пропагандистской литературе. В статье «Эренбург упрощает» философ и начальник управления агитации и пропаганды Г.Ф. Александров писал: «Ошибочна точка зрения т. Эренбурга, который изображает в своих статьях население Германии как некое единое целое. Тов. Эренбург пишет в своих статьях, что Германии нет, есть лишь “колоссальная шайка”. Если признать точку зрения т. Эренбурга правильной, то следует считать, что все население Германии должно разделить судьбу гитлеровской клики. Красная армия, выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ. Это было бы глупо и бессмысленно»4. Указанный эпизод хорошо иллюстрирует тот факт, что даже когда советская пропаганда чрезмерно уходила в сторону абстрактного патриотизма и надклассового осуждения немцев (что можно понять с учетом исторической обстановки тех лет), находились силы и люди в самых высших эшелонах власти, которые выправляли подобные перегибы. В целом же советская пропаганда времен Великой Отечественной войны вполне укладывалась в русло пролетарского интернационализма.
Заключение. Итак, исследование трудов и речей И.В. Сталина, пропагандистских документов тех лет, а также проводимой политической линии, позволяет сделать вывод, что несмотря на определенный поворот к патриотизму, лидер страны и руководство партии оставались верны пролетарскому интернационализму, идеям мировой пролетарской революции, разговоры же о том, что И. Сталин якобы превратился в государственника и державника, не имеют под собой оснований. Усиление советского социалистического государства вождь мыслил исключительно в контексте укрепления позиций мирового пролетариата, на что многократно указывал в своих речах и что не раз было отражено в официальных заявлениях ЦК ВКП (б) и Коминтерна.
Советский патриотизм и пролетарский интернационализм диалектически взаимодополняли друг друга и представляли единство противоположностей. В 1920-е гг. революционный патриотизм, а затем в 1930–1940-е гг. советский патриотизм прямо рассматривались как ступени в продвижении к мировой революции, а СССР – как отечество трудящихся всего мира. Нельзя было в рамках этой логики желать мировой революции, быть пролетарским интернационалистом и при этом не стремиться к усилению СССР как ее основному оплоту.
После вынужденного роспуска Коминтерна советский патриотизм также не утратил своего пролетарского и интернационального характера. Прогрессивная сущность его была развита настолько, насколько он являлся частью идеологии пролетарского интернационализма и служил идеологической надстройкой и подспорьем для продвижения вперед – к подлинному равенству, к гуманизму, к тому, что в марксизме принято именовать коммунистической формацией или «царством свободы». Однако у советского государства были разные периоды развития, в нем на протяжении всей его истории шла борьба тенденций: продвижения вперед к коммунистической формации и отката назад, в капитализм. Эта же борьба проявлялась и в идеологии. Чем больше в экономическом отношении СССР отходил от коммунистического вектора развития, чем сильнее в социуме нарастало неравенство, а в политике – отчуждение трудящихся от власти, тем больше советский патриотизм исчерпывал свой революционно-обновленческий потенциал и превращался в идеологический инструмент консервации сложившихся обстоятельств. Это приводило к деформации революционно-коммунистической составляющей советского патриотизма и усиливало державно-государственническую, ориентированную на некритическое поклонение власти (которая, как принято говорить, всегда «едина с народом»), увековечивание в пропаганде таких государственных институтов, как полиция, армия и пр.; в целом, рассмотрение государства и страны не с классовых, а с так называемых общечеловеческих позиций.
Российский патриотизм постсоветского времени также проходил свои этапы и метаморфозы. Можно констатировать одно, а именно то, что современный патриотизм при всей внешней схожести на деле коренным образом отличается от советского как минимум своей идеологической и социально-классовой направленностью – он не выступает за мировой коммунизм и классовую борьбу, а является традиционным идеологическим инструментом для сплочения российского общества.