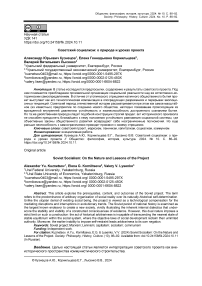Советский социализм: о природе и уроках проекта
Автор: Кузнецов А.Ю., Корнильцева Е.Г., Лысенко В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются предпосылки, содержание и результаты советского проекта. Под ним понимается преобладание произвольной организации социальной реальности над ее естественно-историческим самоопределением. В отличие от утопического отрицания наличного общественного бытия проект выступает как его технологическая компенсация в опосредующих разрежениях и перерывах эволюционных тенденций. Советский период отечественной истории рассматривается при этом как самое масштабное (из известных) предприятие по созданию нового общества, наглядно показавшее происходящие из врожденной внутренней диалектики устойчивость и жизнеспособность достроенного сознанием бытия. Но та же двойственная природа кладет подобной конструкции строгий предел: акт исторического произвола не способен преодолеть ближайшего к нему положения устойчивого равновесия социальной системы, где объективные законы общественного развития возвращают себе неограниченные полномочия. Но еще раньше неспособность к самоограничению приводит произвол к своему отрицанию.
Советский проект, марксизм, ленинизм, капитализм, социализм, коммунизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149146675
IDR: 149146675 | УДК: 141 | DOI: 10.24158/fik.2024.10.11
Текст научной статьи Советский социализм: о природе и уроках проекта
В соответствии с ней были сформулированы следующие задачи:
-
– уточнение взаимного положения марксизма и ленинизма в координатах революционной парадигмы социального мышления;
-
– выяснение отношений социализма и коммунизма как базовых элементов ленинско-советского конструктивизма;
-
– реконструкция внутренней эволюции советского проекта как технологии «предкоммунизма».
В качестве основных методов привлекаются средства из арсенала научной абстракции. Шагом исследования выступает тестирование тезиса на предмет самотождественности у границ его логического поля. Решение задачи состоит в приведении ее формулы к суждению, достигающему своих эвристических и доказательных рубежей раньше содержательно-смысловых аберраций. Возможности эмпирической верификации в значении непосредственного «заземления» мысли на факты местами ограничены спецификой ракурса.
С удалением от СССР, в согласии с известным оптическим парадоксом, проступают неочевидные раньше подробности центрального сюжета мировой истории XX в. Пропорционально усложнению темы растет число посвященных ее вновь открывающимся аспектам исследований. Едва ли не большую часть таких публикаций можно отнести к жанру поисков положительных выходов из переживающей критические напряжения современности. Выросшее из конвергенции одномерное обществознание при всем желании не в силах сформулировать дееспособные, то есть обеспеченные достаточными ресурсами исторического самодвижения альтернативы. Советский социализм, выдававший себя за экспресс в «светлое будущее всего человечества», оказался во многом системой зеркал, создающих бесконечную перспективу (что тоже немало, как теперь выяснилось). С другой стороны, только интегрировав противоречивый опыт беспрецедентного цивилизационного «расщепления», социальное мышление может преодолеть застойную близорукость и вернуть себе стереоскопическое восприятие для адекватной оценки масштабов и расстояний (как из одного только капитализма нельзя увидеть больше, и то очень смутно, самых общих контуров коммунизма)1.
Основная часть . В контексте текущих рассуждений проект представляет собой произвольно достраиваемую, то есть внеисторическую, часть социальной реальности. Когда плотность существенно детерминирующих связей недостаточна для сообщения происходящему практически дееспособной целостности и определенности, сознание эмансипируется из распадающихся обстоятельств и использует их как экран для проекции, превращаясь из рефлекса бытия в его демиурга. В то же время невычитаемые свойства материала, при всей чувствительности рыхлой действительности к произвольному действию, накладывают существенные ограничения на фантазию архитектора.
На первый взгляд, у ленинизма как матрицы советского проекта, помимо марксистских сюжетов, много идейных источников, в том числе отечественного происхождения. Но Н. Бердяев изрядно преувеличивал самобытность русского коммунизма, относя, в частности, тенденции вселенского христианства на исключительный счет православия (Бердяев, 2020). Кроме того, даже если согласиться с преимущественно христианской природой эсхатологических и мессианских мотивов большевистской идеологии, в составе последней они ушли так далеко от своей первоосновы, что связь с ней превратилась в пустую формальность. И понимание большевизма как атеистической квазирелигии – сильное, мало что объясняющее упрощение. С другой стороны, не стоит переоценивать марксистскую составляющую ленинизма. В сравнении с самым аутентичным русским марксистом Г.В. Плехановым В.И. Ленин выглядит дилетантом. Но если рассматривать марксизм как известную редукцию гегельянства, основатель советского государства – лучший ученик и прямой наследник авторов «Немецкой идеологии» (Маркс, Энгельс, 1955). При этом вряд ли можно считать ленинизм гибридом «глобального» марксизма и русского коммунизма: для первого вождь мирового пролетариата все же слишком провинциален, а для второго – безнадежно рационален. Но главное – природа ленинского коммунизма не имеет с ними ничего общего. Если у К. Маркса бесклассовое общество происходит из объективной логики развития капиталистического способа производства, а в отечественной визионерской традиции справедливый строй – результат нравственной эволюции национального духа под знаком вековой народной тоски по социальному идеалу, то В.И. Ленин понимает коммунизм прежде всего как техническую задачу2 (Поппер, 1992: 99). В ее постановке и конкретных решениях ленинизм вполне самодостаточен, поскольку опирается на собственную интенцию социального конструктивизма (обретающую себя в критическом ослаблении объективных тенденций общественного бытия) и как таковой может считаться первоисточником социалистического эксперимента. Коммунизм – слишком ответственное дело, чтобы доверить его истории. Будущее не получается из настоящего, а собирается рядом с ним по априорным чертежам из подручного материала обстоятельств места и времени.
Таким параллельным пространством коммунистического строительства и стал советский проект. Но произвол воспринимает любые границы как вызов и претендует проникнуть на всю глубину социальной реальности, растворив историю в технологии. В то же время при всей экспансивности проект не способен преодолеть онтологический барьер «естественного хода вещей». У событий есть грани, которыми они ложатся или стыкуются в агрегаты менее охотно, нежели остальными. Чем больше маловероятных сюжетов должно сойтись в одной точке, тем нереалистичней выглядит картина в целом. Вовлечь происходящее как иной род бытия в проект можно лишь в виде придаваемых ему и внешних его природе значения, порядка и смысла. На практике произвол не в силах отказаться от своих притязаний, то есть от самого себя как такового. И единственный способ присвоить историческую реальность – сделать ее вручную через отрицание прошлого и гипостази-рование настоящего, пока будущее выращивается в реторте проекта.
У К. Маркса все гораздо «скромнее»: изменять мир – значит, навязывать реальности не происходящую из нее форму. Но природа последней для марксизма – нерешаемая задача. Ведь сознание здесь – только отражение материальных условий производства, фантастическое (искаженное) или научное воспроизводство в структуре субъекта объективного положения дел. Нет никаких «идей», не заданных общественными обстоятельствами своего появления, никакого идейного «самозарождения». Свои идеи мыслитель (в контексте звучит не без иронии) считает верными именно потому, что в них нет ничего, кроме отчета в собственной обусловленности. Сознание как осознанное социальное бытие целиком находится по эту сторону реальности и не может быть источником и (или) носителем вне- (или над-) исторических смыслов (Маркс, Энгельс, 1955: 24–25). Но даже такая логическая безысходность для марксизма чрезмерна, поскольку научные претензии его основоположников в данном случае уже на втором шаге приходят к своему отрицанию. В самом деле, адекватное отражение общественных отношений возможно лишь с преодолением отчуждения. Так что научное обществознание – оксюморон в чистом виде, поскольку оно не способно появиться прежде, чем исчезнет его предмет. Но в отсутствие «превращенных форм общения» ему будет просто нечего делать. Социальная жизнь станет прозрачной, как платоновский мир идей, где созерцание есть понимание.
Впрочем, дискретная историология ленинизма создает свои трудности. Капиталистическое прошлое, социалистическое настоящее и коммунистическое будущее живут в ней взаимно не связанным образом. Онтологическая разнородность элементов социальной реальности исключает упорядоченное восприятие происходящего. Даже у В.И. Ленина чем дальше, тем меньше ясности в отношениях социализма и коммунизма, которые то сливаются до неразличимости, то противопоставляются как разные виды социальной материи. С одной стороны, социализм – начальная фаза коммунизма, с другой – количественное развитие первого нигде не дает перехода в качество второго. Совершенное общество не может быть создано несовершенными людьми, то есть получиться историческим образом. Для идеальной конструкции нужна стерильная атмосфера проекта. На практике удержать такой параллелизм оказалось непосильной задачей. Попытка последовательного соединения (советского социализма и собственно коммунизма), к чему, по большей части, в конечном счете свелось, была обречена изначально: отрезанное от прошлого настоящее не способно к рождению будущего. Но учредить коммунизм декретом, как советскую власть, даже дополнив ее, по известной ленинской формуле, электрификацией, не-возможно1. Так что к нему в любом случае надо готовиться.
При желании за «генеральную репетицию» можно выдать социализм, но практически это ничего не дает, поскольку сам по себе он никогда не переходит в коммунизм. Создавая предпосылки нового строя, социализм, как минимум, не делает его ближе. Преодоление антагонизма классов подразумевает усиление государства (и механизмы, соответственно, перспективы его самостоятельного возвращения хотя бы в прежние границы не очевидны). Вообще, социалистическое государство является главным препятствием к достижению своей заявленной стратегической цели, что само по себе не мешает ему неопределенное время функционировать в режиме имитации приближения к ней. Воспроизводство классовой социальной структуры истребляет всякую тенденцию разгосударствления общественной жизни. Снимая одни противоречия, социализм создает новые, не разрешимые в пределах существующего строя. Производительные силы упираются в потолок производственных отношений, далеко не достигая необходимого для совершенного общества уровня. Эволюционный маршрут до коммунизма не предусмотрен. В отсутствие сообщения с высшей формой общественной организации социализм оказывается запертым внутри себя. Пытаясь вы- рваться из собственноручно устроенной ловушки локального конца истории, произвол множит противоречия и парадоксы теории и практики социализма. За неимением лучшего средством от трещин в конструкции по умолчанию стала формула «Строим одно, не вдаваясь в подробности, подразумеваем другое». Во избежание разрушения здания условились не трогать фундамент: никто, кроме Н.С. Хрущёва, не рискнул рассказать, когда и, главное, как (на это даже Никиты Сергеевича не хватило) наступит, наконец, коммунизм. Конечно, самодвижущийся социальный универсум марксизма проще и во многом удобней, но, как отмечалось, объяснительная способность такой модели меньше собственных предпосылок.
Так или иначе, с уходом мировой революции из большевистской повестки даже расфокусированный ленинский конструктивизм не оставил конкурентам ни шанса. Тот же Л.Д. Троцкий не мог быть альтернативой (как стало модно представлять его в последнее время), потому что не монтировался со сколько-нибудь позитивной программой: новое для него - лишь побочный и сам по себе малоинтересный продукт увлекательного и самоценного процесса разрушения старого: «есть у революции начало, нет у революции конца». (К тому же, если В.И. Ленин еще где-то пытался поверять свои планы и практические шаги К. Марксом, Л. Троцкий был слишком самодостаточен, чтобы опираться на кого-нибудь, кроме себя. И все разговоры об очищении марксизма от ленинско-сталинских искажений не должны никого вводить в заблуждение). Советский же социализм - самое грандиозное, хотя не единственное, целенаправленное (по крайней мере, как декларация) приготовление к светлому будущему. Не предсказанный ранее в своем конкретном облике строй должен был заполнить ничейное историческое пространство между формациями. То есть изначально выступал «творческим» развитием марксистской схемы. Необходимость переходного периода объяснялась незрелостью отечественного капитализма и, соответственно, отсутствием готовых предпосылок бесклассового общества. Техническая невозможность непосредственного обобществления средств производства (если такая задача вообще ставилась как практическая), враждебное капиталистическое окружение, борьба с внешней и внутренней контрреволюцией, относительная малочисленность рабочего класса требовали централизации и концентрации власти в форме государства диктатуры пролетариата. Под давлением обстоятельств идеология и практика большевизма вступали в противоречие с постулатами исторического материализма (Ленин, 1969; Энгельс, 1955). Распространение революции вширь в крестьянской стране неизбежно меняло ее социальный портрет. Главным агентом преобразований стала деревенская бедняцкая масса («сельский пролетариат»). Отсюда, в частности, понятны масштаб и эффективность кампании по «ликвидации кулачества как класса». Ускорение политической истории споткнулось об экономический детерминизм и в деревне, и в городе, методом «от противного» наглядно подтвердив марксистский тезис о коренном характере материальных интересов и первичности производственных отношений. Форсировать базис, как политический строй, не получилось. Опередившая собственные предпосылки надстройка повисла в воздухе. Чтобы стать «причиной себя», ей пришлось сосредоточиться до непроницаемости черной дыры (с соответствующими последствиями для окружающей социальной материи). Если в физике сила действия равна силе противодействия, то, пытаясь превысить меру произвольного воздействия на историю, надо ждать кратной взаимности. Сделав шаг вперед, приходится отступать на два шага назад. Переход от «военного коммунизма» к НЭПу, опять же не имевшему «ничего общего с теориями “научного социализма”, выдвинутыми К. Марксом и Ф. Энгельсом» - «обширные экономические исследования К. Маркса даже не касались проблем конструктивной экономической политики» - пусть частичная, кратковременная, уступка «материалистическому» порядку вещей (Поппер, 1992: 99).
Принципиальная программа социалистических преобразований подразумевала две главные задачи: отрицательную - окончательное избавление от «родимых пятен» капитализма, и положительную - закладку фундамента и возведение несущих конструкций нового строя. Если со средствами и критериями решения первой было более-менее ясно, то вторая, чем дальше, вызывала все больше вопросов. Направленное движение к светлому будущему приводит к пространственновременным парадоксам. Примерно понятная дистанция по мере преодоления лишь удлиняется. Хорошо различимая вначале цель уходит за горизонт. С приближением к коммунизму расстояние до него увеличивается. В результате переходный период растягивается и рвется. Каждый следующий «отрывок» выступает как простое, то есть без положительного гегелевского снятия, отрицание предыдущих. Если И. Сталина кто-то еще мог принять за «Ленина сегодня», то Н. Хрущёв на XX съезде оформил онтологический развод с предшественником.
У таких разных социализмов сходств было не сильно больше различий. Место советского общества определялось, скорее, методом исключения: уже не капитализм, но (все) еще не коммунизм. Главным общим знаменателем считалось построение материально-технической базы светлого будущего под знаком экономического соревнования с мировым капиталом. Более высокой, по сравнению с капитализмом, производительности не получилось, но было беспрецедентное по размаху и темпам движение от мегастроек первых пятилеток до запуска человека в космос, закладывавшее, по замыслу теоретиков социализма, фундамент будущего изобилия.
Формальную целостность процессу придавала идеология. При этом, как ни парадоксально, сами «идеологи» весьма смутно представляли себе как промежуточные, так и, тем более, конечную цель движения. И лаконичная ленинская формула «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны» оказалась самой подробной. Неудивительно, что при свете «лампочки Ильича» ясности насчет будущего не прибавилось. Растущие идейные пробелы в «дорожной карте» заполнялись риторикой: на пути к коммунизму устанавливались все новые вехи – «развитой социализм», «реальный», «с человеческим лицом». Но именно теоретическая недостаточность плакатного революционного дискурса, отсутствие, за вычетом лозунгов и призывов, фиксированного канонического ядра обеспечили ему высокую адаптивность и непреходящую инструментальную универсальность.
Через отнесение к нему советский социализм во всех метаморфозах мог оставаться самим собой. В каждой следующей, вполне оригинальной версии он был более или менее равен себе. Воспроизводство советской идентичности опосредовалось безусловным императивом технологического подхода к социальной реальности. Инвариантный характер социалистического качества возводимого здания не зависит от преемственности происходящего. Советский проект как строительная площадка коммунизма не тождествен подробностям эмпирического существования советского строя. Его составляют социальные практики, надстраиваемые над наличным общественным бытием, как компенсация исторической недостаточности социализма, опередившего свои социально- и культурно-антропологические предпосылки. (Отсюда – двухуровневая структура советского образа жизни и, соответственно, двойственный характер его отражения в общественном и индивидуальном сознании). Внеисторическое пространство проекта защищает возводимую конструкцию от объективных социальных законов и позволяет произвольным образом довести общество с минимально возможными отклонениями до требуемых кондиций, а затем рукотворную коммунистическую идиллию выпустить на историческую свободу. Последнюю, правда, не так просто представить, учитывая, что, по классике, коммунизм является формальным концом истории, то есть представляет собой эволюционно и логически заключительную форму общественной организации. С другой стороны, К. Маркс не дал подробного описания коммунизма как раз потому, что для него, «по совокупности» взглядов на предмет, это все же больше процесс, чем результат (Маркс, Энгельс, 1955: 34). (Таким образом, среди прочего, можно избежать пресловутого «конца истории», сделав его бесконечным. Осталось решить, что первично – отсутствие у коммунизма границ или формы. В данном случае это разные вещи).
Последний тезис маскирует очередную и в контексте предлагаемых рассуждений, может быть, главную уязвимость марксистского обществознания. В самом деле, либо частная собственность пустила такие глубокие корни, что ее окончательное упразднение растягивается на необозримую перспективу, либо частнособственнические тенденции прорастают на регулярной основе, так что истреблять их придется в таком же ежедневном режиме. Но источник социального зла в отсутствие выступавших в этой роли превращенных общественных отношений становится неразрешимой загадкой. Человек, за вычетом общества, в просветительских схемах – пустая форма. Остаются «фундаментальные условия» человеческого существования. Но экзистенция разбивается о марксистскую аксиоматику в лице социологического онтологизма. Все элементы социального мира до предела делимости имеют общественную природу. Общество – это вся доступная (внутренняя и окружающая) человеку реальность. Никакого сообщения с другими видами и уровнями бытия у него нет. И все экзистенциальные откровения – только интерпретация социального опыта. В человеке (как и «снаружи») нет ничего, кроме общества (Маркс, Энгельс, 1955: 25, 42). Индивидуальность – вариация на общую социальную тему, эпифеномен социоморфной субстанции1.
Но, кроме проблем с коммунистической идентичностью, чем дальше, тем больше вопросов возникало к внешнему «фону». Прежде всего, было по-прежнему непонятно, что делать с капстранами, которые для успеха предприятия должны были подняться «своим ходом» на ту же ступень социального прогресса примерно в то же самое время. Факт существования СССР (особенно в качестве авангарда и ядра мировой социалистической системы) оказал существенное, но косвенное и, как таковое, нерегулируемое воздействие на эволюцию Запада, не столько ускорившее последнюю, сколько столкнувшее с намеченной для нее траектории. В том числе и поэтому попытки прямого влияния не принесли желаемого результата. Те же компартии в центрах «старого» капитализма не смогли вырваться из политической резервации. А без более-менее точной синхронизации процессов все начинания терпят крушение. Тем более параллельный эксперимент с построением коммунизма в натурных условиях стран «некапиталистической ориентации» оказался сплошной профанацией, поскольку с самого начала держался главным образом на искусственном вскармливании. Даже исключения, пережившие советскую помощь, своими неоднозначными достижениями подтверждают поражение, только с другой стороны. Восточноевропейские народные демократии в свою очередь, как спутники советского проекта – самое большее, могли следовать проложенной колеей.
В таких условиях внутренние обстоятельства стали судьбой. Выпускать проект в самостоятельное плавание было все еще рано, но продолжать лабораторные испытания дальше не было ни малейшей возможности. Эмпирическая история, возвращаясь в прежние берега, размывала социалистические устои. Подготовиться к коммунизму за активное время жизни одного поколения не получилось, а передать эстафету исторического штурма по наследству оказалось невыполнимой задачей. Преодолеть гомеостатический барьер набравшей достаточный потенциал самодетерми-нации социальной системы произвольное движение может только в виде инерции. С исчерпанием самодеятельного начала незаконченная конструкция оказалась в безраздельной власти объективных законов истории.
Выводы . В происходящем нет ничего, кроме объективной логики (или воспринимаемого, независимо от мировоззренческой принадлежности, под такой формой) и попыток ее произвольного исправления. При этом в последних всегда наличествует изрядная объективная составляющая. А многие, если не большая часть, и вовсе целиком встроены в «естественный» ход вещей и чаще всего даже не приближаются к его «внешним» границам. Но даже произвол как таковой, то есть выступающий за пределы самозаконной реальности, соперничает не столько с социальным детерминизмом, сколько с собственными амбициями. Уникальный характер советской реальности связан с участием в ней индивидуального и общественного сознания в качестве самостоятельных факторов происходящего, то есть как положенных вне своей культурно-исторической обусловленности. Но создавая на пустом (или «расчищенном») месте, нельзя получить больше непосредственно реализованного. Изначально понимая себя как форму развития коммунистических предпосылок, советский социализм, в отсутствие эволюционного сообщения с бесклассовым обществом, конституировался в качестве замкнутого на себя (и бесконечного в себе) «предкоммунизма». Социализм, которого всегда может быть «больше» достигнутого, имеет внушительный потенциал собственного развития. Но коммунизма как действительности полноты его существенных признаков даже из самого развитого (чтобы это ни значило) социализма произойти не может1. Очевидно, последний тезис в своей категоричности подходит вплотную (на грани искажения геометрии) к границам доказательных возможностей логики рассуждений, что требует удвоенной интеллектуальной и эстетической чуткости в продолжении разговора.
Заключение . Поводом к осторожному оптимизму могут послужить замечания относительно неверифицируемой средствами современного социального знания конструктивной тенденции общественного бытия. Учитывая очевидное преобладание деструктивных процессов над интеграцией, самые нестабильные и короткоживущие культурно-политические конструкции показывают невероятную устойчивость, никак не следующую из их дизайна, а то и вовсе, казалось бы, не совместимую с ним. Одной инерции для объяснения феномена, даже в случае больших систем, недостаточно. К тому же, чтобы ее набрать, тоже требуется немалое время. Логично предположить существование «темной» социальной энергии, уравновешивающей, а местами – и побеждающей центробежные силы, непрерывно испытывающие систему на прочность.
Не проявляясь как таковая, тенденция социальной реальности к структурированному росту реализуется по преимуществу в циклических, воспроизводящих процессах переходом количества в качество. Во всяком случае, такое представление не противоречит (очень подозрительному, правда, с точки зрения философии) здравому смыслу и согласуется с фактами без чрезмерного насилия над последними. (Самая «честная» спекуляция, искренне стремясь к объективности, поворачивает действительность выгодной для себя стороной). Тогда косвенным удостоверением указанной скрытой силы самоорганизации может пока служить только преемственная, на больших интервалах, прогрессия происходящего. Отсутствие гарантий от инородного происхождения последней ставит аргумент на грань жизнеспособности, но указывает направление поисков более твердой почвы.
Список литературы Советский социализм: о природе и уроках проекта
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 2020. 224 с. EDN: QDDXCZ
- Ленин В.И. Государство и революция // Полное собрание сочинений. М., 1969. Т. 33. С. 1-120.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собрание сочинений: в 30 т. М., 1955. Т. 3. 689 с.
- Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2 т. М., 1992. Т. 2. 528 с.
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Сочинения. М., 1955. Т. 21. С. 28-178.