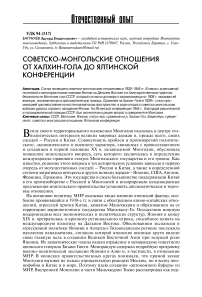Советско-монгольские отношения от Халхин-Гола до ялтинской конференции
Автор: Батунаев Эдуард Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена советско-монгольским отношениям в 1930-1945 гг. В связи с агрессивной политикой и милитаристскими планами Японии на Дальнем Востоке и в Азии единственным гарантом безопасности Монголии стал СССР, который согласно договору о взаимопомощи от 1936 г. оказывал ей военную, экономическую и дипломатическую помощь. Сражение на Халхин-Голе в 1939 г. стало кульминацией противостояния на восточноазиатском пространстве, в ходе которого советско-монгольским войскам удалось отразить нападение Японии. На Ялтинской конференции 1945 г., благодаря решительной и последовательной позиции СССР, был окончательно решен вопрос о суверенитете Монголии.
Ссср, монголия, япония, статус-кво, сражение на р. халхин-гол, коминтерн, суверенитет, советско-монгольские отношения, ялтинская конференция
Короткий адрес: https://sciup.org/170168811
IDR: 170168811 | УДК: 94
Текст научной статьи Советско-монгольские отношения от Халхин-Гола до ялтинской конференции
В силу своего территориального положения Монголия оказалась в центре геополитических интересов великих мировых держав и, прежде всего, своих соседей – России и Китая. Совокупность проблем и противоречий политического, экономического и военного характера, связанных с провозглашением и созданием в первой половине XX в. независимой Монголии, обусловила появление монгольского вопроса, суть которого заключалась в определении международно-правового статуса Монгольского государства и его границ. Как известно, решение этого вопроса в тех исторических условиях зависело в первую очередь от могущественных соседей – России и Китая, а также в определенной степени затрагивало интересы и других великих держав – Японии, США, Англии, Франции, Германии. Эти государства в своем большинстве поддерживали Китай в его противоборстве с Россией и Монголией и игнорировали неоднократные предложения монгольского правительства установить дипломатические и торговые отношения.
На внешнюю политику МНР оказывал также влияние японский фактор, особенно проявившийся в 1930-е гг. в связи с обострением японо-китайских отношений, агрессией против Китая, захватом Маньчжурии и образованием на ее территории марионеточного государства Маньчжоу-Го. Осуществив мощную модернизацию всех экономических и политических структур, Япония к концу XIX в. превратилась в крупного регионального игрока, способного влиять на международную политику на Дальнем Востоке. Обоснованием экспансии и агрессивной политики Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе послужила идеология паназиатизма, согласно которой японские военные круги видели свою главную цель в создании Великой Восточной Азии при ведущей роли Японии. Их захватнические планы нашли отражение в меморандуме известного японского генерала Танаки Гиити. Меморандум содержал подробную программу военно-политической экспансии Японии в Азии и, в частности, в отношении МНР. В японских правительственных кругах понимали, что прямой захват Монголии вызовет не только отрицательную реакцию Москвы, но и волну японофобии в Китае и в мире. Поэтому идею создания «автономного буфера» из МНР, Внутренней Монголии и части Маньчжурии Токио рассматривал как пер- спективную цель, реализация которой будет преподнесена мировой общественности как инициатива самих монгольских князей и лам [История Монголии… 2007: 134].
В начале 1920–30-х гг. СССР и Коминтерн расценивали Монголию как удобный коридор для распространения революционных идей на Восток, прежде всего в Китай. Монголия во внешней политике в 1930–1940-е гг. придерживалась курса на сближение с СССР, связывая с ним гарантии своей государственной независимости. В то же время Монголия проводила и свою собственную политику по объединению всех монгольских территорий – Внутренней Монголии, Барги, Тувы – в одно единое государство.
В связи с агрессивными планами Японии в советской внешней политике был взят курс на укрепление обороноспособности страны, где монгольское направление играло важную роль. В сложившихся условиях для Монголии наиболее реалистической линией и в плане сохранения государственности, и в плане поддержания национальной безопасности был курс на дальнейшее военно-экономическое сближение с СССР [Лузянин 2000: 172]. Таким образом, заключительный период формирования оси «Москва – Улан-Батор» пришелся на середину 1930-х гг. 27 ноября 1934 г. стороны договорились о заключении джентльменского (устного) соглашения, предусматривающего в случае нападения на одну из договаривающихся сторон поддержку и оказание помощи, в т.ч. военной.
Военно-дипломатическая обстановка накануне Халхин-Гола складывалась под влиянием двух обстоятельств: во-первых, Япония стремилась получить в лице МНР выгодный плацдарм на границах с Советским Союзом в рамках реализации японской стратегии создания «конфедерации азиатских народов» под руководством Японии; во-вторых, требовала разрешения сама пограничная проблема. Из-за неопределенности границ и спорных зон между Маньчжоу-Го и Монголией происходили постоянные провокации и приграничные вооруженные столкновения. Следует отметить, что эти территории издавна были контактной зоной многочисленных кочевых племен, поэтому границы носили условный характер.
Монголо-маньчжурские конференции по урегулированию конфликта на приграничной территории, проходившие в 1935–1937 гг., не дали результатов из-за неспособности сторон найти компромисс по ряду ключевых вопросов. Условия пограничного разграничения и требования, выдвинутые японской стороной, были настолько неприемлемыми для советской стороны, что это привело, в конце концов, к срыву дипломатических переговоров. С подписанием антико-минтерновского пакта 1936 г., направленного против СССР, угроза со стороны Японии значительно возросла. Одна из антикоминтерновских целей состояла в том, чтобы ослабить советское влияние во Внешней Монголии и Китае. В этих условиях в 1936 г. был подписан протокол о взаимопомощи между СССР и Монголией1.
По советско-монгольскому протоколу о взаимопомощи СССР выступал в качестве гаранта безопасности и верного союзника Монголии. В связи с заключением протокола о взаимной помощи между МНР и СССР правительство Китая обратилось к правительству СССР с протестом, заявив, что, «поскольку Внешняя Монголия является неотъемлемой частью Китайской Республики, ни одно иностранное государство не должно заключать с ней какое-либо соглашение. Советское правительство, в свою очередь, считало, что не нарушает суверенные права Китая в отношении Монголии, поскольку договор носит сугубо оборонительный характер. Китай не мог оказать какое-либо существенное дав- ление на СССР в виду того, что находился в сложных внешнеполитических условиях из-за оккупации Японией, кроме того, Китайская народная армия получала военную помощь со стороны СССР.
Одной из высших точек восточноазиатского противостояния стал конфликт на р. Халхин-Гол. В российской и зарубежной историографии в разные годы давались самые разные характеристики этих военных событий: «пограничный конфликт», «военный конфликт», «военный инцидент», «военные действия», «боевые действия», «необъявленная война», «война на Халхин-Голе», «Номонханский конфликт» [Кузьмин 2014: 47]. Долгое время халхин-гольские события оставались в тени основных сражений Великой Отечественной войны. Но несмотря на локальный характер, сражение на Халхин-Голе вылилось в масштабную пробу сил, проверку боеспособности Квантунской и Красной армий, чему стороны придавали большое политическое значение, демонстрируя мощь своих вооруженных сил перед потенциальными союзниками в преддверии мировой войны.
Как видим, победа советско-монгольских войск на р. Халхин-Гол в 1939 г. повлияла на решение японского командования повернуть агрессию на юг, в район Тихого океана. Следует отметить, что в японской и американской историографии события на р. Халхин-Гол принято называть локальным инцидентом у г. Номон-Хан. Японские ученые в своих исследованиях возлагают одинаковую ответственность на СССР и на Квантунскую армию за войну на Халхин-Голе. Здесь проявился полководческий талант прославленного маршала Г.К. Жукова, использовавшего в ходе боевых действий тактические и стратегические новации. Из воспоминаний Г.К. Жукова: «Все говорило о том, что это не пограничный конфликт, что японцы не отказались от своих агрессивных целей в отношении Советского Дальнего Востока и МНР и что надо ждать в ближайшее время действий более широкого масштаба» [Маршал Советского… 1973: 165].
Конфликт на реке Халхин-Гол однозначно продемонстрировал слабость японской армии в случае широкомасштабного вооруженного конфликта с хорошо подготовленным и вооруженным противником. Потери японцев составили около 61 тыс. убитыми, ранеными и пленными, 660 самолетов, значительное количество другой боевой техники и военного имущества. Потери советско-монгольской стороны составили более 18,5 тыс. ранеными и убитыми, причем усилиями врачей возвращены в строй 76% раненых [История Великой… 1960: 219]. По мнению Л.В. Кураса, «подавляющая часть современных ученых России и Монголии рассматривают вооруженный конфликт у р. Халхин-Гол не только как конфликт, в основе которого лежали многолетние серьезные противоречия между Россией и Японией на Дальнем Востоке, а, прежде всего, как предтечу Второй мировой войны» [Курас 2014: 146].
Таким образом, конфликт на р. Халхин-Гол стал высшей точкой военного противостояния в Азии, который показал верность СССР союзническому долгу в отстаивании независимости Монголии. Победа на Халхин-Голе в очередной раз подтвердила прочность советско-монгольского военно-политического союза и эффективность его стратегии национальной безопасности на Дальнем Востоке.
22 июня 1941 г. на совместном заседании Президиума ЦК МНРП, Малого хурала и Совета министров МНР было резко осуждено нападении Германии на Советский Союз. Согласно протоколу от 1936 г. о взаимной помощи президиум совместного заседания обратился к монгольскому народу с просьбой оказать посильную помощь советскому народу. В конце декабря 1942 г. возглавлявший делегацию МНР маршал Х. Чойболсан передал фронту четыре эшелона с подарками. Затем правительство МНР перечислило Советскому Союзу 2,5 млн тугриков, 300 кг чистого золота, 100 тыс. долл. США. На эти средства, в частности, были построены 53 танка, из них 32 танка Т-34, на бортах которых стояли слав- ные имена Сухэ-Батора и других героев Монгольской Народной Республики. Кроме танков, советским военно-воздушным силам была передана авиационная эскадрилья «Монгольский арат». Она вошла в состав 2-го Оршанского гвардейского авиационного полка. В течение войны из Монголии было поставлено более 500 тыс. лошадей [Лузянин 2000: 214].
Ключевые события в международных отношениях МНР в годы Второй мировой войны были сопряжены с процессом правового оформления монгольской государственности и завершением длительного периода борьбы монгольского народа за международное признание, продолжавшейся фактически с 1911 г. Перелом наступил в 1940-х гг. и был связан, прежде всего, с поддержкой и дипломатической деятельностью СССР на международной арене.
8 февраля 1945 г. в ходе начавшейся Ялтинской конференции великих держав И.В. Сталин на одной из встреч спросил у Ф. Рузвельта, что тот думает о сохранении статус-кво во Внешней Монголии. Рузвельт ответил, что еще не говорил с Чан Кайши, но думает, «что статус-кво во Внешней Монголии должен быть сохранен» [Лузянин 2000: 214]. 11 февраля 1945 г. было подписано соглашение руководителей СССР, США и Великобритании об условиях вступления в войну с Японией, первым из которых было сохранение статус-кво Внешней Монголии (МНР). В период заключения ялтинских договоренностей 30 июня 1945 г. в Москву прибывает китайская правительственная делегация во главе с премьер-министром Сун Цзывэнем. Монгольский вопрос стал на переговорах одним из центральных. Однако все попытки поставить вопрос о включении МНР в состав Китая были пресечены заявлением И.В. Сталина: «…в случае, если не будет обсуждаться декларация о независимости Внешней Монголии, то мы не будем обсуждать и другие вопросы. Тогда давайте прервем переговоры» [Лхагва 1991: 85].
Тем самым советское руководство дало понять китайской делегации, что СССР не вступит в войну против Японии без признания Китаем независимости МНР. А Пекин был крайне заинтересован, чтобы СССР вступил в войну и освободил Маньчжурию и некоторые другие территории Китая от японской оккупации. В итоге китайская сторона вынуждена была отступить, и переговоры сдвинулись с мертвой точки. 14 августа 1945 г. состоялся обмен нотами между внешнеполитическими ведомствами Китая и СССР о признании независимости Монголии [Белов 2003: 49].
Параллельно с советско-китайскими переговорами по инициативе советского правительства состоялся визит председателя Народного совета министров МНР Х. Чойболсана в Москву, где состоялась его встреча со Сталиным. Основной вопрос, обсуждавшийся в ходе беседы, – советско-китайские переговоры о вступлении в войну с Японией. Выслушав проект декларации СССР и Китая о признании МНР независимым государством и другие документы, Х. Чойболсан сказал: «Да, это то, что мы хотим, но дружбы и дружественного сотрудничества с китайцами у нас не будет. Это очень плохой народ… Они продолжают притеснять монгол во Внутренней Монголии, Алашане, Ордосе. Я хорошо понял смысл декларации. Мы как независимое государство предъявим свой счет китайцам. Мы расскажем всему миру, как они издевались над нами, как они продолжают издеваться над монголами, которые остались у них» [Лузянин 2000: 215].
Следует отметить, что Х. Чойболсан до последнего момента надеялся, что И.В. Сталин окажет помощь в объединении «двух Монголий» в единое Монгольское государство. Но, видимо, это не входило в планы Сталина и его представления о единой Монголии. С другой стороны, СССР не хотел портить отношения с Китаем из-за Монголии, т.к. после победы коммунистов во главе с Мао Цзэдуном в дальнейшем рассчитывал на сотрудничество в рамках единого социалистического лагеря.
В ходе состоявшегося 20 октября 1945 г. всенародного плебисцита по вопросу государственной независимости 100% населения Монголии проголосовали за суверенитет. Закончилась более чем двадцатилетняя борьба за оформление государственного отделения Монголии, однако в официальных кругах и среди китайской общественности еще долго муссировался вопрос о Монголии, якобы отторгнутой путем тайного сговора держав в Ялте за спиной Китая или путем выхода за рамки ялтинских соглашений [Гарушянц 1997: 120].
В последний раз попытку пересмотреть итоги Ялтинского соглашения в отношении Монголии в свою пользу китайская делегация во главе с председателем КПК Мао Цзэдуном предприняла в 1949 г. во время двухмесячного визита в Москву. Одним из проблемных вопросов, поднятых на переговорах, был статус Монголии. Китайская сторона подчеркивала, что речь идет о Внешней Монголии. Мао Цзэдун продолжал настаивать на объединении Внешней и Внутренней Монголии и образовании единой монгольской автономии в составе КНР [Цыбенов 2015: 69]. Все предложения китайской стороны об объединении Внешней и Внутренней Монголии на правах автономии в составе КНР были отклонены. Таким образом, Монголия прошла сложный и долгий путь борьбы за государственную независимость, занявший практически четверть века. Именно благодаря последовательной и принципиальной поддержке СССР Монголия окончательно стала суверенным государством, а в 1961 г. стала полноправным членом ООН.
Список литературы Советско-монгольские отношения от Халхин-Гола до ялтинской конференции
- Белов Е.А. 2003. Решающий период борьбы за независимость. -Азия и Африка. № 11. С. 45-49
- История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-1945. В 6 т. 1960. Т. 1. М.: Воениздат. 750 с
- История Монголии. XX век. (под ред. Р.Б. Рыбакова, Г.С. Яскина). 2007. М.: Ин-т востоковедения РАН. 448 с
- Кузьмин Ю.В. 2014. Война на Халхин-Голе 1939 г. (май-сентябрь) -начало Второй мировой войны: новая историческая версия. -Вестник международного центра азиатских исследований. Вып. 19. Материалы международной научной конференции «Халхин-Гол 1939 г. в мировой истории и международных отношениях: история, историография, концепции». Иркутск. С. 45-65
- Курас Л.В. 2014. Японская военная миссия в Маньчжоу-Го: подготовка к агрессии (к 75-летию событий на Халхин-Голе). -Власть. № 9. С. 143-147
- Лузянин С.Г. 2000. Россия-Монголия-Китай в первой половине XX века. Политические взаимоотношения в 1911-1946 гг. М.: Институт Дальнего Востока РАН. 268 с
- Лхагва Т. 1991. Что же думал Сталин о монголах? -Проблемы Дальнего Востока. № 3. С. 85-90
- Маршал Советского Союза Г.К. Жуков Воспоминания и размышления. 1973. М.: Из-д-во АПН. Т. 1. 567 с
- Цыбенов Б.Д. 2015. Монголия: от статус-кво до юридического признания. -Известия Восточного Института. № 3(27). С. 64-72