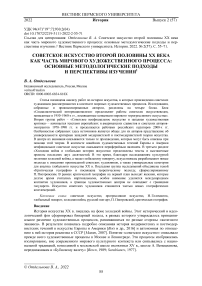Советское искусство второй половины ХХ века как часть мирового художественного процесса: основные методологические подходы и перспективы изучения
Автор: Отдельнова В.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советское искусство и визуальная культура
Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу работ по истории искусства, в которых произведения советских художников рассматриваются в контексте мировых художественных процессов. Исследования, собранные и проанализированные автором, разделены на четыре блока. Блок «Социалистический интернационализм» представляет работы советских искусствоведов, написанные в 1950-1960-х гг., посвященные концепции мирового «прогрессивного искусства». Вторая группа работ - «Советское неофициальное искусство и западная художественная критика» - начинается текстами европейских и американских славистов и советских авторов-эмигрантов 1970-1990 гг. и продолжается работами российских кураторов 2000-х гг. Особенностью собранных здесь источников является общее для их авторов представление об универсальности критериев западной модернистской и постмодернистской теории искусства. В центре их внимания оказываются только те произведения, которые могут быть описаны при помощи этой теории. В контексте новейших художественных течений Европы и Америки неофициальное советское искусство оказывается периферийным явлением. В третьем разделе «Холодная война и глобальная история искусства» представлены тексты и выставочные проекты последних двух десятилетий. В это время, благодаря исследованиям культурной политики холодной войны, а также глобальному повороту, искусствоведы разрабатывают новые подходы к описанию произведений советских художников, а также универсальные категории для анализа глобального искусства ХХ в. Последняя группа исследований объединена темой «Критическая география» и посвящена теоретическому подходу, сформулированному П. Пиотровским. В рамках критической географии на первый план выходят явления, которые долгое время считались маргинальными, особое внимание уделяется международным контактам художников, а границы художественных центров не совпадают с границами государств. Искусство советских художников становится частью новых географических конгломераций.
Советское искусство, прогрессивное искусство, и. голомшток, глобальный поворот, холодная война, русский поп-арт, п. пиотровский, критическая география
Короткий адрес: https://sciup.org/147246426
IDR: 147246426 | УДК: 94(47)"19":7]:930.2(04) | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-55-71
Текст научной статьи Советское искусство второй половины ХХ века как часть мирового художественного процесса: основные методологические подходы и перспективы изучения
История искусства ХХ в. писалась на фоне холодной войны. Этот исторический и идеологический фон сформировал бинарный подход, в рамках которого утверждалось принципиальное различие художественных процессов, развивавшихся по разные стороны «железного занавеса». В результате появилась подробно описанная история модернистских и постмодернистских течений в искусстве Европы и Америки [ Bois и др., 2016] и автономная по отношению к ней история реализма в СССР [ Манин , 2007]. Понятие «советское искусство» описывало прежде всего художественные процессы в Москве и Ленинграде. Эти процессы изображались изолированно, вне современного мирового культурного контекста или связывались с национальной традицией, возводимой к московской школе иконописи XV в., школе А. Венецианова, передвижникам и «Бубновому валету» [ Bown , 1989; Sarabianov , 1977].
Столь принципиальное разделение мира искусства на два лагеря (восток – запад, социализм – капитализм, реализм – модернизм) привело к упрощению в описании художественных процессов ХХ в. Многие явления и целые регионы выпали из поля зрения историков искусства, поскольку не соответствовали сконструированной схеме бинарного мира.
Перелом произошел в 2000-е гг., когда идеи глобального поворота и критика европоцен-тричного восприятия искусства были спроецированы на историю искусства ХХ столетия [ Бельтинг , 2020; Amirsadeghi , 2011]. В это время заметным стал интерес к переосмыслению советского искусства, интеграции его в мировой художественный процесс. Одновременно усложнилось представление об искусстве ХХ в. в целом: появились работы о явлениях, долгое время считавшихся маргинальными. Последовательно новый взгляд обосновывается историками послевоенной архитектуры, опирающимися на понятия международного модернизма [ Новиков, Белоголовский , 2010] или глобального социализма [ Stanek , 2020].
В центре внимания данной статьи – исследования, посвященные советскому изобразительному искусству, по поводу которого ведется полемика о том, каким образом советское художественное наследие может быть вписано в общую историю ХХ в. Имена художников, научные подходы, словарь критических понятий – все остается предметом дискуссии. Задача данной статьи – проанализировать существующие исследования, а также наметить перспективы для дальнейшей работы.
Социалистический интернационализм2: 1950–1960-е гг. Советское искусство не мыслило себя изолировано. Для довоенного периода был характерен интенсивный обмен выставками и идеями между СССР и странами Европы [ Дэвид-Фокс , 2015]. После Второй мировой войны вектор художественной политики изменился: учрежденная в 1947 г. Академия художеств СССР занялась конструированием национальной художественной традиции. В эти годы международные амбиции Советского Союза выразились в его экспансивной политике и насаждении соцреализма в Восточной Европе [ Baudin , 1997]. В эпоху «оттепели» в официальной повестке СССР сосуществовало два направления. В рамках одного, поддерживаемого Академией художеств и подогреваемого холодной войной, единственным возможным творческим методом в социалистическом государстве считался соцреализм, а советское искусство выступало его законодателем и образцом. Другое направление было связано с воспоминаниями о международном обмене 1920–1930-х гг. и поддерживалось интернациональным поворотом в политике СССР, выразившемся в череде международных выставок, прошедших в Москве с 1956 по 1962 гг. [ Герчук , 2016, с. 94–96]
Черты обоих направлений проявились в гибридном проекте, который С. Рейд определила как «международный социализм под советским руководством» [ Reid , 2018, с. 270]3. В художественной жизни манифестом этого проекта стала выставка «Искусство стран социализма», которая прошла в Москве в 1958 г. и объединила произведения художников из Албании, Венгрии, Польши, ГДР, Румынии, Чехословакии, Китая, Северной Кореи, Вьетнама и Монголии «под сенью Кремля, чтобы подчеркнуть статус Москвы как подлинного лидера объединенного социалистического лагеря в его борьбе за сохранение “эстетических ценностей гуманизма”» [ Reid , 2000, р. 105]. На открытии выставки председатель Союза художников СССР С. Герасимов объявил, что это первая выставка, организованная не по территориальному и не по хронологическому принципу, но по принципу общих для всех участников «прогрессивной идеи, идеи социализма» и объявил, что пришло время «определить искусство соцреализма в международном масштабе» [Там же, р. 106].
На рубеже 1950–1960-х гг. в советской художественной критике стали популярны концепты «прогрессивного» и «гуманистического» искусства. Его признаками считались социалистическая или антивоенная тематика и реалистическая форма. Советское искусство, как и искусство Восточной Европы, трактовалось как прогрессивное и гуманистическое по умолчанию. В это же время стали выходить работы, посвященные «прогрессивным художникам» Западной Европы и Америки [ Прокофьев , 1961; Турова , 1960; Херсонская , 1956] – интернациональный контекст, в котором мыслило себя советское искусство, значительно расширился. Одновременно стала складываться советская редакция истории искусства ХХ в., которая опиралась на марксистские идеи и потому напрямую связывала развитие искусства с политическим контекстом и идеей прогресса [ Прокофьев, 1960].
В середине 1960-х гг. окончательно сформировался и застыл список имен «прогрессивных художников», а описание этого явления приобрело законченные формы и превратилось в развернутую, хоть и не всегда логичную систему. Примером обобщающей и систематизирующей работы является монография «Современное прогрессивное искусство в странах капитализма» И. Голомштока и И. Каретниковой [ Голомшток , Каретникова , 1965]. В книге подчеркнуто принципиальное значение общественных и политических событий – демократических революций, уничтожения колоний и борьбы с фашизмом. Именно эти события, по словам авторов, определили общемировой, не национальный характер искусства и радикально изменили географию художественного мира, выдвинув на место старых центров – Рима и Парижа – «новые очаги художественной культуры. Самый мощный из них – Латинская Америка, и поток влияний начинает менять свое направление» [ Голомшток, Каретникова, 1965, c. 10]. Перестраивая карту художественного мира, авторы упоминают об искусстве Мексики, Бразилии, Аргентины, Перу, Японии, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Греции. В каждой из этих стран они находят художников, работающих в реалистической манере и откликающихся на социальные проблемы, такие как труд рабочих или угроза атомной войны.
У истории «прогрессивного искусства» имеется также своя хронология. В межвоенный период художники заявляют о «неприятии буржуазной действительности», затем выступают как борцы с фашизмом, а после войны ведут «поиски положительного идеала в социальной действительности» [ Голомшток, Каретникова , 1965]. Впрочем, подчас бывает трудно не заметить явные нестыковки между произведениями искусства и описаниями, которые их сопровождают. Например, о французском модернисте Ф. Леже говорится, что ему удалось «показать могучую силу трудовых рук человека, подчиняющих себе мертвый мир неорганических форм» [ Голомшток, Каретникова , 1965, с. 46]. Неубедительным кажется и определение художника-борца применительно к Р. Кенту или А. Рефержье. Желание авторов включить в историю искусства всех художников-коммунистов и описать их искусство при помощи идеологических клише советской пропаганды выдает политическую ангажированность их текста и обесценивает смелую попытку выстроить новую общую картину истории искусства ХХ в.
Высокий статус модернистов П. Пикассо, Ф. Леже, Д. Риверы и Х.Сикейроса в советском искусствознании, вероятно, был связан не только с фактом их членства в коммунистической партии. Не менее важным был опыт сотрудничества этих художников с СССР Союзом в 1920– 1930-е гг. В этом смысле культурная повестка оттепели оказалась тесно связана с довоенной.
В книгах и статьях, написанных в 1970-е и 1980-е гг., используются схожие логические построения, неизменным остается список имен художников и их произведений [Борьба…, 1975; Калитина , 1976; Малахов , 1980]. Таким образом, концепция международного реализма постепенно отодвигается в прошлое, становится чертой определенного времени – рубежа 1950– 1960-х гг. С середины 1960-х гг. чаще появляются книги, в которых разработка марксистского концепта «прогрессивного искусства» вытесняется полемикой с модернизмом [Модернизм. Анализ…, 1969]. Такая смена риторики, с одной стороны, свидетельствует об усилении холодной войны, с другой – подобные критические издания служили основным источником информации о модернизме в СССР. Можно предположить, что их появление способствовало росту популярности модернизма и угасанию интереса к международному реализму среди советских художников и критиков.
Советское неофициальное искусство и западная художественная критика: 1970–2000-е гг.
В то время, когда советская официальная критика говорила о концепции мирового реализма, внутри неофициальной культуры формировалась иная точка зрения. И. Кабаков вспоминает о стремлении художников его круга «установить контакт, находясь в изоляции, в подполье, с сильными, живыми и значительными уровнями, существующими за пределами того облегающего, давящего, безысходного мира, присутствие и дыхание которого ежеминутно чувствует каждый художник, живущий в подполье. <...> по случайным обрывкам бумаги или слов, занесенных бог знает как и когда в него, понять Историю и Бытие, существующие до, вокруг и за пределами котлована» [Кабаков, 2008, с. 62]. Говоря об обрывках бумаги и слов, Кабаков, очевидно, подразумевает информацию о новейших течениях в западном искусстве, недоступную советскому читателю. Похожая тема – поиск своего места внутри истории современного искусства – читается между строк в еще одном важном источнике – недавно опубликованной «Переписке художников с журналом “А–Я”» [Переписка…, 2019].
Если годы оттепели были временем знакомства с мировым искусством посредством международных выставок, формировавшихся в результате сотрудничества Министерства культуры СССР с западными министерствами и музеями, то 1970-е гг. отмечены желанием советских художников взаимодействовать с международной художественной сценой напрямую. Такое взаимодействие стало возможным благодаря эмиграции многих советских художников, а также заинтересованности западных коллекционеров и критиков.
Впрочем, первые публикации советского искусства за границей часто служили не интеграции художников, а, напротив, экзотизации и коммерциализации их искусства. Сегодня эти публикации читаются как памятник эпохи холодной войны. Их авторы подчеркивают не художественное, а политическое значение советского искусства и говорят о нравственных качествах советских художников. Так построены тексты в каталогах к выставкам коллекции А. Глезера1, прошедшим во второй половине 1970-х гг. в Париже, Лондоне и Нью-Йорке [ Penrose , 1977, c. xiv; Golomshtok , 1977, c. 34]. Эти показы советского неофициального искусства не имели концепции и строились вокруг фигуры коллекционера. Схожим образом была устроена выставка собрания американца Н. Доджа, прошедшая в 1979 г. в Мэриленде. Экспозиции имела сборный состав, однако в каталоге была сделана одна из первых известных попыток систематизировать советское неофициальное искусство. В отдельных статьях было рассмотрено искусство Ленинграда и Эстонии, выделены такие направления, как сюрреализм, беспредметное искусство, концептуализм и поп-арт. Несмотря на то что большинство статей апеллировало к «русской традиции», чертами которой назывались логоцентризм, изолированность от остального мира и подчиненность государству, в некоторых текстах присутствовало допущение, что неофициальное искусство могло быть рассмотрено как часть мирового модернистского процесса. Так, Н. Додж и Э. Хилтон осторожно замечают: «Кажется, что некоторые советские художники действительно смогли развить способы выражения и коммуникации параллельные тем, что используются современными концептуальными художниками в Соединенных Штатах и Европе» [ Dodge, Hilton, 1977, c. 13]. В качестве примера они сравнивают работы Э. Белютина, манеру которого определяют «между экспрессионизмом и абстрактным экспрессионизмом», с произведениями В. де Кунинга. Подобные единичные сравнения, построенные на основании внешнего подобия, выглядят случайными и неаргументированными. Впрочем, как признаются Додж и Хилтон, ими руководило прежде всего желание «помочь художникам-эмигрантам найти свое место на американской арт-сцене» [ Dodge, Hilton, 1977, c. 7].
В 1979 г. в Париже начал издаваться журнал «А–Я», который до середины 1980-х гг. был главным источником информации о советском неофициальном искусстве в мире. Сегодня журнал определяется как «лучший сводный источник по истории отечественного концептуализма», в котором к тому же «образ культуры видится в качестве некоего глобалистского и принципиально интердисциплинарного целого» [ Ельшевская , 2004, с. IV]. Журнал изначально задумывался как средство для построения прямого диалога советских художников с западным миром. Он также стал платформой для теоретических построений. Как отмечает Г. Ельшевская, «в статье Гройса “Романтический концептуализм” набор художественных жестов впервые позиционируется в качестве целостного явления, соотносимого с интернациональным контекстом. И далее постоянными героями журнала становятся Илья Кабаков, Иван Чуйков, Эрик Булатов, Олег Васильев, Борис Орлов, Римма и Валерий Герловины, Эдуард Гороховский, Франциско Инфантэ, Леонид Соков, Вагрич Бахчанян, группа Коллективные действия, а также Комар с Меламидом и “Мухоморы”, репрезентирующие как бы следующий этап общемирового движения» [ Ельшевская , 2004, c. IV].
Качественный поворот в описании советского неофициального искусства демонстрируют выставки и тексты М. Тупицыной, относящиеся к 1980–1990-м гг4. Тупицына принципиально отделяет искусство 1960-х от концептуализма, соцарта и течений 1980-х гг. Первое она описывает как политический феномен – «диссидентский модернизм» – и указывает на его маргинальный характер: с одной стороны, художники вдохновлялись западным модернизмом, с другой – они заимствовали лишь внешнюю форму, не понимая контекста возникновения модернистского искусства [Тупицына, 1997, c. 14]. Советское неофициальное искусство 1970–1980-х гг. она назы- вает критическим и постмодернистским, для интерпретации работ И. Кабакова, В. Комара и А. Меламида, группы «Коллективные действия» она использует язык философии структуралистов и постструктуралистов Р. Барта, Л. Альтюссера, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза.
Тупицына поместила советское искусство в рамки современного западного искусствоведческого критического дискурса, но не художественного процесса. Ее подход, во многом созвучный современному ей марксистскому искусствоведению, рассматривал искусство как социальное и политическое явление, поэтому произведения советских авторов, даже будучи включенными в мировой критический дискурс, остались изолированными. В работах Тупицыной ярко выражена позиция западного критика, оценивающего советское искусство мерками американского канона. Эта позиция определяет и хронологические построения в ее работах: ключевыми событиями называются американская выставка в Сокольниках и бульдозерная выставка. Последняя, по мнению Тупицыной, стала поворотным событием, поскольку вызвала международный протест и тем самым способствовала выходу искусства из затвора.
В 2000-е гг. идея интеграции советского искусства в мировой художественный контекст стала важной частью публичной повестки российской критики. Куратор А. Ерофеев, бывший в то время заведующим отделом Новейших течений Третьяковской галереи, провел в музее выставки «Русский поп-арт» (2005) и «Русский леттризм» (2009). Ерофеева интересовали прямые параллели между западным и советским искусством. А возникшие при этом исторические противоречия и нестыковки он сглаживал при помощи эпитета «русский». В одном из своих текстов куратор рассуждает о существовании «общекультурного европейского императива, который откуда-то сверху диктовал художнику в данное конкретное время сменить оптику, ракурс и проблематику мировосприятия и, соответственно, стиль и тип произведения. Русские художники профессиональным чутьем улавливали флюиды этого культурного знания, которые доходили к ним поверх «железного занавеса» цензуры и запретов» [ Ерофеев , 2012]. Кроме того, он озвучивает идею параллельных циклов в развитии искусства разных стран. Так, например, в Америке в 1960-е гг. случился кризис абстрактного экспрессионизма, а в СССР в это же время – подпольного «метафизического» искусства нонконформизма. В результате в обеих странах возникло движение поп-арт. В Нью-Йорке его представителями были Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Т. Вессельман, а в Москве – М. Рогинский, М. Чернышов и Б. Турецкий [ Ерофеев , 2005].
В проектах Ерофеева 2000-х гг. замысел оказывается важнее аргументации, историческая точность приносится в жертву желанию перестроить историю искусства, найти новый неожиданный ракурс. В результате рядовые события обретают революционную значимость, эксперименты художников – преувеличенный масштаб. Так, по его словам, эффект от VI Фестиваля молодежи и студентов «был достоин описанного в Деяниях Апостолов преображения Савла – мгновенная немота и слепота, затем полная “перезагрузка” всех чувств и убеждений. Целый ряд авторов, прошедших курс идеологического обучения в духе “соцреализма”, в одночасье, на глазах, превратились в адептов нового авангарда. <...> Они как бы уже и не жили в СССР, для них принуждения советской культуры закончились» [ Ерофеев , 2012].
Концепция, построенная на чрезмерных обобщениях, вызвала возражения. Художник и критик В. Сальников назвал русский поп-арт иллюзией, которая поддерживается «с помощью единичных вещей отдельных художников-нонконформистов, нестройно датированных то 60-ми, то 80-ми, то 90-ми годами» [ Сальников, 2005]. Сальников говорит о необходимости различать устойчивую тенденцию и случайные черты сходства: «нечто поп-артистское можно найти в мастерской почти любого художника 60–80-х гг., независимо от генеральной линии его творчества и степени его официальности, впрочем, как и нечто абстракционистское или сюрреалистическое, что ни в одном случае не привело к формированию устойчивых художественных движений, вообще движений, аналогичных западным» [ Сальников , 2005].
Идея проецирования истории западного современного искусства на советскую художественную сцену связывается Сальниковым с неотрефлексированной риторикой холодной войны. По его мнению, американский contemporary art является такой же искусственной конструкцией, как и соцреализм, а использование понятия «поп-арт» упрощает и обесценивает творчество советских художников, которое должны быть концептуализировано, а не загнано под ярлык.
Холодная война и глобальная история искусства: 2000–2010-е. Холодная война, ее риторика и влияние на искусство занимали исследователей начиная с 1970-х гг. В 2000–
2010-е гг. этот интерес вылился в целое направление научного знания [ Saunders , 2000; Richmond , 2003; Gardner и др., 2012; Mikkonen и др., 2009; Johnson , 2010]. В этих исследованиях критиковалась модель биполярного мира с центрами-антагонистами в Москве и Нью-Йорке, а также идея непроницаемости «железного занавеса». Тенденция использовать западную модель развития искусства как универсальную и применять ее для оценки художественных явлений во всем мире была интерпретирована как проявление культурной гегемонии США – страны-победительницы в холодной войне. Характерная для названных исследований критика биполярности, четко определенных позиций центра и периферии, победителей и проигравших во многом созвучна активно развивающимся в это же время идеям постколониальной теории.
Альтернативой западной универсалистской модели в 2000-е гг. становится поиск общих черт у советского и западного искусства. Среди всех направлений советского искусства чаще всего в мировой контекст включаются работы московских концептуалистов: они появляются как на международных выставках, так и в научных исследованиях [Conceptual Art, 2002; Hopkins , 2016; Postmodernism…, 2003]. В 2011 г. В. Хиллингс в статье с характерным названием «Где граница между нами?» писала: «По обе стороны железного занавеса в 1960–1970-е гг. <художники> говорили на разных литературных и художественных языках <...> и все же многое из того, что они создавали, выглядело одинаково и имело общие фундаментальные черты и стремления». Среди этих черт она, в частности, назвала критику модернизма и его утопических проектов, проявившихся в гринбергианской модели на западе и доктрине соцреализма в СССР [ Hillings , 2002, р. 260—261].
Примеры описания неконцептуального советского искусства как части мирового редки. Одним из таких исключений является книга Б. Прендвиля, в которой живопись А. Лактионова, А. Пластова и Г. Коржева изображена как локальный вариант искусства европейского реализма ХХ в. [ Prenaville , 2000].
В 2007 г. в Петербурге вышла книга искусствоведа Е. Андреевой «Постмодернизм: искусство второй половины ХХ – начала ХХI века» [ Андреева , 2007]. Ключевой в монографии стала категория современности, а предметом исследования – различные способы репрезентации современности, предлагавшиеся художниками из США, Европы и Советского Союза. Книга устроена по принципу многоголосого рассказа: в ней приведено множество дополняющих друг друга историй, из которых складывается сложная картина искусства ХХ в. Андреевой удается выявить неожиданные внестилевые точки соприкосновения советских и европейских авторов: опыт Второй мировой войны (Дюбюффе – Бэкон – Арефьев), интерес к повседневному и «планетарное ощущение обновившейся современной жизни» (Ольденбург – Рухин – Рогинский) или использование авангарда как источника для «моделирования современности» (Оп-арт – группа «Движение»). В этой книге находится место и фигуративному искусству, которое в 1960-е гг. стремится показать гиперболизированную, гиперматериальную реальность, поражающую «неестественностью фактуры» (Коржев – Перлштейн), а в 1980-е гг. в формах неоэкспрессионизма занимается апроприацией истории (Люперц – Кифер – ленинградская группа «Новые художники»). Наконец, советские авторы появляются и в разделе о протестном и политическом искусстве: «бульдозерная выставка» 1974 г. описана как «борьба художников за право на профессию» [ Андреева , 2007, с. 204].
Книга Андреевой стала первой версией истории искусства ХХ в., в которой различные явления советского искусства не были маргинализированы или, напротив, адаптированы к западноевропейскому канону, но выступили как самоценные феномены, во многом определившие облик мирового искусства.
Другой важной работой стала монография Е. Бобринской «Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции», изданная через пять лет после «Постмодернизма» Андреевой. В книге анализируются только советские произведения, однако автор ставит задачу вписать неофициальное искусство «в общую картину <...> мировой культуры прошлого века», а также «уловить и описать проблематику неофициального искусства, не укладывающуюся в границы известных направлений <экспрессионизм, поп-арт и др.>, существующую поверх этих границ» [ Бобринская , 2013, c. 11].
Во вступлении к книге Бобринская полемизирует с авторами, которые пытаются «не только описать скрытую художественную жизнь Москвы и Ленинграда, но и постараться впи- сать ее в те или иные интерпретационные модели, созданные для западного искусства. Иными словами — сконструировать мифологию существования в советском обществе нормального, западного менталитета, традиции и проч.» [Бобринская, 2013, c. 16]. Отказавшись следовать традиционной модели истории искусства, построенной на череде художественных направлений, Бобринская рассматривает произведения неофициальных художников на фоне философских и мировоззренческих проблем ХХ в.
Модернистская «мифология отверженности» используется как рамка для интерпретации искусства А. Арефьева, О. Рабина, Д. Краснопевцева, В. Ситникова, В. Пятницкого. Идеи структуралистов и постструктуралистов оборачиваются в творчестве неофициальных художников интересом к тексту, критике языка как средства власти, включением в произведения надписей (В. Комар и А. Меламид, И. Кабаков, И. Чуйков, Л. Соков). Постмодернистская «Теория пародии» Л. Хатчеона, сюрреалистический принцип создания «ошеломительного образа» и идея «смерти автора» Р. Барта становятся ключами для объяснения искусства соц-арта.
Чаще всего Бобринская избегает прямых сопоставлений советского и западного искусства либо сопоставляет работы советских художников с довоенным искусством Европы (Рабин – экспрессионизм, Мунк; Краснопевцев – Магритт; Орлов – Пикассо). Исключением является творчество Г. Брускина, чей метод описан как постмодернистская игра с памятью и соотнесен с методом немецких художников А. Кифера, М. Паладино, С. Киа, Г. Базелица.
В своих книгах Андреева и Бобринская по-разному решают проблему интеграции советского искусства в мировую историю ХХ в., однако двух авторов объединяет подчеркнутый разрыв с риторикой холодной войны. Она игнорируется как идеологическая линза, исказившая картину художественных связей ХХ столетия.
Принципиально иную концепцию выдвинул американский искусствовед Д. Кёрли [ Curley , 2018]. В своей книге «Глобальное искусство и Холодная война» он проблематизировал опыт холодной войны и сделал его ключевым для понимания художественных процессов ХХ в. Вовлеченность разных стран в этот общемировой конфликт и, как следствие, общность многих социально-политических процессов и идеологии позволяют ему говорить о существовании глобального контекста во второй половине ХХ в. задолго до распада Советского Союза. По словам Кёрли, «главные художественные течения, такие как абстрактный экспрессионизм, поп-арт, концептуализм и нео-экспрессионизм <...> были сформированы развитием холодной войны. <...> Формирование этого особого западного художественного канона – как и его советского двойника – опиралось на саму структуру конфликта» [ Curley , 2018, р. 16].
Автор выстраивает сложные неочевидные переклички и пересечения между художественными произведениями, что выглядит новаторски смело, но не всегда убедительно. Так, например, в первой главе он сперва сталкивает «Осенний ритм» Дж. Поллока и написанную бригадным методом советскую картину «Молодежь мира – за мир» и, ссылаясь на разные аспекты – манеру написания, восприятие современниками, метод – представляет их полными антагонистами. А затем предлагает оспорить это представление, обращая внимание на «социалистические корни абстрактного экспрессионизма» и «модернистское происхождение соцреализма». Наконец, общей чертой двух художественных явлений он называет стремление к статусу «универсального мирового стиля» и «утопизм» [ Curley , 2018, р. 20–23].
Новаторским в книге Кёрли стало включение в обзор художников из стран Восточной Европы, Азии и Латинской Америки, искусство которых долгое время описывалось как маргинальное по отношению к двум универсалистским канонам США и СССР. В результате искусство ХХ в. предстало как многополярный мир, в котором художники разных стран по-своему отвечают на политические события холодной войны.
В 2000–2010-е гг. переосмыслением наследия холодной войны занимались не только исследователи, но и кураторы выставок. Кураторы выставки «Москва – Берлин – Москва 1950– 2000» (экспонирование: Мартин-Гропиус Бау, Берлин, 2003; Государственный исторический музей, Москва, 2004) программно отказались от оппозиций Восток – Запад, модернизм – соцреализм [Москва, Berlin…, 2004]. Структура выставки была подчинена этой амбициозной задаче: она строилась независимо от пространственно-временных координат, работы группировались в тематические разделы. Каждый раздел представлял определенную культурную, философскую или социальную категорию, которая, как подразумевалось, описывала поиски и методы работы художников, как в Москве, так и в обеих частях Берлина. Этими категориями стали «Возвышенное», «Старые раны», «Повседневность», «Космос», «Социальная пластика», «Соты», «Мифы», «Террор добродетели», «Атака клоунов», «Тревога». Внутри разделов работы группировались независимо от периода и места их возникновения. Выставка выглядела как постмодернистская игра, результат которой кураторы не знали заранее. Экспериментируя, они объединяли работы, противоположные по стилю, технике и контексту возникновения. Иногда кураторам удавалось обнаружить общность интонации у формально непохожих художников. Так, тема выживания на фронте и в лагере, возвращения в разрушенный войной мир объединила работы Б. Свешникова, Б. Хайзига, В. Тюбке, А. Арефьева, Г. Коржева, Г. Юккера и Й. Бойса.
Однако чаще подбор работ выглядел случайным. Например, в разделе «Возвышенное» рядом оказались соцреалисты Ф. Богородский, В. Яковлев и немецкий живописец А. Кифер, фотографы А. Гурски, Л. Дамбек, соц-артисты Б. Орлов, В. Комар, А. Меламид и академический живописец Д. Жилинский. Соседство этих художников зачастую объяснялось случайными связями: композиционное сходство работ Ф. Богородского и М. Тенси, обращение к классическому искусству у Яковлева, Кошлякова и Дамбека.
Примененный кураторами метод свободных ассоциаций спровоцировал широкую критику. Историк К. Шлегель назвал выставку «стертой историей» из-за создания искусственных неочевидных связей и пренебрежения реальными историческими контактами, существовавшими между Москвой и Берлином [Берлин – Москва…, 2003]. Коллекционер и знаток искусства Восточной Германии Ю. Вайхардт отмечал, что «некоторые художники оказались буквально втиснутыми в концепции» [ Вайхардт , 2004], а критик А. Ерофеев назвал подход кураторов «перенесением метода соц-арта в экспозицию» [ Ерофеев , 2020]. Однако сегодня очевидно значение выставки «Москва–Берлин», представившей вариант универсальных категорий для описания искусства ХХ в., альтернативный как идеям «прогрессивного искусства», так и западноцентричной модели истории искусства.
Метод прямого сопоставления был использован в 2021 г. на выставке «Cool Cold War. Коллекция Людвига» в Мартин-Гропиус Бау, представившей работы советских и американских художников из знаменитой частной коллекции. В статье каталога куратор Б. Францен назвала выставку «экспериментом», призванным «начать изучение вопроса и предложить убедительную структуру <...> сопоставления» искусства США и СССР [ Францен , 2020, c. 100]. Она подчеркнуто отказалась учитывать значение холодной войны, подчеркнув, что во второй половине ХХ в. «люди <...> повернулись лицом друг к другу, <...> человечество трансформировалось и сформировалось как единое целое» [ Францен , 2020, c. 102].
Поставив перед собой те же задачи, что и кураторы выставки «Москва–Берлин», команда Францен применила несколько иной подход. Точкой отсчета на этот раз стала не концепция, а художественные произведения. Именно они продиктовали сюжетно-тематическую структуру выставки, построенной из разделов «досуг/работа», «город/деревня», «космонавтика», «культовые образы», «завоевание улицы», «реализмы», «новые реализмы». Первая часть выставки – «Пролог» – была посвящена абстрактному экспрессионизму и демонстрировала работы, показанные в 1959 г. на Американской выставке в Сокольниках, а также картины Э. Белютина и В. Немухина. Произведения Дж. Джонса и А. Харитонова оказались рядом как отразившие «интерес к переработке политических образных метафор и пропагандистских тем», абстракции Л. Лозано и В. Янкилевского — как свидетели технического прогресса и страха перед возможной атомной войной. Этот раздел получился, пожалуй, самым цельным и убедительным. В других частях выставки параллели выглядят более спорно. Композиционное сходство «На безымянной высоте» Б. Неменского и «Любовников» Х. Кановиц едва ли может быть аргументом для сопоставления этих противоположных по замыслу картин. В своей работе кураторы были ограничены размерами коллекции, но, очевидно, что и выбранный ими сюжетно-тематический подход не отвечал поставленной задаче. В результате каталог «The Cool Cold War» опровергает первоначальный замысел и демонстрирует скорее различия, нежели пересечения советского и американского художественного опыта.
Среди проектов 2010-х гг. необходимо упомянуть выставку «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968», показанную в Государственном музее изобразительных искусства им. А. С. Пушкина в 2017 г. Кураторы предложили «панъевропейскую точку зрения», а общим началом, объединившим все европейские страны, назвали разрушительный опыт Второй мировой войны: «После двух мировых войн, после сотен миллионов жертв политических репрессий, после антигуманных тоталитарных режимов, после холокоста, Хиросимы и ГУЛАГа Европа оказалась один на один с ужасным прошлым, которое выбивало почву из-под ног и поставило под сомнение все, казавшиеся дотоле незыблемыми истины» [Вайбель, 2017, c. 22]. На выставке было показано, как художники из 18 европейский стран размышляли «на тему войны, скорби и памяти, холодной войны и борьбы за мир», и их размышления соединились с «историей развития нового реализма и нового идеализма, которая подводит зрителей к вопросу о конце утопии в 1968 г.» [ Вайбель, Гиллен, 2017, с. 14].
Другим важным шагом, предпринятым на выставке, стала реабилитация реализма, включение его в историю современного искусства. По словам кураторов, пришло время «переписать историю европейского искусства после 1945 г., в которой описывалось триумфальное шествие абстрактного экспрессионизма, символизировавшего свободный Запад, тогда как социалистический реализм преподносился как форма выражения консерватизма коммунистического востока. Сейчас мы знаем, что эта модель истории искусства сама как минимум отчасти была продуктом доминирования США» [ Вайбель, Гиллен , 2017, с. 14]. В действительности же, в Восточной Европе существовала абстракция, а реализм был также и частью западного мира.
В экспозиции кураторы избежали прямых смысловых и формальных аналогий, а в выборе произведений руководствовались не только их содержанием, но и пластическими свойствами. В результате выставка стала цельным визуальным высказыванием, свидетельствующим о единстве контекста и общей траектории развития пластического языка изобразительного искусства Европы.
Критическая география: 2010-е гг.
В 2009 г. в Чикаго вышел английский перевод книги польского искусствоведа П. Пиотровского «В тени Ялты. Искусство и авангард в Восточной Европе, 1945-1989» [ Piotrowski, 2009]. Эта книга стала поворотной. Пиотровский критиковал практику использования понятийного языка из современной западной теории искусства для анализа произведений восточноевропейских художников и указывал на тоталитарную природу и ограниченность подхода, согласно которому художник должен сперва выучить язык западного искусства, а затем на нем рассказать историю своего региона. В русле постколониальной критики Пиотровский предложил отказаться от соотношения центр–периферия и противопоставил традиционной западноцентричной модели динамическую идею критической географии.
В написанной в это же время статье «О пространственном повороте горизонтальной истории искусства» Пиотровский предложил конкретные шаги для развития критической географии: во-первых, деконструировать понятия западной художественной критики, чтобы определить, какое значение те или иные явления западного новейшего искусства имели в местном локальном контексте. Во-вторых, отказаться от идеи стилистической однородности, изучать сочетание стилей, их местные вариации. В-третьих, признать существование местных художественных канонов и систем ценностей. Следующим шагом, по мнению Пиотровского, будет согласование этих различных локальных версий современного искусства, но не для создания единого мета-нарратива, а для их сравнения [ Piotrowski, 2008].
Идеи Пиотровского вылились в целое направление в современном искусствознании Восточной Европы [ Allas, Hock, 2018; Hughes , 2019]. Понятия «поп-арт», «арт информель», «неоконструктивизм», использовавшиеся в ХХ в. для описания западного искусства, применительно к искусству Восточной Европы получили расширенное значение. Р. и М. Фоукс, ссылаясь на идеи постколониальной критики, предложили «переосмыслить устои историкохудожественной терминологии, которые традиционно служили цели обеспечения господства западной модели путем патрулирования чистоты художественных стилей. <...> Местные варианты <художественных направлений> расширяют значение международных терминов» [ Fowkes , 2020, р. 12].
В своих исследованиях Пиотровский и его последователи практически не уделяют внимания советскому искусству. Однако методы, которые они разрабатывают, могут применяться и к искусству СССР. Более того, в течение последних нескольких лет исследователи советского искусства все чаще принимают участие в международных проектах, посвященных критической географии. Одним из таких проектов стал сборник «Искусство без границ», выпущенный в 2018 г. под редакцией П. Пиотровского, Ж. Базена и П. Д. Глатиньи. Несмотря на то что непосредственно советскому искусству в сборнике уделено не так много внимания [Reid, 2018; Kantor-Kazovsky, 2018; May, 2018], представление о нем меняется. В контексте мирового социалистического искусства оно утрачивает свою политическое и культурное значение: «Роль Советского Союза как образца должна обсуждаться, <...> СССР был скорее местом интернациональных встреч, нежели центром создания художественных директив» [Bazin и др., 2018, c. 9–10].
Другим важным шагом, сделанным авторами статей сборника, стало переосмысление социалистического реализма с транснациональной точки зрения [ Fauchereau , 2018; Murawska-Muthesius , 2018; Szczerski , 2018]. Соцреализм понимается не столько как продукт, «созданный в Москве и затем навязанный в разных частях Европы», но как «меняющаяся в результате внут-риевропейских культурных обменов конструкция. <…> интерес <к нему> развивался с 1945 по 1989 <...> в том числе и в западных странах, где были сильны коммунистические партии – в Италии, Франции и Бельгии» [ Bazin и др., 2018, р. 9].
Результатом международных коопераций по изучению искусства СССР и Восточной Европы являются международные конференции, проводимые Университетом Гумбольдта в Берлине, Институтом истории искусства и визуальной культуры Эстонской академии художеств и Институтом истории и культуры Восточной Европы в Лейпциге. Исследовательское направление этих конференций – искусствоведение в социалистических странах, историография и методы написания истории искусства Восточной Европы, поиск возможного альтернативного начала глобальной истории искусства в истории социалистических стран [ Jõekalda , 2020; A Socialist Realist…, 2019]. Отголоском этого направления стала тематика Сарабьяновского конгресса, прошедшего в 2020 г. в Институте искусствознания в Москве под заголовком «Русское искусствознание среди европейских школ: интеллектуальная история и миграция идей».
В течение последних 10 лет свой вклад в развитие критической географии вносят исследователи, изучающие культурный обмен стран через «железный занавес» и внутри Восточной Европы [ Cowley, Reid , 2000], путешествие художников [ Курдяндцева , 2020], значение и восприятие модернизма в СССР [ Reid , 2000, 2007; Gilburd , 2006, 2018, Chunikhin , 2016; Чунихин , 2020], международные выставки [ Bertelle , 2017; Russian Artists…, 2013, Kushner , 2002]. Большинство этих исследований посвящено событиям «оттепели», в то время как период конца с 1960-х до 1980-х гг. по-прежнему остается малоизученным.
Выводы
В статье было предложено проследить, как во второй половине ХХ – начале ХХI вв. изменялось представление о месте советского искусства среди мировых художественных течений: от его самоопределения как образца «прогрессивного искусства» к применению критиками западной методологии, а затем к деконструкции риторики холодной войны, поискам альтернативных языков описания и, наконец, к возникновению критической географии. Опираясь на изученный и проанализированный в статье материал, можно сделать вывод, что вплоть до последнего десятилетия на международной сцене советское искусство чаще всего было представлено московским концептуализмом и соц-артом, то есть теми направлениями, которые в наибольшей мере соответствовали магистральным явлениям западного постмодернистского искусства. Однако с критикой западной модели искусствознания как универсальной в исследовательское поле стало возвращаться искусство, традиционно называвшееся реалистическим. В контексте критической географии неожиданно актуальными стали идеи советских авторов о «прогрессивном искусстве», а понятие «социалистический интернационализм» стало рассматриваться шире, чем идеологическое клише [ Fawkes , 2012].
Следуя описанной в статье линии развития искусствоведческой мысли, можно предположить, что в дальнейшем круг исследуемых памятников, регионов и взаимных контактов будет расширяться. Уже сегодня мы видим, как в текстах по истории искусства ХХ в. возникают новые конфигурации: искусство советской Прибалтики рассматривается вместе с искусством Скандинавских стран или включается в сборники, посвященные Центральной и Восточной Европе [Fawkes, 2020], изучаются контакты советских и арабских художников [Nefedova, 2019], как отдельное явление анализируется искусство Средней Азии [Abykaeve-Tiesenhausen, 2018]. Само понятие «советское искусство» теряет определенность. На полицентричной и многости- левой карте мирового искусства ХХ в. оно обозначает не столько определенный художественный феномен, сколько систему политических, институциональных и финансовых условий, которая действительно была единой для всех художников, живших и работавших в СССР.
Список литературы Советское искусство второй половины ХХ века как часть мирового художественного процесса: основные методологические подходы и перспективы изучения
- Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины ХХ-начала XXI века. СПб.: Азбука классика, 2007. 488 с. EDN: QQNKCH
- "Берлин-Москва 1950-2000": номенклатурная фальсификация истории [Электронный ресурс]. URL: https://p.dw.com/p/4GDA (дата обращения: 15.05.2020).
- Бобринская Е.А. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М.: BREUS, 2013. 496 с. EDN: WEYDOH
- Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах: сб. стат. / ред. Ю.Д. Колпинский. М.: Искусство, 1975. 328 с.
- Вайбель П. Искусство в Европе после 1945 года // Лицом к будущему. Искусство Европы 19451968 / науч. ред. Д. Булатов и А. Данилова. М.: Б.и., 2017. С. 16-33.