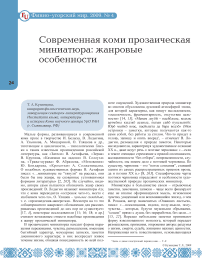Современная коми прозаическая миниатюра: жанровые особенности
Автор: Кузнецова Татьяна Леонидовна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 4, 2009 года.
Бесплатный доступ
Исследуется одна из малых форм современной коми прозы (миниатюры И. Белыха, В. Лодыгина, А. Ульянова, О. Уляшева и др.), выявляются особенности ее художественной природы, устанавливаются связи с другими жанрами.
Проза, миниатюра, цикличность, эссе, мемуаристика
Короткий адрес: https://sciup.org/14722822
IDR: 14722822
Текст научной статьи Современная коми прозаическая миниатюра: жанровые особенности
Малые формы, развивающиеся в современной коми прозе в творчестве И. Белыха, В. Лодыгина, А. Ульянова, А. Мишариной, О. Уляшева и др., тяготеющие к цикличности, – типологически близки к таким известным произведениям российской литературы, как «Затеси» В. Астафьева, «Зерна» В. Крупина, «Камешки на ладони» В. Солоухина, «Трава-мурава» Ф. Абрамова, «Мгновения» Ю. Бондарева, «Крохотки» А. Солженицына. О подобных художественных формах В. Астафьев писал: «…миниатюры не “тянули” на рассказ, они были бы вне жанра, не скованные устоявшимися формами литературы» [2, 265 ]. Не случайно, видимо, авторы сами пытаются обозначить жанр своих произведений: В. Лодыгин называет миниатюры дзу , что с коми переводится «островок чего-то, место с изобилием чего-то», О. Уляшев – чуньлыс гижöдъяс , т. е. «произведения-наперстки». Несмотря на то что «общепринятого жанрового обозначения для рассматриваемых произведений до сих пор не существует» [17, 4 ], некоторые исследователи [11; 16; 18; и др.] считают возможным отнести подобные произведения к жанру прозаической миниатюры.
В прозаических миниатюрах находят формы выражения переживания, чувства, размышления, имеющие бытийный характер, мемуарные записки, заметки дневникового характера; в них воскресает живое течение жизни, обнажая повседневность во всей пол- ноте ощущений. Художественная природа миниатюр во многом обусловлена духовной атмосферой эпохи, для которой характерны, как пишут исследователи, «осколочность, фрагментарность, отсутствие цельности» [14, 13]. «Менам дзуöй – пасйöдъяс, кодъяс артмöны кыдзкö асьныс, пызан сайö пуксьывтöг. Юрö мыйкö воас, пасйышта да бара водзö» (Мои островки – заметки, которые получаются как-то сами собой, без работы за столом. Что-то придет в голову, запишу и опять вперед1, – отмечает В. Лодыгин, размышляя о природе заметок. Некоторые исследователи, характеризуя художественное сознание ХХ в., даже ведут речь о поэтике черновика: «…если в тексте очевидно стремление к прямой спонтанности, ассоциативности “без отбора”, непроясненности, случайности, мы имеем дело с поэтикой черновика. По существу, черновик – это “поток сознания”, ставший одним из самых распространенных приемов прозы, да и поэзии ХХ в.» [8, 263]. Специфические черты поэтики черновика определяют и особенности художественной природы прозаических миниатюр.
Миниатюры в большинстве своем – отрывочные заметки, замечания, записки – чаще всего фиксируют еще не вполне оформившуюся мысль, мгновенное чувство, увиденный или вспомнившийся эпизод, о чем В. Розанов, автор знаменитых «Опавших листьев», писал: «…восклицания, вздохи, полу-мысли, получувства… которые, будучи звуковыми обрывками, “сошли” прямо с души, без переработки, без цели…» [13, 22 ]. Нередко небольшие заметки принимают форму взволнованного монолога, который передает размышления, признания, откровения автора: раздумья о жизни, смерти, судьбе, жизненно важных ценностях. Напряженная нить повествования, основывающаяся
1Здесь и далее подстрочный перевод наш. – Т. К.
В прозаических миниатюрах находят формы выражения переживания, чувства, размышления, имеющие бытийный характер, мемуарные записки, заметки дневникового характера; в них воскресает живое течение жизни, обнажая повседневность во всей полноте ощущений.
на ассоциативной связи, формирует композиционный контур, характеризующийся определенной произвольностью. Движимая чувствами интонация, выдающая присутствие субъекта, придает небольшим заметкам лирический характер. Исследователь лирической прозы Э. А. Бальбуров утверждает: «…лирико-фило-софская миниатюра “останавливает мгновение” внутренней жизни, поэтической мысли (например, цикл лирических миниатюр Ю. Бондарева так и назван – “Мгновения”). Сжатая в предельно малом объеме, лирико-философская миниатюра среди жанровых форм лирической прозы наиболее близка к лирике в обычном смысле слова» [3, 41 ].
Особенности мироощущения героя выражаются и в речи, выдержанной в неровном, пульсирующем ритме, когда вопросы, сомнения, размышления отверзают сферу его очень непростой внутренней жизни. В попытках приблизиться к истине герой открывает изменчивый спектр чувств: сомнений, сожалений, желаний. Его неторопливые раздумья приводят к заключениям, порождают новые вопросы… «Гашкö, и ачыс олöмыс нин тадзи вöчö миянкöд: кымын дырджык олан, сымын этшаджык узьсьö, мед тшöкыдджыка мöвпыштлывлiн став воддза олöм йылысь… Сiдз-ö олiм да олам, кыдзи колö?» (Может, сама жизнь так поступает с нами: чем дольше живешь, тем меньше спится, чтоб чаще задумывался о прошлом… Так ли жили и живем, как надо?), – раздумывает герой И. Белыха («Узьтöм войяс» – Бессонные ночи, 1997). Его отношения с миром характеризует напряженный духовный поиск, обнаруживающий сложный путь самоопределения: «…мыйла нö мортыс оз ов нэмъ-яс чöж тайö шондi улас? Мыйла сылы быть шуöма кувны? Кодi татшöмторсö думыштiс? Кодi та вылö вермас вочавидзны?» (Почему человек не живет вечно под этим небом? Почему ему суждено умереть? Кем это задумано? Кто на это сможет дать ответ?) (И. Белых «Окота кывны ачымöс пыр томöн» – Хочется всегда чувствовать себя молодым, 1997).
В попытках осмыслить свои связи с миром герой выясняет соотношение вечного и суетного, определяющее гармоничность мироощущения: «Мыйла нö вöтöн гежöдджыка уськöдчывлö талунъяыс? Гашкö но, менам пессьысь сьöлöмöй зiльö аддзыны – корсьны талунъя вылас воча кывсö важас бергöдчöмöн. Гашкö но, гажтöмтчö менам лолöй пöль-пöчлöн олöмсьыс» (Отчего все реже приходит во сне сегодняшнее? Может, мое неспокойное сердце стремится найти-обнаружить ответ на сегодняшние вопросы, обратившись в прошлое. Может, тоскует моя душа по жизни бабушек-дедушек) (И. Белых «Важыс уськöдчывлö вöтöн» – Прошлое приходит во сне, 1997). Непростой процесс самоидентификации позволяет утвердиться в цельности и гармоничности мира: «Мыйысь ме артми? Эг сöмын мамлöн да батьлöн пöсь войысь. Тшöтш и лöз енэжсьыс да сöстöм васьыс, небыд тöврусьыс да шондiыслöн югыд дзирдсьыс. Йöзыслöн шоныд кывъясысь, налöн бур вöчöмысь.
И тшöтш чизыр да скöр тöлысь, керка стен поткöдлысь кöдзыдысь, чужöмö йики моз сатшысь лымйысь, стеклö торъяс кодь ёсь дора слöтысь…» (Из чего я получился? Не только из жаркой ночи отца и матери. Еще из синего неба да чистой воды, мягкого ветерка да светлого луча солнца. Из теплых слов людей, их добрых поступков.
А также из пронзительного и сердитого ветра, холода, от которого трескаются стены дома, снега, который бьет в лицо, словно ость, снега с дождем, похожего на кусочки стекла с острыми краями…) (В. Лодыгин «Мыйысь ме артми?» – Из чего я получился?, 1998).
Стремление понять, в чем собственное предназначение, осмыслить итоги жизни позволяет выявить обстоятельства, формирующие характер, судьбу. Так, исповедальную глубину приобретают заметки В. Лодыгина (1998): «Мукöддырйи окота ставсö шыбитны да овны нинöм тöдтöм, лунсö ылöсас коллялысь ылöг морт моз, но ог вермы. Менö кодкö тшöктö сулавны этш тöдтöм йöзыслы паныд, и кута сулавны. Ачым тшöкта, код нö сэсся...» (Иногда хочется все бросить и жить подобно ничего не знающему, обманывающему, проводящему свои дни кое-как человеку, но не могу. Кто-то мне велит бороться с людьми, не знающими границ дозволенного, и буду бороться. Сам велю, кто еще…). Видимо, в данных малых формах нашла выражение созревшая в коми прозе рубежа веков готовность дать оценку важнейшим экзистенциальным ценностям, осмыслить отношение
человека к жизни, смерти, его восприятие мира, а также спектр духовных возможностей.
Миниатюры чаще всего фиксируют еще не вполне оформившуюся мысль, мгновенное чувство, увиденный или вспомнившийся эпизод.
Процессы осмысления проявляются и в формах интроспекций, обнажающих очень непростой мир ощущений, переживаемых героем. В произведении

Fu
И. Белыха «Водз тулысын» (Ранней весной, 1997) выражена изменчивая гамма чувств: «И кöть тöдан нин бура асьтö, мый абу нин сэтшöм том да помтöм вын-эбöса, но бара коркöяыд моз жö кутас пестысьны сьöлöмад кутшöмкö яр би. Бара кылан асьтö арлыд сертиыд чирк кодь збодерöн. И шуан сэки аслыд: ог на ланьтöдчöй, кутам на водзсасьны омöльыслы паныд да вöчны став сiйö бурсö, мый тэныд шуöма нэм вылад» (И хотя хорошо знаешь о себе, что не такой уж молодой и полный сил, но опять, как когда-то, начинает биться в сердце какой-то яростный огонь. Снова чувствуешь себя бодрым и энергичным, как кузнечик. И говоришь тогда себе: не успокоимся еще, будем еще бороться со злом и делать все то хорошее, что отпущено на наш век).
26 —
Особенности мироощущения героя выражаются и в речи, выдержанной в неровном, пульсирующем ритме, когда вопросы, сомнения, размышления отверзают сферу его очень непростой внутренней жизни.
Порой наблюдения автора над изменениями, происходящими в душе человека, связаны со зрелыми размышлениями о глубинных законах жизни. Например, откровения о весеннем всплеске чувств и ощущений приводят к осознанию закономерностей бытийного характера (И. Белых «Водз тулысын»): «Но артмö тай со буретш водз тулыснас олöм да кулöм костас пыр мунысь венласьöм, кодi некор оз помасьлы»
(Как раз ранней весной завязывается вечная борьба между жизнью и смертью, которая никогда не заканчивается). Конечно, не всегда художественное осмысление находит формы отвлеченного, абстрактного монолога. Нередко размышления сопровождают зарисовки, конкретные картины событий, изображенные в миниатюре. Так, воскрешая картины прошлого, стремясь осмыслить роль духовных и материальных начал жизни, выявить истинные ценности, герой П. Артеева («Мыйла?» – Почему?, 1987) пытается понять, отчего в памяти навсегда запечатлелись не самые благополучные периоды, а мгновения, когда светлые и искренние чувства согревали сердце: «Вежöр öктö аслас кудйö сöстöмсö, мичасö, донасö, бурсö. И татшöм шань эмбура кудйыс оз личкы мортсö – лэптö» (Разум вбирает в себя чистое, красивое, дорогое, хорошее. И короб с таким хорошим добром не давит человека – поднимает).
Процессы осмысления связей героя с миром выразились и в размышлениях о драматичном движении времени, о трагических противоречиях жизни, во многом обусловленных социальными катаклизмами. Так, в миниатюре А. Ульянова «Вичко да клуб» (Церковь и клуб, 2001) образы церкви и клуба воплотили трагические знаки непростого движения жизни. Причем лирическая сила типизации придает произведению образную глубину, выводя размышления за конкретные временные рамки.
Порой беглый взгляд автора выхватывает, кажется, мозаичную картину жизни, однако отрывочные, имеющие случайный характер наблюдения коррелируют с раздумьями бытийного характера: о поступи истории


В попытках осмыслить свои связи с миром герой выясняет соотношение вечного и суетного, определяющее гармоничность мироощущения.
и роли человека в ее движении, о значимости нравственных ценностей, о смысле жизни, сути счастья. В небольшом эскизе И. Белыха «Важ фотокарточка-яс» (Старые фотокарточки, 1997) изображение давно умерших людей, цепь воспоминаний сопровождаются размышлениями о непростых законах развития жизни: «Оз кокниа, вöлöмкö, вöчсьы миян историяным. Уна йöзлысь олöмсö удитö ньылыштны сiйö, мед петны олöмыслöн выль, вылiсаджык кытшö» (Нелегко, оказывается, делается наша история. Жизнь многих людей успевает она проглотить, чтобы выйти на новый, более высокий круг жизни). А в зарисовке «И ичöтикыд овлö вынаджык» (И маленький бывает сильнее, 1997) гибель огромной ели, основание которой источили короеды, приводит героя к мудрому заключению, открывающему противоречивую суть жизни: «Оз ков некор ошйысьны аслад вынöн. И ичöтджыкыд овлö вынаджык кымöрсö пыкысь пуысь» (Не надо никогда хвастаться своей силой. И тот, что поменьше, бывает сильнее дерева, подпирающего облака).
Характеризуя миниатюры В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Солоухина, известный литературовед В. Новиков вполне справедливо утверждает: «В этих циклах сказался характерный импульс не только современного литературного, но и общедуховного сознания – потребность в экологической регистрации идей и ситуаций. Мы так долго и так беззаботно отмахивались от множества выработанных народом и человечеством мыслей и теорий, так долго пренебрегали общенародным житейским опытом, семейными преданиями и рассказами, что в значительной мере пробросались – и идеями, и ситуациями. А в поисках ответа на новые вопросы судорожно хватаемся за то и за это, не умея окинуть беглым, но системным взором небесполезные скрижали мудрости человеческой» [10, 241 ].
Непростой процесс осмысления отношений с миром проступает и в стремлении осознать духовные корни; в определенной степени опыты прозаиков представляют попытки подвести итоги, постичь духовный опыт, рассмотреть в линии собственной жизни, судьбы некие закономерности общего плана. Так, взволнованные, освещенные тихой грустью монологи, зарисовки, портреты И. Белыха порождены сложными ощущениями горожанина, еще чувствующего узы, некогда связывавшие его с селом («Ас муысь, ас грездысь он ум» – Своей землей, своей деревней не пресытишься, 1997; «Важыс уськöдчылö вöтöн» – Прошлое приходит во сне, 1997; «Овлiсны танi востер йöз» – Жили здесь бойкие люди, 1997 и др.). Антиурба-нистские мотивы соединяются с пассеистическими; автор поэтизирует прошлое. Прозаические зарисовки И. Белыха открывают переживания селянина, входящего в мир городской культуры. Этот синдром, во многом определяющий особенности сознания писателей – представителей молодых литератур, обусловливает наличие устойчивых мотивов подобного типа в коми литературе.
Особенности изменений мировоззренческого характера, которые испытывает «ушедший» от природы современный человек, нравственно-психологические аспекты его «возвращения» к этническим и духовным истокам нашли тонкое воплощение в прозаической миниатюре. «Психологические открытия, которые на данном этапе в законченной форме еще невозможны в устоявшихся, канонических жанрах, которые в них только пробиваются к свету, возможны уже в пограничных видах литературы – в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях» [4, 76 ], – справедливо отмечает Л. Гинзбург. Тугой узел ощущений и переживаний выражается не только в эмоциональной монологической речи (горестные признания, нередко очень немногословное описание чувств, эмоций); рефлексирующее сознание героя воскрешает эпизоды прошлого, изображая достоверные картины сельской жизни. Так, в зарисовках И. Белыха с любовью описаны характеры односельчан, памятные события детства, воссозданы особенности бытового уклада жизни села. О произведениях такого рода Э. А. Бальбуров пишет: «...перед писателем встает проблема создать художественное единство двух принципиально разных реальностей: объективной, предметно-образной, требующей определенной причинно-хронологической последовательности и событийности, и субъективной, которая ищет выражения в непринужденной игре ассоциаций, мозаике мыслей, чувств, настроений и требует полной “свободы от сюжета, хронологии и географии”» [3, 41 ].
В малых формах нашла выражение созревшая в коми прозе рубежа веков готовность дать оценку важнейшим экзистенциальным ценностям, осмыслить отношение человека к жизни, смерти, его восприятие мира.
В произведении «Яков мельнича» (Мельница Якова, 1997) И. Белых любовно описывает старую, заброшенную теперь уже мельницу, а также историю жизни мельника Якова. Полотно прекрасной в умиротворенности сельской жизни продолжает зарисовка «Вакрö шор» (Ручей Вахромея, 1997).

Fu
Ручей, где деревенские женщины полощут белье, описывается автором как памятное место. Встречи у ручья, так же как и в деревенской бане (известное стихотворение Е. Колегова «Пöсь пывсян» (Жаркая баня, 1921), становятся своеобразной формой общения деревенских женщин. Подобно тому как Е. Колегов в своем стихотворении изображает колоритные личности, раскрывающиеся в бытовых ситуациях, диалогах, И. Белых в произведении «Вакрö шор» рисует живописные картины деревенского быта, запечатлевая своеобразные характеры. Желание автора сохранить память о своих земляках, испытываемое им чувство гордости составляют пафос зарисовок, представляющих портреты его односельчан (произведение «Марпида баб» – Бабушка Марфида, 1997).
28 I ---------------------------------------------
В определенной степени опыты прозаиков представляют попытки подвести итоги, постичь духовный опыт, рассмотреть в линии собственной жизни, судьбы некие закономерности общего плана.
Реальные события, связанные с конкретными людьми, лежащие в основе произведений, сближают их с очерком. Но пафос авторского отношения, выражающий светлую грусть и любовное восхищение, создает устойчивое ощущение того, что художественный центр подобных эскизов – не описываемые картины и персонажи, а выражение переполняющих автора чувств. «Сущность этой художественной формы иная, если сравнивать ее с обычным рассказом или повестью: не движение характеров, а отпечаток мыслящего чувства (Виктор Астафьев) или чувствуемой мысли (Юрий Бондарев)» [9, 200 ], – подмечено исследователем прозаических миниатюр Г. Муриковым. Видимо, поэтому и разные, не связанные между собой произведения И. Белыха, своего рода записки исповедального типа, объединенные в книге прозаических этюдов «Öзйы, бипурöй менам» (Гори, мой костер, 1997), создают впечатление единого, цельного, открывающего мир переживаний автора монолога. И. Белых, обращаясь к прошлому, осмысливая связи с миром, тяготеет к значимым, онтологическим вопросам: о жизни и смерти, о предназначении человека, о нравственных корнях, неизменно связанных с малой родиной. Ретроспективный взгляд, необходимость осмыслить собственный жизненный опыт позволяют рассмотреть глубинные вопросы, имеющие бытийный характер. Изображение прошлого, непростой процесс осмысления опыта открывают эпическое движение времени, жизни.
В отличие от И. Белыха, чьи размышления наполняются онтологическим значением, А. Ульянову важно воскресить в памяти бывшее, высказаться.
В процессе воспоминаний писатель делится пота- енным, сокровенным; в его произведениях соединяются мемуарное начало и черты эссе (произведения «Изъя чой – менам дой» – Каменная гора – моя боль, 2001; «Иван лун бöрын» – После Иванова дня, 2001; «Сьöлöмöй бöрдö и сьылö…» – Сердце плачет и поет, 2001; «Манакъяслöн зарни» – Золото монахов, 2001; «Вичко да клуб» – Церковь и клуб, 2001).
Художественная природа миниатюры во многом определяется и ролью биографического элемента, стремлением к выражению личного опыта. Современной российской литературе вообще свойственно повышение интереса к документальности, к воссозданию реального опыта. Н. Л. Лейдерман, размышляя о течении современной литературы, названном «новый автобиографизм», включающем и мемуарно-автобиографические записки М. Гаспарова, А. Жолковского, А. Гениса, пишет, что эти произведения «посвящены истории поединка личности с хаосом жизни, в данном случае – через построение родной современности как единственного, изнутри освоенного и наполненного субъективными смыслами и связями, только автору принадлежащего отрезка истории и вечности» [7, 68 ]. Думается, достаточно убедительно объясняет природу данного феномена литературовед М. П. Абашева: «...если поколение, например, М. Булгакова, В. Набокова и К. Вагинова опиралось на ценности ушедшей культуры, современный писатель от своего советского прошлого решительно отталкивается. Прежняя культурная, литературная идентичность самим художником намеренно подвергается деконструкции, и тогда ему остается опереться лишь на неотчуждаемый экзистенциальный личный опыт. Сейчас, на рубеже ХХ и ХХI веков, резкая и частая смена социальных идентичностей актуализировала – в качестве компенсации – тягу к экзистенциальному самоопределению. Это обстоятельство выдвигает на первый план “биографическое” как социальный феномен и авторитетный дискурс. В складывающемся «новом антропоцентризме» человеческая экзистенция пока приобретает устойчивость не за счет внутреннего идентификационного стержня, а за счет биографической формы или образа» [1, 318 ].
Зарисовки А. Ульянова, связанные с воспоминаниями детства, малой родиной, не только запечатлевают события, характеры людей, родные места, но и таят в себе глубокое чувство, которое автор выражает немногословно. «…Тайö дойыс менам морöсын, менам сьöлöм бердын олö. И бöръя лунöдз олас. Сiйöс менсьым некод нин оз мырддьы, оз бурдöд…» (…Эта боль в моей груди, возле моего сердца живет. И до последнего дня будет жить. Ее у меня никто не отнимет, не залечит…), – признается он. Необходимость высказать чувства, переживаемые автором, определяет своеобразие художественной природы лирических монологов А. Ульянова, повествующих о памятных, значимых периодах прошлого. Так, его произведение
«Иван лун бöрын» близко к исповедальному жанру; автор доверяет читателю очень дорогие сердцу, интимные переживания. Детальный горестный рассказ о родительском доме, последней встрече с матерью, о ее недолгой болезни, прощании передает острое чувство боли, утраты. А миниатюра «Сьöлöмöй бöрдö и сьылö…» – это признание малой родине, родной деревне, которое звучит щемяще светло и грустно; монологическое повествование лирического характера насыщено конкретными сведениями. Поэтика заглавия произведения «Изъя чой – менам дой», в котором автор вспоминает о травме, полученной в детстве на Каменистой горе (Изъя чой), основана на метафорической связи, также передающей испытываемую им душевную боль. Мучительное движение чувств, переживаний не описывается. В отличие от И. Бе-лыха, в произведениях которого душевные движения находят непосредственное словесное выражение, в миниатюрах А. Ульянова воспоминание о конкретном событии неуловимо насыщено чувствами.
Если для И. Белыха создание миниатюр о родной деревне – форма выражения переполняющих его чувств, способ осмыслить узы, связывающие его с миром, выявить жизненно важные ценности, то для В. Лодыгина, – скорее, возможность показать миру маленький уголок родной земли, продемонстрировать неброскую красоту природы, земляков. И. Белых, нередко повторяясь в попытках высказать непростую гамму чувств и переживаний, стремится разобраться в противоречивом потоке ощущений, мыслей («Ов-лiсны танi востер йöз», «Важыс уськöдчывлö вöтöн», «Гажтöмча тайö чöвлунсьыс» – Скучаю по этой тишине, 1997), В. Лодыгин же тяготеет к созданию завершенной эпической картины; в определенном смысле манера письма Лодыгина экстенсивна. Возможно, именно поэтому характеры, изображенные в его миниатюрах, эскизны; писателю важно запечатлеть общий облик. Полнее отражая внутренний мир автора, художественная природа миниатюр И. Белыха ближе к эссе: «Эссе – всегда “о”, потому что подлинный, хотя не всегда явленный его предмет, стоящий в “именительном” падеже, – это сам автор, который в принципе не может раскрыть себя завершенно, ибо по авторской сути своей незавершим» [19, 124 ]. Миниатюры цикла «Гортса книга» (Домашняя книга, 2002), ориентированные на документально точное, возможно полное описание жизни родной деревни Габово, В. Лодыгин максимально приближает к живому течению жизни: по сути они представляют записи дневникового характера, заметки о произошедших событиях (форма «биографического»). Вполне естественно, в них весьма ощутим автобиографический элемент; мемуарное начало во многом определяет поэтику миниатюр.
Воспоминания, связанные с попытками познать судьбы родной деревни, стремлением зафиксировать, запечатлеть ее жизнь, определяют и тенденцию к фактографической точности. Создавая образы земляков – сильных, во многом незаурядных людей Ош Коля, Ош Педора, братьев Мизевых, Мине Ваня, – В. Лодыгин размышляет: «Видзöдöм серти, “ошъяс” лоöны и водзö вылö. Öд эз на сэтшöма жебмы коми рöдыс – збыльысь ошъяс пöвстын пармаын олысьыс. Кыдзи велалöма лыддьыны ёна важся висьталöмъяссянь да мойдъяссянь, ассьыным вын-эбöснымöс, тшöтш и аньтуйнымöс ми йитам буретш татшöм йöзыскöд» (Думается, “медведи” будут и в будущем. Ведь не так еще захирел коми народ – живущий в парме среди медведей. Как принято считать, ссылаясь на очень старые предания и сказки, свою силу, да и умение, сноровку мы связываем именно с такими людьми). К этому ряду характеров примыкают и образы Натальи, хозяйственной, трудолюбивой женщины («Давид Вась Наталь», 2001), лесника Алексея, до смешного ревностно оберегающего родную парму («Осип Öльöш», 2001). Не случайно повествование то и дело касается матери автора; ее образ неотделим от малой родины: благодаря ему герой ощущает прочные нити, соединяющие его со своим народом («Ыджыд мамö гу дорын» – У могилы бабушки, 2001). Запечатлевая повседневную жизнь деревни, особенности ее хозяйственно-бытового уклада, миниатюры выявляют основы материальной культуры народа («Помеч» – Помочи, 2001; «Пывсян» – Баня, 2001 и др.). Возвращение писателя в родную деревню, создание им цикла миниатюр «Гортса книга» также отражают своеобразный период его духовной жизни, видимо, связанный с потребностью осмыслить жизненно важные ценности, понять некие глубинные закономерности бытия.
Современной российской литературе свойственно повышение интереса к документальности, к воссозданию реального опыта.
Развивается и жанр миниатюры автобиографического характера, также тяготеющий к цикличности, как бы освобожденный от насыщенной глубокими чувствами и раздумьями семантики, ориентированный преимущественно на изображение биографического опыта (циклы миниатюр А. Мишариной «Менам кок ув му» – Моя родная земля, 2001; А. Попова «Сё майбырöй, челядьдырöй» – Счастливое мое детство, 1999; Л. Логиновой «Петя Лидялöн висьтъяс» – Рассказы Лидии Петровны, 2002). Произведения этого типа отражают цепь событий жизненного пути автора; в основе этих миниатюр – стремление передать течение жизни, живописать важнейшие ситуации. Несомненно, воспоминания сконцентрировали в себе и авторское отношение; так, если Л. Логинова с любовью и теплым юмором изображает события

прошлого, то у А. Попова сформировался ироничный взгляд на детские забавы.
Отдельные формы мемуаристики, в которых не так явно выражено авторское отношение, ориентированные преимущественно на описание событий, получили свое жанровое обозначение – олöмысь торпыригъяс (осколки жизни), олöм лестукъяс (лоскутки жизни), олöм лöсасъяс (зарубки жизни). Зарисовки подобного типа воссоздают эпизоды бытового характера. Так, миниатюры Г. И. Торлопова («Олöмлöн торпыригъ-яс», 1995) воспроизводят житейские ситуации из жизни краеведа и писателя П. Г. Доронина, а эскизы В. И. Безносикова («Олöм лестукъяс», 1997) изображают события, связанные с приездом в Коми английского исследователя коми литературы Джона Гордона Коутса. Однако перспективы развития подобной жанровой формы таят опасность концентрации внимания авторов на второстепенных деталях.
Мироотношение героя нашло выразительные формы и в миниатюрах, посвященных природе: в них выражаются желание познать мир, открыть его тайны, особенности мироустройства, неодолимое чувство удивления, восхищения.
Среди форм мемуаристики выделяются небольшие нарративы юмористического плана (произведения А. Мишариной, А. Попова, Г. Торлопова, А. Одинцова). Несомненна типологическая близость подобных произведений к жанровой природе коротких юмористических рассказов. Опубликованный А. Мишариной цикл юмористических зарисовок «Гижысьяслöн олöмысь» (Из жизни писателей, 1996) воссоздает некоторые остроумно изложенные курьезные случаи. Художественный эффект достигается за счет не только комичности ситуаций, но и умело организованной речи повествователя.
Мироотношение героя нашло выразительные формы и в миниатюрах, посвященных природе: в них отражаются желание познать мир, открыть его тайны, особенности мироустройства, неодолимое чувство удивления, восхищения (произведения И. Белыха, Л. Палкина, Е. Козлова, О. Уляшева и др.). Мир природы притягателен не только потому, что человек ощущает себя его частью: принимая мир, стремясь познать его, герой проявляет естественное тяготение к установлению гармоничных связей и отношений. Особенности мироощущения героя выразились и в заметках описательного характера, представляющих конкретные сведения, достоверные факты. Так, описания распространенных в Коми птиц – коршунов (Л. Палкин «Варышкöд аддзысьлöмъяс» – Встречи с коршуном, 1990), сосны-великана, можжевельника, имеющих удивительные размеры, а также, по мнению писателя, неизвестных науке редкостных рыб и животных, обитающих в реках и лесах Коми (Л. Палкин «Окота эськö тöдны...» – Хотелось бы знать, 1997), передают не только своеобразие природы Коми, но и особенности мировосприятия героя, утверждающегося в гармоничных связях с миром.
В живописных зарисовках открывается удивительный процесс познания законов развития природы. Упоение Л. Палкиным красотой пармы приводит к желанию детально рассмотреть лес и всех его, даже незаметных, совсем маленьких, обитателей. Крохотный птенец, названный вначале желтым комочком, описан им обстоятельно, развернуто: «Ачыс пемыд кольквиж рöма, а юрыс да мышкыс визяордалöн моз пемыд визьяса. Бордъясыс дзик на гöнтöмöсь» (Сам темно-желтого цвета, а голова и спина, как у бурундука, в темных полосках. Крылья совсем еще голые, без перьев) («Варов котыр» – Говорливый выводок, 1987). Так формируется поэтика природоописания, вырабатываются приемы детального изображения, любования, выражающего глубокие чувства. Причем чувства передаются очень немногословно, поэтика описания и природы, и ее обитателей такова, что изобразительные картины таят в себе любовь, привязанность, готовность удивляться самому очевидному и желание бесконечно им восхищаться. Миниатюры, по форме близкие к заметкам, воссоздают жизнь природы в ее ежедневном естественном ритме, бытие в его заданных в вечности формах. Герой, созерцающий красоту и могущество природы, в полной мере ощущает гармонию мироздания.
В небольших набросках, живописующих природу, бытуют формы открытого проявления чувств. Е. Козлов («Вöрса тыяс» – Лесные озера, 1993) даже описывает, как выражаются чувства восхищения и любви: «Шöпкöны менам вом доръяс, быттьö молитва, му да ва вылö чуймöмöн видзöдiг, быттьö кöсйöны век кежлö сюркнявны ставсö, мый аддзöны. А кияс, нисьö вöтын, нисьö кутшöмкö вунöдчöмын, – куталöны матысса пуяслысь росъяссö, шондi водзын лöсталысь посньыдик коръяссö, быттьö кöсйöны йитчыны накöд да тшöтш лоны росъясöн» (Словно молитву шепчут мои губы, с изумлением глядя на землю и воду, будто хотят навсегда запомнить все, что видят. А руки, то ли во сне, то ли в каком-то забытьи, – хватают ветки ближних деревьев, блестящие на солнце мелкие листочки, словно хотят слиться с ними и тоже стать ветками). Ритм описательного повествования передает едва сдерживаемое волнение, прорывающееся в немногословных перечислениях близких до боли красот лесного пейзажа: «Видзöдан налöн ваö и аддзан ставсö: и вöрлысь быд ичöтик пу, и куст, и берегдорса лöз ордымсö, и мöдлапöвсьыс ичöтик бужöдъяс, и енэжсö, сы вылысь быд кокньы-

дик кымöртор» (Смотришь в их воду и видишь все: и каждое маленькое дерево, и куст леса, и синюю тропинку, пробегающую около берега, и маленькие осыпи с того берега, и небо, и каждое легкое облачко на нем). Описание форм выражения чувств заканчивается скупым признанием: «Ме радейта вöрса тыяссö и эска налы» (Я люблю лесные озера и верю им) – и вновь переходит в поэтический текст, который звучал и в зачине. Восхищение приобретает формы воспевания: «Вой сён… Вой сён... Кывзысьлöй тайö нимас – кутшöмкö аслыспöлöс шыяс кылöны быттьö» (Ночная ложбина… Ночная ложбина… Вслушайтесь в это имя – будто слышатся какие-то своеобразные звуки), – восклицает автор (Е. Козлов «Вой сён» – Ночная ложбина, 1993). «Вой сён... Вой сён...», – повторяет он в начале другой фразы, прибегая к анафоре, обращаясь к приемам организации поэтического текста. Теплый, эмоциональный монолог о едва заметной, тонкой нити паутины, ее метафорическое изображение (она названа золотой блесной, а маленький паук – бесстрашным путешественником) также передают не только субъективные впечатления автора, но и потаенные глубокие чувства (Л. Палкин «Зарни кыснан» – Золотая блесна, 1987).
Метафорическое изображение природы в литературе традиционно и свойственно почти всем современным коми прозаикам, но было бы неверно охарактеризовать подобным образом и манеру письма И. Белы- ха. Мировосприятие автора близко к мифическому: естественный ход жизни природы воспринимается им как органично слитый с жизнью человека, его собственной. Некое синкретическое начало, лежащее в основе миросозерцания, определяет взгляд писателя на мир; видение мира, образ мышления обусловливают особенности художественного изображения И. Белыха, его метафоричность связана с глубинными факторами. Если в миниатюрах Л. Палкина, Е. Козлова отношение к природе всецело выражает отношение к родине, то в зарисовках И. Белыха передано очень своеобразное ощущение природы: она живет жизнью человека. Так, в миниатюре «Кылöг да Эжва» (Кылог и Эжва, 1997) автор не только видит в жизни рек действия, свойственные человеку (чеччалö, резсьö, нерсьö – прыгает, брызгается, дразнится – пишет он о реке), но и воспринимает их поведение как проявление характера: «Кутшöм ёна торъялöны асланыс сям сертиыс ичöт да ыджыд ю. Ичöт юыд некор оз визувт веськыда. Сы вöсна, мый вын-эбöсыс этша, гöлöсыс слаб. Век зiльö либö чукыльтыштны, либö ланьтöдчыштны. Сöмын тай, кор позянлуныс лоö, быттьö öдöбтыштлö жö водзлань» (Как сильно отличаются по своему характеру большая и маленькая река. Маленькая река никогда не течет прямо. Потому что сил мало, голос слаб. Все норовит либо обойти, либо притаиться. Только когда появится возможность, вроде рванется вперед).


Fu
Своеобразие поэтики миниатюр И. Белыха заключается и в том, что обращение к природе автора неизменно связано не только с воспоминаниями о детстве, родной деревне, но и с осмыслением пережитого, попыткой осознать неразрывность уз с малой родиной. Так, первый снег позволяет увидеть изменившийся пейзаж и процесс обновления природы, ассоциирующийся с духовными переменами (миниатюра «Медводдза лым» – Первый снег, 1997). «Со тадзи жö и медводза дзор юрсияс тыдовтчöны тöдлытöг. И шензьыштан, и шогсьыштан. Збыльысь, некытчö он воштысь сыысь. Олöмыс бергöдö ассьыс.
Öд нинöм миянлы кокниа оз сюр. Быдтор вöсна колö мынтысьны вын-эбöсöн, сьöлöм дойöн. Кымын водзö,
сымын ёнджыка быд воштöм йиджö миянлы» (Так же незаметно появляются и первые седые волосы. И удивишься, и опечалишься. Действительно, никуда от этого не денешься. Жизнь берет свое. Ведь ничего нам легко не достается. За все надо платить силой, сердечной болью. Чем дальше, тем больнее ранит нас каждая потеря), – размышляет автор.
Представляя лирически насыщенные пейзажные зарисовки, миниатюры выражают стремление современного человека, переживающего драматичные катаклизмы, к единению с природой, к поэтизации ее, передают желание увидеть в жизни природы некую изначальную мудрость и красоту.
В миниатюрах, изображающих природу, находит выражение и философское осмысление жизни, глубинных законов ее развития. Эпически размеренное описание небольшого уголка природы позволяет рассмотреть невидимое глазу, удивительным образом ощутить ход времени. О. Уляшев в статичной на первый взгляд картине видит процессы перерождения, выражающие вечное движение жизни: «Пуö, пуö олöмыс. Олысьыс мунö муö. Пуяс, пемöсъяс, йöз – ставыс öтилаö воöны. Водöны чеччытöм вылö» (Кипит, кипит жизнь. Живущий уходит в землю. Деревья, животные, люди – все в одно место приходят. Ложатся, чтоб уже не встать) («Воййыв» – Иван-чай, 1997). Тишина, журчание ручья, шелест листвы; молчаливо рдеющие цветы иван-чая, описанные автором, являются как бы неподвижными знаками течения времени, вечной поступи жизни. Так небольшая зарисовка насыщается эпической глубиной.
Представляя лирически насыщенные пейзажные зарисовки, описательные заметки натуралистического характера, миниатюры выражают стремление современного человека, переживающего драматичные катаклизмы, к единению с природой, к поэтизации ее, передают желание увидеть в жизни природы некую изначальную мудрость и красоту. Осознавая, что человек как часть природы уже далек от нее, более того, даже враждебен ей, авторы в пронзительной силе лиризма пытаются передать чувства, которые испытывает человек, стремящийся вернуться к пер-воистокам, ощутить изначальные связи с природой, землей.
Часто миниатюры насыщаются поэтической обобщенностью; порой этому способствует метафорическое видение мира: «Ру. Дзик нинöм оз тыдав. Но регыд нин петас шондi, югзьöдас гöгöр да шонтас. Юрбитöй Шондiлы!» (Туман. Совсем ничего не видно. Но уже скоро взойдет солнце, осветит вокруг и согреет. Поклоняйтесь Солнцу!) (В. Лодыгин «Ру. Дзик нинöм оз тыдав…» – Туман. Ничего не видно…, 1998). Или: «Мöвпыштi: арнас оз коръяс гылавны, а пипуыс, коддзöма да, деньгаöн шыбласьö. Баддьыс, тыдалö, гöльджык да “мелöчöн коясьö” (Подумалось: осенью не листья сыплются, а осина, захмелев, деньгами разбрасывается. Ива, видимо, беднее: “мелочь кидает”) (В. Лодыгин «Мöвпыштi: арнас оз коръяс гылавны…» – Подумалось: осенью не листья сыплются…, 1998). Некоторым миниатюрам свойственны характерная для поэзии емкость образов и изолированность субъективных переживаний. В миниатюре О. Уля-шева «Öткöн» (В одиночестве, 1998) выражено это пронзительное, острое чувство, определяющее дис-комфортность мироощущения лирического героя. Прибегая к условным формам, вводя в произведение образ олыся [6, 265 ] – домового, хозяина дома, духа, автор нарушает традиционные связи. Домового, которого все побаиваются, в дом привела сама хозяйка, чтобы спастись от одиночества. Привела не кошку и не собаку, а домового. В данном случае установление неожиданных смысловых связей усугубляет ощущение безысходного, тягостного одиночества. Автор сумел так построить художественный текст, что читатель физически ощущает звонкую, тягостную, пустую тишину. Этому способствует детальное описание действий, звуков (пукалö нывбаба – сидит женщина; лым чиръяс гыжъясьöны – снежинки царапают; джодж пöвъяс дзуртышталöны – пол поскрипывает; сяркнитыштлöны пöвъясö олысялöн гыжъяс – постукивают по полу ногти домового; тёпкö ва – капает вода и др.), демонстрирующих, что жизнь героини лишена самого значительного, важного: дом ее пуст, в нем нет движения жизни.
Некоторые миниатюры сближает с поэзией также непосредственное выражение чувств героя. Так, произведение В. Лодыгина об охотничьей избушке звучит как гимническая песнь лесному пристанищу охотников (1998): «Радейта ме сiйöс, сы вöсна мый век сьöлöмсянь примитö, шонтö, шойччöдö, вердö-юкталö да некор деньга оз кор…
Татшöм мусаыс да донаыс меным вöр керка. Кöтöдiс ли пармаöд ветлiгöн-келалiгöн зэр, письтiс ли морöсöдзыд тöв, мудзыдла ли öдва нин коктö лэпта-лан, сiйö и шонтас, и мудзтö веськöдас, сюяв сöмын пачö пес да чуткы би» (Люблю я ее, потому всегда сердечно принимает, согревает, помогает отдохнуть, кормит-поит и никогда денег не просит…
Так любима и дорога мне лесная избушка. Промочит ли дождь, когда ходишь-бродишь по парме, продует ли до груди ветер, от усталости ли едва ноги поднимаешь, она и согреет, и усталость снимет, лишь положи в печку дров да разведи огонь). Видимо, не без оснований современные исследователи отмечают, что «часто малая проза производит впечатление стихов, написанных в строчку, которые перестают быть стихами, однако не становятся и прозой, оставаясь образованием не столько промежуточным, сколько неопределенным» [15, 273 ].
Нередко миниатюры сближаются с заметками дневникового характера. Исследователями верно отмечено, что «литературную традицию жанра лирикофилософской миниатюры следует, видимо, искать на скрещении линий становления дневникового жанра, во всем многообразии его оттенков, и собственно поэтических родов литературы. Это позволяет понять причудливые порой переплетения лиризма и публицистичности, уровней личного, исповедального – и философского, безличного» [9, 201 ]. Немногословные беглые записи – словно сказанные вскользь замечания, догадки о конкретных событиях, действиях, поступках – запечатлевают естественный ход течения жизни, воссоздают живое движение повседневности, меняющийся спектр ощущений лирического героя. Россыпь как бы на ходу сделанных заметок, содержащих безыскусные подробности, утверждает простоту и величие жизни. Например, неожиданное для себя открытие совершает герой миниатюры О. Уляшева «Шöйöвошöм» (Удивление, 1998), почувствовав, что иначе стал воспринимать живущую по соседству девушку: «…но коркö аддзи сiйöс понтöгыс. Эг тöд весиг первойсö. Кытчö и вошöма мичыс? Ньöти абу мича. Абу мича, кöть тэ мый сэсся кер.
Лешакыс тöдас, мыйла тадз? Понсьыс родi? А гашкö, сöмын понйыскöд орччöн мича кажитчис?» (…но как-то увидел ее без собаки. Вначале даже не узнал. Куда и делась красота? Совсем некрасивая. Некрасивая, хоть что поделай.
Черт знает, почему так? Собаки боялся? А может, только рядом с собакой красивой казалась?). Необъяснимые явления оказались в поле зрения героя миниатюры В. Лодыгина «Куимысь нин олöм чöжöн лолiс здук» (Трижды в моей жизни были мгновения…, 1998): «Куимысь нин олöм чöжöн лолiс здук, кор меным кажитчис, мый ме тайö кадас овлi нин и тайö местаас вöлi жö нин. Тайö шемöсмöдлiс менö и сöмын…
Мый тайö? Окота бергöдчывны важас да вежöрыд бöрыньтлö? Космоссянь аслыспöлöс югöр усьлö?…» (Трижды в моей жизни были мгновения, когда мне казалось, что в этом времени я уже был и в этих местах тоже уже находился. Это удивило, и только…
Что это? Хочется вернуться в прошлое и разум отступает? Из космоса своеобразный луч падает?…).
В. Кожинов, исследуя проблемы, связанные с происхождением романа, в качестве одного из источников нового эпоса называет «полухудожественную» сферу словесного творчества (письма, дневники, автобиографии, мемуары) [5, 134 ]. Возможно, непростой период начала нового века готовит созревание глубокой эпической концепции, и проза художественной природы, подобной миниатюре, в этом процессе играет не последнюю роль.
В миниатюрах находят формы выражения и высказывания, заключающие наблюдения, размышления. Подытоживая поиски, они отличаются лапидарностью стиля; некоторые из них подобны кратким изречениям, метким замечаниям (в такого рода произведениях наиболее ярко выразились особенности мышления Лодыгина-миниатюриста): «Öти олöма мортлысь юалi: мый, мися, öнiя олöм йывсьыс мöвпалан? Быд киын пö закон. Бурджыкасö он шу» (У одного пожилого человека спросил: что думаешь о нынешней жизни? У каждого в руках закон. Лучше не скажешь) (В. Лодыгин «Öти олöма мортлысь юалi…» – У одного пожилого человека спросил…, 1998). В таких произведениях весьма симптоматичные формы выражения нашла столь характерная для миниатюр емкость. Не случайно современные исследователи «…в расцвете миниатюрной прозы во всем многообразии ее форм и вариантов» усматривают «…общий для всех жанров процесс минимализации» [12, 282 ]. Немногословные утверждения, вобравшие в себя жизненный опыт, в чем-то сходны с сентенциями: «Сöмын сьöлöмыд висьталö збыльсö, сöмын сiйö вермö торйöдны бурсö да лёксö. Вежöрыдлы эскыны оз позь. Сiйö вермас кывзысьны кодлыськö, сувтны кодкö дор да ылöдны» (Только сердце говорит правду, только оно способно различить хорошее и плохое. Разуму верить нельзя. Он может послушать кого-то, довериться кому-то и обмануть)» (В. Лодыгин «Сöмын сьöлöмыд висьталö збыльсö…» – Только сердце говорит правду…, 1998).
Порой сила обобщающей мысли наполняет размышления метафорическим значением: «Вужйыс пулы колö оз сэтшöма му пытшкысь “сёян” босьтöм, а медсясö му вылын кутчысьöм, тöвъяслы-бушковъяс-лы паныд сулалöм могысь. Кымын пашкырджык сылöн паськöмыс, кымын вылöджык гоньгöдö сiйö юрсö, сымын и пыдöджык лэдзö вужсö, мед эз пеш-кыльтчы бок вылас» (Корни дереву нужны не только для того, чтобы “еду” взять, а в основном, чтобы на земле держаться, ветрам-бурям противостоять.

Насколько раскидистее у него одежда, насколько выше задирает оно голову, настолько глубже опускает и корни, чтобы не свалиться на бок) (В. Лодыгин «Вужйыс пулы колö…» – Корни дереву нужны…, 1998). Иногда в немногословной реплике спрятан довольно богатый спектр чувств: «Письмöсö гижöма да абу “радейтасö” шуöма, но ме кыла, мый сьöлöмас вöчсьö. Аттö дивö, кодлыкö кола на. Мыйысь меным татшöм шудыс?» (Письмо написала и “люблю” не сказала, но я чувствую, что в сердце происходит. Вот ведь, кому-то нужен еще. За что мне такое счастье?) (В. Лодыгин «Письмöсö гижöма…» – Письмо написала…, 1998).
Изображаемые в миниатюрах картины наполняются и обобщающей силой; небольшие зарисовки, воссоздавая обычное течение событий, отражают лики времени. Так, в набросках О. Уляшева («Висьöм» – Болезнь, 1998; «Автобус», 1998; «Пасъяс» – Знаки, 1998) будто запечатлена неторопливая, вечная поступь жизни. В миниатюре «Пасъяс» немногословными, короткими предложениями описывается самое незначительное, повседневное; мозаика конкретных действий словно насыщается течением времени. Концентрируя внимание на бытовом, автор видит в нем бытийное: «Зонка петö ывла вылö. Усьöма лым. Зонка воськовтö. Бергöдчывлö бöрас. Видзöдö кок туй вылас. Ещö некымынысь шлапкывлö коксö. Видзöдыштö. Любуйтчыштö. Пырö.
Ныла-зонма пукалöны гыöра паркын. Кургöны. Зон весалö лымйысь лабич мышсö, перйö перочиннöй пурт, вöлалö-баситö нывлысь нимсö. Окыштчöны. Мунöны.
проза; миниатюра; цикличность; эссе; мемуаристика prose; short stories; circularity; essays;
memoirs
Список литературы Современная коми прозаическая миниатюра: жанровые особенности
- Абашеева, М. П. Литература в поисках лица. Русская проза в конце ХХ в.: становление авторской идентичности/М. П. Абашеева. -Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001.
- Астафьев, В. Затеси/В. Астафьев. -М.: Современник, 1988.
- Бальбуров, Э. А. Поэтика лирической прозы (1960-1970-е годы)/Э. А. Бальбуров. -Новосибирск: Наука, 1985.
- Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе/Л. Я. Гинзбург. -Л.: Худож. лит., 1977.
- Кожинов, В. В. Происхождение романа/В. В. Кожинов. -М.: Сов. писатель, 1963.
- Конаков, Н. Д. Олыся//Мифология коми: энцикл. -М., 1999. С. 265.
- Лейдерман, Н. Л. Постреализм: теоретический очерк/Н. Л. Лейдерман. -Екатеринбург, 2005.
- Лехциер, В. Апология черновика или «Пролегомены ко всякой будущей…»//НЛО. -№ 44 (2000). -С. 263.
- Муриков, Г. Границы прозаической миниатюры//Звезда. -1981. -№ 9. -С. 194-201.
- Новиков, В. Ощущение жанра: роль рассказа в развитии современной прозы//Новый мир. -1987. -№ 3. -С. 241.
- Огнев, А. В. Прозаическая миниатюра как жанр//Проблемы литературных жанров. -Томск, 1975. -С. 190-192.
- Орлицкий, Ю. Большие претензии малого жанра//НЛО. -1999. -№ 38. -С. 282.
- Розанов, В. Уединенное/В. Розанов. -М.: Изд-во полит. лит-ры, 1990.
- Рудзиевская, С. В. Дневник писателя в контексте культуры ХХ века//Филологические науки. -2002. -№ 2. -С. 13.
- Свенцицкая, Э. Большие проблемы малой прозы//НЛО. -1999. -№ 38. -С. 273.
- Смирин, И. А. Миниатюра в жанровой системе реализма//Проблемы литературных жанров. -Томск, 1979. -С. 84-85.
- Федь, Т. В зеркале малой прозы/Т. Федь. -Шумен: Аксиос, 1995.
- Фролова, Е. В. Рассказ-миниатюра в современной советской прозе//Малые жанры в русской и советской литературе. -Киров, 1986. -С. 162-171.
- Эпштейн, М. Законы свободного жанра (эссеистика и эссеизм в культуре нового времени)//Вопр. лит. -1987. -№ 7. -С. 124.