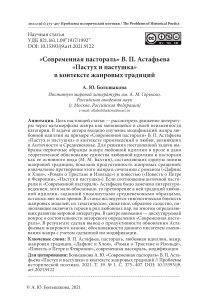"Современная пастораль" В. П. Астафьева "Пастух и пастушка" в контексте жанровых традиций
Автор: Большакова Алла Юрьевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель настоящей статьи - рассмотреть движение литературы через метаморфозы жанра как меняющейся в своей неизменности категории. В задачи автора входило изучение модификаций жанра любовной идиллии на примере «Современной пасторали» В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» в контексте произведений о любви, возникших в Античности и Средневековье. Для решения поставленной задачи выбраны первичные образцы жанра любовной идиллии в прозе и дано теоретическое обоснование единства любовной идиллии и пасторали как ее основного вида (М. М. Бахтин), составляющих единую линию жанровой традиции, показана продуктивность жанровых сращений: изначальное претворение этого жанра в сочетании с романом («Дафнис и Хлоя», «Роман о Тристане и Изольде») и повестью («Повесть о Петре и Февронии», «Пастух и пастушка»). Если соотношение античной пасторали и «Современной пасторали» Астафьева было замечено литературоведением, хотя мало обосновано, то претворение в ней традиций любовной идиллии, заданной упомянутыми средневековыми образцами, осталось вне поля зрения. В статье исследуется типологическая близость жанровых моделей, их тематическое, сюжетное, образное сходство, позволяющее включить героев в ряд любовных пар, во многом определяющих развитие мировой литературы. В центре внимания - дискутируемый вопрос о состоятельности авторского определения «Современная пастораль». В результате сделан вывод о продуктивности обновления Астафьевым жанрового канона; обоснованности данного писателем именования жанра с учетом сделанной им модификации.
В. П. Астафьев, пастораль, любовная идиллия, жанр, жанровая традиция, «Дафнис и Хлоя», «Роман о Тристане и Изольде», «Повесть о Петре и Февронии», современная пастораль, модификация
Короткий адрес: https://sciup.org/147227239
IDR: 147227239 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9122
Текст научной статьи "Современная пастораль" В. П. Астафьева "Пастух и пастушка" в контексте жанровых традиций
Э волюция литературы во многом определяется метаморфозами жанра, который предстает меняющейся в своей неизменности категорией. Изучение литературы с точки зрения жанров — их становления в историческом времени и пространстве, возникновения новых, модификации или исчезновения старых, подвижности иерархической структуры — общепринято в мировой науке. Закономерно, что в установки исторической поэтики при исследовании литературных жанров входит необходимость «учитывать их противоречивую сложность и историческую изменчивость, считаться с национальными традициями и “стихийными” жанровыми определениями самих писателей — изучать исторические системы жанров и их динамику в литературном процессе. Тогда мы будем иметь дело не с умозрительными схемами, а с реалиями литературного процесса — с исторически конкретными типами литературных произведений, а категория жанра будет действенным средством познания художественных и эстетических ценностей “искусства слова”» [Захаров, 1984: 19].
Однако характерной чертой нынешнего литературоведения стал и отказ от идеи жанровой преемственности1, «освобождающий» иных историков литературы Нового и Новейшего времени от необходимости вникать в сложные для прочтения (к примеру, созданные на древнерусском языке и трудночитаемые даже в переводах2) тексты. Забывается классический тезис: развитие жанров разомкнуто в бесконечность . Поясню это на примере одного «старого» жанра.
Во второй половине ХХ в. кризис соцреалистических жанровых форм породил в русской прозе тенденцию, которую можно обозначить как возвращение к старым образцам . На границе канона и его переосмыслений рождалась новая жизнь жанра. Наибольший эффект в творчестве таких ведущих мастеров, как В. П. Астафьев, к примеру, дало обращение к высокому канону — оде, пасторали, идиллии — с явно выраженной эстетической доминантой как ведущим жанрообразующим признаком3.
Свою роль сыграло и межродовое расположение таких жанров, как идиллия/пастораль (которая бытовала и в поэтических, и в прозаических формах), сделав возможным уникальное сочетание лирического и эпического начал в «Пастухе и пастушке» В. Астафьева (1967–1971–1974–19894), жанр которой обозначен самим автором: «Современная пастораль»5. Межжанровое взаимодействие предполагает тут сопряжение любовной идиллии/пасторали и — реалистического повествования, повести.
Также в лирико-эпической «Оде русскому огороду» (1971– 1972) В. Астафьева, представляющей сплав оды, идиллии и повести, проявились поиски жанровой свободы и обновления традиционного канона. Как и в астафьевской пасторали, за основу модификации здесь взято кажущееся несоответствие между высоким жанровым ожиданием и — изображенной в произведении «низкой» действительностью. Предметом художественного осмысления в «Оде» становится… обычный русский огород, образ которого, однако, вырастает до символа Родины, Бытия: «Всё сущее вместилось в темный квадрат огорода»6. Такая тенденция, впрочем, может расцениваться как типичная для высоких жанров, эстетизирующих реальность. К примеру, в пасторали «условность изображения — это прием, средство эстетизации природы, пастушества, сельского существования — “низкой” реальности , которая иначе не могла стать предметом поэзии, искусства» [Саськова, 2011: 99]7. Типично для русской литературы и совмещение образов природы и социума, «прелестного уголка», «райского сада» и — всей России8.
Другая сторона вопроса состоит не только в соединении «верха» и «низа», но — противоборстве идиллии и ее антипода, мотивов созидания и разрушения. Идея мирной жизни, воплощенная через реализацию природной (земледельческой), любовной, семейно-трудовой идиллии, испытывает сопротивление исторической действительности ХХ в.: гармония роста, созревания, любви и мирного созидательного труда противостоит хаосу военного разрушения. Однако является ли такой контраст, ставший у Астафьева основой и «Оды», и «Современной пасторали» о любви и войне, признаком выхода за рамки жанра? Отнюдь.
Так и ода, и ее межжанровые вариации традиционно включали в себя (анти)идиллическое противочувствие9. Также и пастораль как разновидность любовной идиллии может включать в себя подобные оппозиции. По сути, речь идет о «противопоставлении пасторальных и непасторальных ценностей и образа жизни», которое входит в характеристики жанра [Саськова, 1997: 36]. Тенденция, получившая уникальное воплощение в «Пастухе и пастушке», истории любви во время Второй мировой войны, однако до сих пор вызывающая неприятие и непонимание.
В продолжение спора о жанре
Если советская критика, воспринимавшая пастораль в отрицательно-разоблачительном плане, скептически отнеслась к попытке Астафьева возродить старый жанр10, то затем стали отвергать саму возможность«художественного воссоздания пасторали в трагической военной реальности» [Никифорова: 194]. Так глухота к особенностям жанра приводит к недоучету его природы и его потенциальных возможностей.
Впрочем, отрицание Никифоровой можно было оставить без внимания, если б не постоянные обращения к нему. Так, участница недавней конференции по пасторали присоединяется к этому отрицанию в статье o pемифологизации пасторального мифа: « Тема смерти , звучащая уже в начале повести (Астафьева «Пастух и пастушка». — А. Б. ) и незримо присутствующая даже в любовной сцене, разрушает пасторальную модель » [Степанова: 118]. Другая исследовательница «Современной пасторали» однозначно утверждает: « Складывавшийся веками жанровый канон легко рушится в условиях современной действительности и умирает вместе со своими героями » [Гречаникова: 104].
Напомню, однако, что трагические мотивы и тема смерти исконно присущи пасторальной модели, отнюдь не разрушая ее, а создавая внутреннее напряжение, усиливая накал чувств. Недаром именно «трагические, драматические потенции пасторальной тематики», введение в пасторальную модель мотивов руин и могил, смерти и разрушения привлекли внимание научной группы «Эпистеме» в Сорбонне [Пахсарьян, 2007]. В статье об испанской и французской пасторали Н. Т. Пасхарьян уточняет диапазон интерпретации: смерть как естественное явление и — трагическое следствие человеческих грехов и заблуждений [Пасхарьян, 2020: 103–106].
Так всё же: пастораль «Пастух и пастушка» или нет?
Очевидно, для ответа на этот вопрос необходимо теоретическое уточнение. Ведь на первый взгляд в сравнительный контекст этой статьи введены произведения, сопряженные лишь по линии романа или повести и не имеющие отношения к пасторали или любовной идиллии? К тому же необходимо уточнить и соотношение последних.
Возникновение пасторали в поэтическом виде относят к «Идиллиям» Феокрита: идиллия и пастораль рождаются как единое, еще нераздельное целое. В позднегреческой прозе происходит и сращение пасторали и романа . Ведь первая пастораль в прозаическом варианте — пастушеский роман Лонга «Дафнис и Хлоя» (предположительно II–III вв. н. э.). « Пастораль — это, вместе с романом , последний жанр, созданный греками» [Боннар].
Важнейший для нас вывод — исходное единство идиллии (любовной) и пасторали. Это один жанр в разных вариациях. Другой аспект составляет соотношение идиллии (любовной) и пасторали по линии общее/частное или: входит идиллия в пастораль, понимаемый как метажанр (концепция Т. В. Сась-ковой, С. И. Пискуновой) или наоборот? Лично я придерживаюсь мнения М. М. Бахтина, считавшего пастораль основным видом любовной идиллии: «Мы различаем следующие чистые типы: любовная идиллия (основной вид — пастораль), земле-дельчески-трудовая, ремесленно-трудовая, семейная. Кроме этих чистых типов чрезвычайно распространены смешанные типы, причем доминирует тот или иной момент (любовный, трудовой или семейный)» [Бахтин: 257–258].
Тем не менее определение любовной идиллии пока еще не выверено. Упускается именно то, что составляет ее сердце: «любовная». Ведь сущность этого жанра составляет любовь в ее идеальном модусе. Состоялась ли художественная реализация этого модуса посредством проведения героев через различные мытарства к счастливому союзу или же происходит разрушение идиллии, порою завершающейся соединением влюбленных после смерти, — все это грани единой жанровой модели, притом нередко реализуемой в сращении с другими продуктивными жанрами: главным образом романом и повестью. Недаром Бахтин проводит линию метаморфоз любовной идиллии через самые разные произведения разных эпох и народов, включая «Страдания юного Вертера» Гете, романы Руссо, «Старосветских помещиков» Гоголя, «Обломова» Гончарова и др.
Задача нашего исследования — выверить исходные координаты этой жанровой модели, обросшей многочисленными наслоениями за столетия своего литературного развития. Только с такой точки зрения возможно дать ответ на вопрос, входит ли «Пастух и пастушка» Астафьева в данную жанровую традицию. Для этого берутся три первичных образца, начиная с пасторального романа Лонга. Два других относятся к Средневековью, когда античные образцы жанра не были востребованы и рождалось нечто оригинальное. Поскольку идеальный модус любви присутствует в историях Тристана и Изольды, Петра и Февронии, следует отнести упомянутые произведения к образцам любовной идиллии (в случае с первым русским произведением о любви — в сочетании с идиллией семейной). Общие «скрепы» жанра в обоих средневековых образцах (западноевропейском и русском) проявляются не только в развитии истории вечной любви, несмотря на разрушительные препятствия, но — в финальном торжестве любви и единения влюбленных, хотя и посмертном. По законам идиллического жанра в итоге торжествует идея роста и циклического природного времени: точнее — идея вечной любви как вечного обновления жизни. Но об этом еще речь впереди. Пока лишь отмечу, что в средневековых образцах, как и в античном, мы наблюдаем жанровое сращение: соединение любовной идиллии с романом («Роман о Тристане и Изольде») и повестью («Повесть о Петре и Февронии»). В случае с «Пастухом и пастушкой» Астафьева мы однотипно встречаемся с сочетанием двух жанров: повести и пасторали.
Но есть и еще одна проблемная сторона: кажущееся жанровое несоответствие выбранных произведений. Ведь в средневековых образцах вовсе нет таких пастухов и пастушек, как у Лонга или Астафьева, и это вовсе не пасторали. Все это так, но оснований для спора нет, поскольку, как показано выше, пастораль есть лишь вид любовной идиллии. И линия жанровой традиции, по которой мы движемся в настоящей статье, идет именно по пути развития любовной идиллии: от первичных образцов, возникших в Античности («Дафнис и Хлоя») и Средневековье («Роман о Тристане и Изольде» и «Повесть о Петре и Февронии»), — до модификаций жанра в ХХ в. («Пастух и пастушка»).
Итак, общее во всех четырех произведениях (от «Дафниса и Хлои» до «Пастуха и пастушки» Астафьева) — не только то, что они все о любви (таких много), но: включают в свою жанровую модель как основу — любовную идиллию (или пастораль, ее разновидность). Во всех случаях происходит сращение жанров романа или повести с этой идиллической основой, которая доминирует во всех четырех произведениях и составляет художественно-эстетическое ядро жанровой модели, определяя ее своеобразие.
На наш взгляд, именно помещение Астафьевым старого жанра в силовое поле авторской со-временности, именно крайняя напряженность между идилличностью (пастораль-ностью) и жестокой реальностью ХХ в. обусловили его обновление и породили уникальную жанровую модификацию, которая по праву вошла в ряд художественных открытий русской прозы минувшего столетия. Притом не только теория и история жанра, но и соотносимые с «Пастухом и пастушкой» средневековые образцы доказывают, что разрешение любовной идиллии смертью героев исходно ей присуще и не разрушает жанровую модель, а вызывает катарсическое очищение и возвышенные чувства. Для выверения оценочных критериев, однако, рассмотрим соотношение «Современной пасторали» В. Астафьева с высокой традицией, уводящей нас в историческое прошлое…
***
Обращаясь к первым литературным опытам в прозе, начну с античной пасторали Лонга «Дафнис и Хлоя» о любви пастуха и пастушки11. Обретя статус нарицательных, имена Дафниса и Хлои вошли в культурную традицию классических любовных пар: Адам и Ева, Тристан и Изольда, Петр и Феврония,
Ромео и Джульетта… Конечно, всё это вовсе не пасторальные пастухи и пастушки, однако модификации любовной идиллии на изломе ХХ в. ведут нас и к «Современной пасторали» Астафьева, в названии которой имена героев-любовников предельно обобщены: Пастух и Пастушка. Со времен Античности, через Средневековье и вплоть до нашего времени в подобных произведениях обретает разноликое претворение идеал вечной любви.
Рождение жанра пасторали в Античности
К сожалению, никто из исследователей не взял на себя труд более внимательно рассмотреть античный пасторальный роман о пастухе и пастушке как первичный образец жанра (в прозе), от которого начинается движение к «Современной пасторали». Уже у Лонга12 проявляются такие типичные для пасторали черты, как «действующие лица — пастух и пастушка, основные мотивы — влюбленность и пение, характерный (идиллический) хронотоп, противопоставление пасторальных и непасторальных ценностей и образа жизни, ориентация на “золотой век” с его гармонией и естественным равенством» [Саськова, 1997: 36], слияние движений души человеческой с природой. Движение любовного чувства, его развитие и созревание изображается в истории любви древнегреческих пастуха и пастушки в единстве с природными движениями мира: сменой сезонов, осенним томлением и зимней задумчивостью, оживлением природы весной и летним ее расцветом. В этом — универсальность первой пасторали в прозе, ее близость каждому читателю из ранее и ныне живущих.
Первые образцы подобной прозы о любви дошли до нас в греческой романной традиции I–III вв. н. э.13, хотя сами греки еще не пользовались данным термином. Полнее всего сохранился греческий любовный роман: «Хэрей и Каллироя» Харитона, «Эфиопская повесть» Гелиодора, «Левкиппа и Кли-тофонт» Ахилла Татия, «Эфесская повесть» Ксенофонта Эфесского и др. Сюжетная основа их весьма схожа: это встреча и любовь, разлука, поиски, эпизод с мнимой смертью, обретение друг друга, и т. п.14 Как отмечают исследователи, перед нами — одна из наиболее распространенных мифологических схем, которая затем займет свое место и в памятниках христианской культуры. В сюжетном плане пастораль Лонга, кажется, мало отличается от созданных в то же время любовных романов, однако она явно выделяется на общем фоне по художественному уровню и закономерно получила мировое признание.
Замечателен пролог к «Дафнису и Хлое», где перед нами — быть может, впервые так открыто в литературе — обретают очертания идиллические образы, из которых впоследствии будет соткано многоликое пространство европейской прозы о любви. Автор говорит от своего «я» как наблюдатель некоего прекрасного произведения. Дерзнув вступить с ним в состязание, он представляет на суд наш свою художественную версию мира, проникнутого радостью, красотой, гармонией и любовью. Высвечивается сопряженность первичного для этой жанровой модели образа автора с такими категориями, как каноничность, совершенство, гармония, эстетический идеал.
Но еще более замечательна рецептивная установка пролога, задающая первичную модель (пасторального) читателя. В образе прекрасной картины, которую рассматривает восхищенный автор, по сути, зафиксирован образ читателя15, восходящий к платоновскому эйдосу. Картина содержит некие сюжетные линии, которые затем оживут в пасторали, а также — на уровне называния — неясные пока что образы будущих героев. Здесь в донельзя свернутой форме хранятся зачатки будущего повествования, которое будет разворачиваться перед нами усилиями автора и нас, читателей. Авторский восторг должен не только передаться нам, но и возбудить нашу активность по мысленному воссозданию великолепной картины, которая только названа и слегка обозначена на пасторальном панно16. И действительно, творческий позыв античного мастера увлекает и нас, читателей, на сотворчество по созданию — на этой основе и отталкиваясь от нее — нового замечательного произведения. Особого внимания требует интенсивность эстетического измерения, в которое помещает читателя автор. Здесь — точка сопряжения пасторального жанра с эстетическим идеалом как непременным предметом изображения, а также и связь рождающихся первообразов с этим идеалом.
Вот это чудесное вступление, насыщенное смыслами и рецептивными установками, которые затем, на протяжении веков, получат развитие в пространстве литературы:
«На Лесбосе охотясь, в роще, нимфам посвященной, зрелище чудесное я увидел, прекраснее всего, что когда-либо видал, картину живописную, повесть о любви. Прекрасна была та роща, деревьями богата, цветами и текучею водой; один родник все деревья и цветы питал. Но еще больше взор радовала картина; являлась она искусства дивным творением, любви изображеньем; так что множество людей, даже чужестранцев, приходили сюда, привлеченные слухом о ней; нимфам они молились, картиной любовались. А на ней можно было вот что увидеть: женщины одни детей рождают, другие их пеленами украшают; дети покинутые, овцы и козы-кормилицы, пастухи-воспитатели, юноша и дева влюбленные, пиратов нападение, врагов вторжение. Много и другого увидел я, и все проникнуто было любовью; и мной, восхищенным, овладело стремленье, с картиной соревнуясь, повесть написать…»17.
Задача автора — создание новой модели мира и человека в их первозданности. На наших глазах в границах нового жанра рождаются литературные первообразы Мира и Человека, как будто их и не было до того. Недаром в прологе в качестве порождающей модели избрана картина, т. е. произведение живописи, которое порождает собственно литературное произведение — как будто первое в своем роде. И это понятно и оправдано. Ведь нарождающийся романный канон знаменовал собой и преодоление уже сформировавшихся ко II– III вв. н. э., в процессе многовекового развития, стереотипов других родов и жанров (поэзии и драмы), а также своеобразное состязание с ним.
Значение «Дафниса и Хлои» во многом определяется соединением первичных образцов новых прозаических жанров: любовной идиллии/пасторали и романа. В этом сочетании — и необычная для того времени живость, и уникальность первой прозаической пасторали, которая «стоит одиноко среди софистических романов, так как автор перенес место действия в буколическую обстановку. Оторванная от жизни любовь греческих романистов получает у Лонга оправдание в условной атмосфере буколики, где пастушеские божества приходят в трудные минуты на помощь героям» [Тронский: 277].
Восхищаясь древним шедевром, Д. С. Мережковский утверждал, что автор «Дафниса и Хлои» «в своем романе показывает опыт первобытной человеческой любви , освобожденной от всех условностей и предрассудков, от всех покровов и цепей…» [Мережковский: 38]. Человеческое существо здесь предстает в своей первозданности: это Человек—как—таковой, в нем на наших глазах рождаются и зреют женское и мужское начала, которые как бы не имеют еще именования, не выражены в словесном оформлении, но возникают на уровне бессознательных импульсов и движений души, томящейся в поисках « имени любви» :
«…И восхищение это было началом любви . Что с ней случилось, девочка милая не знала, ведь выросла она в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова “любовь”. Томилась ее душа, взоры рассеянно скользили, и только и говорила она, что о Дафнисе… Так страдала она, так говорила, стараясь найти имя любви »18.
«Опыт первобытной человеческой любви» осуществляется в такт природным ритмам, в которых проходит жизнь деревни — родной для Дафниса и Хлои, найденных крестьянами еще в младенчестве. Если зима немного разлучает их, то весна вновь соединяет, делая доступной привычную пастушескую жизнь, на фоне которой и развивается любовное чувство.
Такая включенность героев этой любовной идиллии в циклическое природное время, движение которого знаменуется сменой сезонов, напоминает нам темпоральные опыты русской деревенской прозы ХХ в., в которой семейно-трудовая и любовная идиллия/пастораль имеют огромное значение. Особенности старого жанра проявятся спустя много веков в своеобычных модификациях — прежде всего у классика русской прозы второй половины ХХ в. В. П. Астафьева.
Древние корни «Современной пасторали»
Попытки соотнести «Современную пастораль» Астафьева с античным образцом делались некоторыми литературоведами, однако на уровне подступов к проблеме, притом не совсем удачных. К примеру, правомерен ли вывод, подытоживающий статью К. В. Казанковой и возвращающий нас к известному отрицанию 1980-х? «В современную эпоху античная пастораль в классическом варианте принципиально невозможна, ее идеалы недостижимы» [Казанкова: 102]. Так ли это, если рассматривать астафьевский шедевр не на уровне сюжетных линий героев или отражения исторической действительности, а с точки зрения претворения эстетического идеала, сопряженного с образами автора и читателя? Ведь, согласно Астафьеву, идеалы Античности константны в культурном бессознательном человечества, составляя его высочайшее эстетическое измерение:
« Всегда у гения в стихах, в песнях, на полотнах присутствует другой, едва угадываемый мир со спящей на холме прекрасной Венерой , виден еще один, дальний, запредельный, но в земное обращенный, будто бы к нам приближенный мир…» (13, 723).
Е. М. Гордеевой дан наиболее развернутый сравнительный анализ «Дафниса и Хлои» и «Современной пасторали» Астафьева, хотя и вместе с его киносценарием «Помню тебя», имеющим лишь опосредствованное отношение к тексту повести. Однако сравнительное исследование во многом проведено, так сказать, гипотетически — не с опорой на фактический материал, конкретные тексты, а посредством домысливания за писателя, который вроде бы «вполне мог» читать роман Лонга с предисловием Мережковского19, думать о нем то-то и так-то, видеть балет по роману, и т. п. [Гордеева: 92–94]. Неподкре-пленные фактами домыслы обесценивают анализ, который к тому же сосредоточен не столько на жанровом сопряжении, сколько на негативном сходстве, разрушающем высокий канон: Дафнис и Борис схожи лишь тем, что не по-мужски слезливы, пассивны и неспособны на решительное действие, а возвышающая пастораль тема вечной любви оборачивается мотивом… заурядной «любовной ссоры» [Гордеева: 98–99]. Вспоминается астафьевское высказывание: «Упрощение искусства и слова есть упрощение чувств…» (13, 724), что призывает нас глубже вчитываться в сложные смысловые подтексты… В противном случае не получится ли, как некогда в тех изданиях, где название «Пастух и пастушка» Астафьеву «советовали заменить, мол, будет восприниматься как “сельскохозяйственное” произведение» (12, 132).
В прологе к «Пастуху и пастушке» мотив движения, уводящий читателя в библейскую, античную древность, задан одним несоответствием, совершенно не замеченным исследователями. Сразу оговорюсь: эффект несоответствия, неуместности есть особый прием Астафьева, используемый им в самых разных аспектах: на уровне художественной детали, обретающей символическое значение; модификаций жанровой модели (именование старого жанра «современным», к примеру); характеристик героя/героини; сюжетно-тематического, мотивного комплекса. В первых же строках пролога обращает на себя внимание «неуместная» деталь: некая женщина бредет по холодной и пустынной предзимней степи в… сандалиях , хотя одета в теплое пальто с мехом:
« И брела она по тихому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя , отделанного сереньким мехом на рукавах» (3, 7).
В первичной рецептивной установке автора значительно всё: и начало повести о пастухе и пастушке с союза «И»20, вводящего их историю в некое общее культурное пространство и время; и (типичное для стиля этого писателя) символическое значение шага, поступи, обуви, относящее читателя к временам древних народов: греков и римлян, у которых именно дошедшие до наших дней сандалии были наиболее распространенной обувью21; и эпитет «старомодный», ключевой для астафьевской поэтики в ее ориентации на высокую традицию; и обобщенное именование женщины «она», позволяющее расширительно трактовать этот условный образ. Словно вместившая в себя скорбь многих и многих женщин, потерявших возлюбленных, мужей, сыновей, «она» имеет лишь опосредствованное отношение к героине повести Люсе и истории ее любви к лейтенанту Борису Костяеву, умирающему в разлуке с нею. И потому неправдоподобны попытки иных исследователей «подтянуть» образ пролога до «Люси-пастушки»22. Тем не менее на возможное соотнесение ее с условной фигурой пролога указывает и неуместность этой героини, словно пребывающей в некоем ином пространстве и времени («Я нездешняя» — 3, 32), что проявляется в восприятии ее лейтенантом Костяевым, который попадает вместе со своим взводом на постой к ней в хату (глава «Свидание»): «Не ко времени и не к месту она тут…» (3, 31).
По признанию автора ни он сам, ни переводчики, ни композиторы, обращавшиеся к «Современной пасторали», «не смогли до конца проникнуться ее пространственной печалью, не разгадали <…> заключенное в ней время — от века “Манон Леско” и дальше, в какие-то, и самому мне неведанные, пространства, в мир, где могли бы существовать со своей душой и любовью Люся и Борис. Пока же душам этим — нашему времени и обществу непригодных “персонажей” — лучше всего быть на небе» (3, 458).
Какое же время и место определено этой «нездешней» героине, соотносимой с образом незнакомки в прологе? Если судить еще по первичной рецептивной установке, заданной названием и обозначением жанра, — это время и место героини пасторального мира, уводящей нас к истокам трогательных историй пастуха и пастушки, — прежде всего к античному роману, сформировавшему пасторальный канон в его прозаическом варианте. Соотнесение с этим каноном задано уже названием « Пастух и пастушка ». И пролог, и дальнейшее сюжетное развитие показывают, что образы влюбленных здесь — это окутанные пасторальным флером фигуры реальных людей своего времени, многократно отраженные и в условных, и в реалистически-конкретных пластах произведения. Так, в его первых военных сценах появляются образы реальных, но уже ушедших в иной мир пастуха и пастушки — убитых старика и старухи23, чьи руки не смогла разъединить даже смерть. Эти образы «безвестных стариков», проявляющиеся где-то на грани меж бытием и небытием, грубой реальностью и условностью, изначально, еще до встречи главных героев вводят читателя в пасторальный мир с его утверждением идеи вечной любви:
«Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не смогли и решили — так тому и быть» (3, 26).
Как и в первичном образце жанра, в «Пастухе и пастушке» актуализируется мотив первозданности возникшего чувства, его естественности и непорочности. Правда, это более касается героя, лейтенанта Костяева, для которого, как и для многих его сверстников, со школьной скамьи попавших на фронт, встреча с Люсей и их сближение — первый и последний любовный опыт. Краткий порыв чувств сменяется разлукой и успением, навстречу которому влечет раненого героя сан-поезд по холодным неведомым пространствам…
Другой важный аспект, который следует учитывать при прочтении «Современной пасторали», заключается в сопряжении в ней условности (доминантной черты этого жанра) и — стиля символического реализма24, несмотря на свою современность отсылающего читателя и к древнегреческой поэтике. Вспомним утверждение писателя:
«Чтобы выразить философию нашего времени , философию подвига, человеческой жизни, любви, смерти — мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ, что в буквальном переводе с греческого означает идею. Да как-то умудрились подзабыть первооснову этого слова, упростили смысл его , смешали со словесной мякиной громких патетических слов
В “Пастухе и пастушке” я стремился совместить символику и самый что ни на есть грубый реализм » (12, 225–226).
В «Современной пасторали» условность обретает новую специфику, связанную с качеством символа. Возникает уникальный принцип множественности: сквозь внешнюю оболочку образа просвечивают совсем иные, сущностные смыслы, лики. Видимое, сюжетно и пластически зримое указывает на иное, скрытое за фасадом «реальности». Отсюда — и множественность (не)возможных концовок в истории Люси и Бориса (от идиллически-счастливой до трагической), и преломление этой истории в разноплоскостных отражениях: в сцене похорон убитых пастуха и пастушки, неразлучных даже в смерти; в портретных характеристиках Люси, облик которой будто дробится, множится, вызывая у Бориса, автора и читателя ассоциации с древними ликами; в высвечивании дополнительных смыслов через введение в текст пасторали эпиграфов из произведений разных времен и народов, и т. п. И заданный в прологе символ шага, поступи словно уводит читателя в совсем иные пространства и времена, к совсем иным, но столь схожим историям влюбленных: Петра и Февронии, Тристана и Изольды, Дафниса и Хлои…
Метаморфозы идиллического жанра в Средние века
Считается, что в Средние века любовная идиллия Лонга была забыта, а обрела популярность лишь после перевода на французский язык в эпоху Возрождения. Спорный вопрос, если вспомнить такие средневековые образцы, как «Роман о Тристане и Изольде» или первое в русской литературе произведение о любви — «Повесть о Петре и Февронии». Следует упомянуть и пастурель/пастореллу (от фр. pastourelle, прованс, pastorela — пастушка) — жанр средневековый куртуазной поэзии у французских труверов и прованских трубадуров, получивший распространение в Европе XII–XIV вв. [Юрченко, 2001b: 728]. Однако отметим и то, что до Нового времени понятия пасторали и идиллии были вообще слиты [Юрченко, 2001а: 287], и лишь позже возникают разные трактовки их соотношения (пастораль в составе идиллии или наоборот).
Согласно исследователям жанра идиллии, в русской литературе пасторальная традиция возникла сравнительно поздно25. Отметим, однако, что речь идет о «рождественской разновидности христианской пасторали» [Там же]. Потому, в контексте нашей темы, следует обратиться к «Повести о Петре и Февро-нии Муромских» («Повести от жития святых новых чюдотво-рец Муромских, благовѣрнаго, и преподобнаго, и достохвал-наго князя Петра, нареченнаго во иноческом чину Давида, и супруги его,благовѣрныя и преподобныя и достохвалныя княгини Февронии, нареченныя во иноческом чину Еуфроси-нии»), написанной в середине ХVI в. писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом на основе устных муромских преданий и сочетающей в себе жанры собственно повести, жития, сказки, семейно-любовной идиллии. Петр и Феврония — это и возвышенная своей святостью супружеская чета во Христе, и наделенные чудесной силой люди, и подчиняющиеся неодолимой силе любви «обычные» мужчина и женщина, чьи чувства проходят через испытание социальным неравенством, недоброжелательностью окружающих и собственной бренностью.
Любовное повествование, начало которому в русской литературе положено историей Петра и Февронии, имеет свои аналоги в европейской средневековой прозе — я имею в виду «Роман о Тристане и Изольде», основанный на древних преданиях кельтов и впервые дошедший до читателя в середине ХII в. В обоих случаях любовь воспринимается читателем как чудо и дарована героям высшими силами, магическими или божественными. Однако главное сходство и различие двух произведений — в линии, связанной с любовью героев и борьбой за нее.
Хотя даже поздние варианты романа о Тристане и Изольде появились гораздо раньше русской повести, допустить вероятность каких-либо заимствований, связанных с переводными версиями, сложно. С другой стороны, в основе русской повести — не легенда, а реальное историческое событие: Петр и Феврония действительно правили в Муроме и умерли в 1228 г., канонизация Петра и Февронии состоялась на соборе 1547 г., что и вызвало потребность запечатлеть их историю. Однако канонизация прототипов «Повести» обусловила не только само ее возникновение, но и своеобычный жанр, генетически связанный с житийным каноном. Хотя, по мнению исследователей, к этому жанру в его каноническом виде «Повесть», посвященная любви, жизни и смерти святых Петра и Февро-нии, имеет лишь опосредствованное отношение26. Очевидно, в случае с «Повестью» следует говорить об элементах жития в ее тексте: скорее о принадлежности произведения к житийной традиции , нежели канону. Хотя высокий дух жития явно присутствует в этом произведении русского Средневековья. И начинается оно с обращения к Господу — в традициях агиографической литературы:
«Благослови, отче. Богу Отцу и сприсносущному Слову Божию — Сыну, и пресвятому и животворящему Духу, единому Божию естеству безначалному, купно в Троицы воспеваемому, и хвалимому, и славимому, и почитаемому, и превозносимому, и исповѣдуемому, и вѣруемому, и благодаримому, содѣтелю и творцу невидимому и неописанному, искони самосилно обычною си премудростию свершающему, и строящему всяческая, и просвѣщающему, и прославляющему…»27.
В таком контексте роман о Тристане и Изольде кажется светским, тогда как русская повесть — житийным произведением. И само по себе сравнение их может выглядеть неуместным. Тем не менее в книге «Великое наследие» Д. С. Лихачев, посвящая отдельную главу «Повести о Петре и Февронии», отмечает определенное сходство ее с романом о Тристане и Изольде, а именно — мотив излечения, преодоление героями сопротивления социальной среды, посмертное соединение героев (в последнем моменте Лихачев следует за Ф. И. Буслаевым и А. Н. Веселовским). Правда, намеченное сравнение носит точечный характер и изложено весьма кратко: на уровне упоминания [Лихачев: 275–276]. К сожалению, такая лаконичность стала общепринятой при сравнении двух повестей. Думается, возможным более развернутое сравнение делает типологическое сходство и вариативная перекличка двух произведений как средневековых историй любви, где находят претворение образы женского и мужского начал, которые станут затем определяющими для движения мировой литературы.
Современная пастораль в средневековом контексте
В «Пастухе и пастушке» В. Астафьева, как и в средневековой истории Петра и Февронии, любовная идиллия сочетается с жанром повести. Но не только. Следует отметить и обращение к житийному канону: хотя и средневековая, и современная повести о любви от него менее или более далеки. Еще в советское время завершающая глава повести Астафьева обрела высокое житийное именование «Успение», что вызвало резкое неприятие атеистической критики. Ориентация Астафьева в «Современной пасторали» на иконописность и богородичный мотив уже зафиксированы исследователями (см.: [Ибатуллина, Алексеенко], [Алексеенко]). В последних редакциях автор еще более усилил христианский контекст, добавив в ассоциативные ряды образ Богородицы28.
Своего рода указание на средневековую традицию встречаем мы в самом тексте пасторали. Недаром в редакцию 1974 г., после первичных публикаций текста, Астафьев ввел эпиграфы из произведений разных времен и народов — в том числе и относящийся к поэтической традиции европейского Средневековья XI–XIV вв.: «из лирики вагантов» — бродячих поэтов, исполнявших свои произведения на латинском языке и своеобычно претворявших жанр пасторали. К примеру, в песне/стихотворении «Добродетельная пастушка» в лирике вагантов (а она была, как правило, анонимной) воспевается свобода природного естества, естественных человеческих чувств — хотя и в весьма телесном, земном варианте, ибо естественность пастушки и есть ее добродетель в трактовке вольных поэтов.
У Астафьева эпиграф из стихотворения вагантов о расставании влюбленных относит читателя к жанру любовной идиллии, на наших глазах распадающейся под воздействием безжалостной реальности:
«Горькие слезы застлали мой взор.
Хмурое утро крадется, как вор, ночи вослед.
Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя и меня в серый рассвет.
Из лирики вагантов » (3, 92. Курсив автора. — А. Б .)
В современной пасторали этот эпиграф предваряет третью главу «Прощание», о любви и разлуке. А начинается астафьевская история о пастухе и пастушке с того, чем завершаются оба вышеупомянутых средневековых произведения о любви — «Роман о Тристане и Изольде» и «Повесть о Петре и Фев-ронии»: с момента воссоединения влюбленных в таинственном «там» — вопреки трагичности бытия и противодействующим их любви силам.
«Она опустилась на колени перед могилой.
— Как долго я тебя искала! <…>
Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.
— Почему ты лежишь один посреди России?
И больше ни о чем не расспрашивала.
Думала.
Вспоминала» (3, 8).
Однако если женщина в прологе жива и обретает могилу возлюбленного, которую столь долго искала ( «Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе… Там уж никто не в силах разлучить нас» (3,140) ) , то в средневековом варианте возлюбленные умирают одновременно и воссоединяются сразу после смерти.
В «Повести о Петре и Февронии» финальная попытка разлучить благочестивых супругов, похоронив в отдельных могилах вопреки их воле, завершается последним чудом — воссоединением в усыпальнице, которая становится святым местом:
«Общий же гроб, егоже сами повелѣша истесати себѣ вь едином камени, оста тощ в том же храмѣ Пречистыя соборныя церкви, иже внутрь града. На утрии же, вставше, людие обрѣтоша гро-би их особныя тщи, в няже их вложиста. Святая же телеса их обретоста внутрь града в соборней церкви пречистыя Богородицы вь едином гробѣ, егоже сами себѣ повелѣша сотворити. Людие же неразумнии, якоже в животѣ о них мятущеся, тако и по честнѣм ею преставлении: паки преложиша я во особныя гробы и паки разнесоша. И паки же на утрии обрѣтошася святии вь едином гробѣ. И ктому не смѣяху прикоснутися святѣм их телесем и положиша я во едином гробѣ, в немже сами повелѣста, у соборныя церкви Рождества пресвятыя Богородица внутрь града, еже есть дал Богъ на просвѣщение и на спасение граду тому: иже бо с вѣрою пририщуще к раце мощей ихъ, неоскудно исцеление приемлют»29.
Сходным образом в романе о Тристане и Изольде торжество вечного чувства над скоротечностью и конечностью бытия, телесной бренностью утверждает себя в природном явлении — вечнозеленом терновнике, перекинувшемся из могилы Тристана к его возлюбленной. Все попытки короля Марка препятствовать посмертному воссоединению влюбленных были обречены на неудачу: срезанные ветви заново отрастали, и живой мост продолжал свое существование:
«И из могилы Тристана поднялся прекрасный терновый куст, зеленый и пышнолиственный, и, перекинувшись через часовню, врос в могилу Изольды. Окрестные жители проведали о том и сообщили королю Марку. Трижды приказывал король срезать этот куст, но всякий раз на следующий день он являлся столь же прекрасным, как и прежде. Такое чудо свершилось на могилах Тристана и Изольды»30.
В прологе и эпилоге, составляющих кольцо вечности вокруг истории любви и смерти в «Пастухе и пастушке», природный мотив также доминирует, знаменуя слияние погибшего воина-возлюбленного с Матерью-Землей:
«Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли. <…>
Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакеном острая пирамидка, и зыбко было все в этом мире.
А он, или то, что было когда-то им, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.
Остался один — посреди России» (3, 140).
Сопряжение произведений о вечной любви, средневековых и современного, предполагает и сходство тематическое, сюжетно-типологическое, образное. Встрече будущих влюбленных предшествует история сражения и победы мужчины над врагом, предстающим в облике человека, змия-оборотня, зверя. Так сразу будущий влюбленный предстает в первую очередь как Мужчина — победитель зла, защитник слабых; у Астафьева — воин, сражающийся с озверевшим фашистом. Мужские качества обнаруживают себя как героические:
«И взем мечь, нарицаемый Агриков, и прииде в храмину к сносѣ своей, и видѣ змия зраком аки брата си, и твердо увѣрися, яко нѣсть брат его, но прелестный змий, и удари его мечем. Змий же явися, яков же бяше и естеством, и нача трепетатися, и бысть мертвъ, и окропи блаженного князя Петра кровию своею»31.
Настоящий мужчина обязан быть Героем, по зову сердца сражающимся за свободу и счастье других людей: таков средневековый канон. И этот канон своеобычно претворен в ХХ в.
Далее во всех трех произведениях следует история страданий Мужчины от полученных ран32 — он видимо ослабевает, и здесь его судьба и сила зависит от Женщины. Не только от ее красоты или духовных качеств, но и от обладания необходимыми для спасения мужчины знаниями и определенными искусствами. Таковы в средневековой любовной прозе премудрая Феврония и искусная Изольда, спасающие раненых героев:
«И остался Тристан у Изольды, и она врачевала его раны до тех пор, пока не выздоровел он и не окреп. И когда исцелился Тристан и увидел красоту Изольды, — а она была так прекрасна, что молва о ее красоте обошла всю землю, — пал он духом и помутились его мысли. И решил он, что попросит ее в жены себе и никому другому, ибо тогда достанется ему прекраснейшая женщина, а ей — прекраснейший и славнейший рыцарь на свете»33.
Женское начало выступает как спасительное для мужчины, однако эта позиция подвергается тяжким испытаниям — и в Средневековье, и в последующей литературе о любви.
Так, в повести Астафьева влюбленные расстаются, и раненый Борис теряет Люсю: чудесное воссоединение их при жизни остается миражом, одной из ложных концовок «Современной пасторали». Подлинно женское начало исчезает из повествования, заменяясь чем-то равнодушно-агрессивным. «Господи! Это — женщина?!», — с тоской думает умирающий Борис о жестокой медсестре, не чувствительной к страданиям раненого (3, 131).
Тем не менее телесность, имеющая огромную силу над героями, во всех приведенных образцах побеждается высокой духовностью, которая торжествует над бренностью. Любовь утверждает себя как высокое духовное чувство, а созданные античным, средневековыми и современным авторами образы влюбленных остаются в памяти читателя просветленными и радостными благодаря дарованному им судьбою высокому чувству — несмотря на тягостные испытания и противодействие людей, войны и мира.
***
Изучение «Современной пасторали» В. Астафьева в контексте жанровых традиций обнаруживает не только состоятельность авторского определения, но — перспективность обновления пасторально-идиллического канона через художественное осмысление исторической действительности
Новейшего времени. Поверка идиллии жестоким опытом ХХ в. придает большую сюжетно-композиционную напряженность и углубляет идейно-художественную основу произведения, обеспечивая неослабевающее внимание читателя. Обращение классика ХХ в. к пасторально-идиллическому жанру вызвано потребностью воплотить идеальный модус художественного мира, во многом утраченный в советскую пору из-за обытовленности литературного мышления или сведенный к соцреалистической идеализации официозной идеологии. Понять такого сложного писателя, как Астафьев, возможно лишь уловив ту высокую ноту, которую берет он, даже изображая низменные стороны действительности в ее худших проявлениях. В случае с «Современной пасторалью» взять эту ноту, утверждающую вечную любовь и обновление жизни как непреложный закон бытия — вопреки ужасам войны, смертям и озверению людей, и позволяет обращение к «старому» жанру.
Думается, подобное направление исследования доказывает продуктивность рассмотрения классических образцов недавней современности в контексте «длинных линий» литературной традиции. Очевидна необоснованность того, что эти линии в исследованиях русской прозы второй половины ХХ в. привычно завершаются началом Нового времени и прерываются, не доходя до литературы Средневековья и Античности. Изучение жанровых традиций в «большом времени» литературы позволяет лучше понять нашу классику в ее высоких образцах.
Примечания
Как справедливо отмечает М. В. Заваркина, «в литературоведении ХХ в. появилась идея “гибели”, или “атрофии”, жанров. <…> В результате некоторые ученые предлагали либо расширить трехчленную родовую структуру, либо вообще отказаться от разделения на литературные роды и жанры и заменить эти категории другими» [Заваркина: 19].
Вместо этого нередко используется так называемая «промежуточная масса» текстов: последующие интерпретации оригинала.
Так, ода во многом определяется возвышенным характером реальности, которую воспевает автор.
“Современную пастораль» сам автор называл своим любимым детищем, к которому он неоднократно обращался, восстанавливая удаленные цензурой места, переписывая и дополняя уже опубликованные варианты. Этим объясняется обилие редакций этого уникального произведения. Значимость авторских именований жанра особо подчеркивается исторической поэтикой: «Включенные обычно в заглавия произведений, они являются элементом художественной структуры текста, несут в себе, как правило, дополнительный художественный смысл: ведь жанр — это еще и указание автора, как читать, по каким законам судить о прочитанном, в каком литературном “ряду” следует отвести место его произведению» [Захаров, 1985: 50].
Астафьев В. П. Собр. соч.: в 15 т. Красноярск: ПИК «Офсет», 1997–1998. Т. 8. С. 11. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома и страницы в круглых скобках.
Здесь и далее курив в цитатах мой. — А. Б .
«В художественном пространстве “панегирической идиллии” и оды топос прелестного уголка, райского, “заключенного” сада совпадал с границами России, наполняясь национально-патриотической и политически актуальной содержательностью» [Саськова, 1999: 23].
«Оды часто строились на контрасте идиллического спокойствия, процветания, радостного веселья, не заглушаемого “громами Беллоны”, и хаоса , взвихренности, стонов, разорения, несчастий в период войны . Отсюда повышенная идейно-эмоциональная нагруженность пасторальных эпизодов в рамках оды, их включенность в систему оппозиций: космос/хаос, рай/ад, мир/война» [Саськова, 1999: 22].
К примеру, Л. Якименко негативно отмечал «жанровую заданность “Пастуха и пастушки” (пастораль)» [Якименко: 248], а Б. Камянов считал «претенциозным» данный автором жанровый подзаголовок [Камянов: 258].
Симптоматично в этом плане, что современная исследовательница модификаций пасторали, в том числе и «Пастуха и пастушки» Астафьева, вводит роман Лонга в ряд «наиболее очевидных ориентиров для писателей, продолжающих пасторально-идиллическую традицию во второй половине ХХ века» [Гордеева: 61].
Имя автора весьма условно, какие-либо сведения о нем до нашего времени не дошли.
Хотя, по убеждению некоторых исследователей, первые следы наличия романа относятся к концу II в. до н. э. [Тронский: 274].
См. об этом подробнее, к примеру, в бахтинских «Формах времени и хронотопа в романе» [Бахтин: 124–125].
Об образе читателя как внутритекстовой фреймовой структуре см.: [Большакова, 2003].
Мотив картины имеет непосредственное отношение к реализации жанра идиллии: ведь лат. idyllium происходит от др.-греч. εἰδύλλιον — «небольшое изображение», «картинка», уменьшительное от είδος — «вид», «картина».
Лонг. Дафнис и Хлоя // Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. Пе-троний. Арбитр. Сатирикон. Лонг. Дафнис и Хлоя. М.: АСТ, 2011. С. 539. Там же. С. 547–548.
В подкрепление этого тезиса приводятся лишь два однокорневых слова: Мережковского — о «беззащитной» душе героев Лонга и — астафьевского героя о «беззащитных» пастухе и пастушке в театральной пасторали [Гордеева: 92].
По признанию писателя, этот соединительный союз имеет важное значение, вводя отдельное произведение в некий культурный контекст, на правах его продолжения: «Чтобы “стартовать”, мне необходим звуковой толчок. Люблю начинать с буквы “И” . Помните, Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского? Как будто вокруг звучала незаписанная музыка, а — композитор уловил продолжение какой-то фразы . Так и в прозе. Важен первый такт. И — звучит хорошо, если сделать это ненавязчиво. Я вытягиваю начало из внутреннего созвучия, распева. “ И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему”» (12, 132).
Сандалии (Σανδάλια, ύποδήματα, πέδιλα, y римлян soleae) были известны в Античности как обувь, которую носили не только люди, но и боги. Потому этот вид обуви изначально обрел возвышенный характер, о чем, в частности, свидетельствуют эпитеты: «прекрасные» (καλά), «золотые» (χρυσεῖα), «божественные» (ἀμβρόσια). Согласно Гомеру, Зевс отправил бога Гермеса, первоначально покровителя стад, пастухов и путников, к людям в золотых крылатых сандалиях. Гомер называет их «амброзиальными», т. е. вечными. И на древнеегипетских изображениях обутые в сандалии фараоны ведут беседы с богами. Сандалии носили и ученики Иисуса.
См. неправомерное соединение А. Степановой образов «пастушки Люси, всем существом устремившейся туда, где “уж никто не в силах разлучить нас”» [Степанова: 117], и неизвестной женщины в прологе, слова которой на самом деле воспроизводятся критиком и к которой относится цитируемое устремление.
-
23 Обратим внимание на то, что в этой сцене, как и в прологе, особое внимание уделено мотиву обуви (ср. «неуместно» детальное описание обуви убитых пастуха и пастушки), относящему читателя к идее преодоления конечности бытия — вечным движением. На это указывает и другой символ: клубок, выпавший из рук вязавшей в момент гибели пастушки и подобранный воином-связным, который вновь наматывает нить. Подобное символическое действие, знаменующее в поэтике Астафьева преемственность поколений и восстановление хода жизни, видим мы, к примеру, в одноименной главе «Последнего поклона», где вернувшийся после войны внук поднимает выпавший из рук бабушки клубок и вновь сматывает его, словно восстанавливая нить судьбы, оставившей его в живых. Ср.: «…связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, <…> начал наматывать нитки на клубок» (3, 26); «Я поднял клубок и начал сматывать нитку, медленно приближаясь к бабушке <…> … — Живой я остался, бабонька, живой! ‥ » (5, 281–282).
-
24 См. об этом шире в: [Большакова, 2020].
-
25 «Первым русским поэтом, обратившимся к пастушеской тематике, стал Симеон Полоцкий (1629–1680). Свои произведения он обозначает как “Беседы пастушеские”, указывая таким образом на диалогический характер стихотворения. Прилагательное “пастушеский” является калькой латинского термина “пастораль”, и именно латинский, а не греческий термин выбирает Симеон Полоцкий, создающий эти стихотворения, ориентируясь на польскую традицию жанра, в которой подобного рода произведения назывались “пасторалками”» [Зацепина: 6].
-
26 «Содержание и художественная структура этого произведения не укладываются в рамки житийного канона. Слишком значительные отклонения его от житийного жанра были ясны уже и в XVI в. Митрополит Макарий не включил Повесть о Петре и Февронии в состав Великих Миней Четий» [Дмитриева: 247].
-
27 Повесть о Петре и Февронии Муромских // Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). М.: Худож. лит., 1969. С. 454. Сер. «Библиотека всемирной литературы». Подгот. текста «Повести…» и прим. Р. П. Дмитриевой.
-
28 К примеру, в предсмертные видения умирающего героя: «…Перед ним… клубился сиреневый дым, а в загустевшей глуби его плыла, качалась, погружалась в небытие женщина со скорбными глазами Богородицы » (3, 136). В редакции 1974 г. глаза женщины были названы «иконописными», однако упоминание Богородицы отсутствовало.
-
29 Повесть о Петре и Февронии Муромских. С. 462–463.
-
30 Средневековый роман и повесть / вступ. ст. и прим. А. Д. Михайлова. М.: Худож. лит., 1974. 664 c.
-
31 Повесть о Петре и Февронии Муромских. С. 455.
-
32 Петр «же от неприязнивыя тоя крови острупѣ, и язвы быша, и при-иде жа нь болезнь тяжка зело. И искаше в своем одержании ото мног врачев исцелениа, и ни от единого получи» (Там же. С. 455).
-
33 Средневековый роман и повесть. С. 175.
Список литературы "Современная пастораль" В. П. Астафьева "Пастух и пастушка" в контексте жанровых традиций
- Алексеенко М. В. Богородичный архетип в структуре образа главной героини повести В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» // Художественный текст: проблемы чтения и понимания в современном обществе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018. С. 154-156.
- Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Худож. лит., 1986. 543 с.
- Большакова А. Ю. Образ читателя как литературоведческая категория // Известия АН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 2. С. 17-26.
- Большакова А. Ю. «...И в каждой капле — частица мира»: о символическом реализме русской деревенской прозы // Русская литература: ХХ век и современность: коллективная монография к юбилею профессора МГУ М. М. Голубкова. М.: МАКС Пресс, 2020. С. 86-98.
- Боннар А. Греческая цивилизация: в 3 т. М.: Искусство, 1992. Т. 3: От Еврипида до Александрии [Электронный ресурс]. URL: http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya (30.11.2020).
- Гордеева Е. М. Пасторально-идиллическая традиция в русской прозе второй половины ХХ века: дис. ... канд. филол. наук. Пермь: ПГПУ, 2016. 232 с.
- Гречаникова Е. Л. Антимилитаристские тенденции в военной прозе в условиях социокультурной ситуации 1980-х гг.: война и «Пастораль» // Вестник Псковского государственного университета. Сер. «Социально-гуманитарные науки». 2015. № 2. С. 98-104.
- Дмитриева Р. П. О структуре Повести о Петре и Февронии Муромских // ТОДРЛ. Л.: Наука, 1976. Т. ХХХ1. С. 247-270.
- Заваркина М. В. Жанр как категория поэтики (проблемы, тенденции, перспективы) // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 7-35 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_ pdf/1582887863.pdf DOI: 10.15393/j9.art.2020.7562. (30.11.2020).
- Захаров В. Н. К спорам о жанре // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. Петрозаводск: ПГУ, 1984. С. 3-19.
- Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика. Л.: ЛГУ 1985. 208 с.
- Зацепина К. Д. Теория и история жанра идиллии в русской поэзии 1750-1770-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МПГУ, 2007. 22 с.
- Ибатуллина Г. М., Алексеенко М. В. Иконный экфрасис в изображении главной героини повести В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» // Проблемы научной мысли. 2018. Т. 7. № 3. С. 60-62.
- Казанкова К. В. Трансформация жанрового канона античной пасторали в повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» // Юбилейные Аста-фьевские чтения «Писатель и его эпоха». 28-30 апреля 2009 г. / ред. кол.; отв. ред. А. М. Ковалева; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск: КрГПУ, 2009. С. 101-107.
- Камянов В. И. Мера обобщения // Новый мир. 1972. № 1. С. 255-260.
- Лихачев Д. С. Избранные работы: в 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. Т. 2. 493 с.
- Мережковский Д. С. О символизме «Дафниса и Хлои» // Дафнис и Хлоя: древнегреческий роман Лонгуса. СПб.: Изд. М. М. Ледерле, 1896. С. 5-42.
- Никифорова Л. Р. Эволюция пасторального мифа и проблема жанра «Пастуха и пастушки» В. Астафьева // Общечеловеческое и вечное в литературе ХХ века (русская и советская литература): тезисы докл. всесоюзн. науч. конф. Грозный: Чечено-Ингушский гос. ун-т им. Л. Н. Толстого, 1989. С. 192-194.
- Пахсарьян Н. Т. Испанская и французская пастораль в эпоху символизма: Хименес и А. Жид // Историческая поэтика пасторали: сб. науч. тр. / отв. ред. Саськова Т. В. М.: Экон-Информ, 2007. С. 101-116.
- Пахсарьян Н. Т. «Свет» и «тени» пасторали в Новое время: пастораль и меланхолия [Электронный ресурс]. URL: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/articles/france/pahsaryan-svet-i-teni-pastorali.htm (20.10.2020).
- Саськова Т. В. Жанровая природа пасторали в историко-литературном осмыслении // Литература в системе культуры: материалы научного семинара. М.: МГОПУ, 1997. Вып. 1. С. 36-45.
- Саськова Т. В. Пастораль в русской поэзии XVIII века. М.: МГОПУ, 1999. 165 с.
- Саськова Т. В. «И сияла им серебряная Пастушья звезда.»: Русская прозаическая пастораль эпохи перестройки // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты: Ежегодник — 2011. Современный человек: Движение к пасторали? / под ред. Н. Т. Пахсарьян, Г. В. Хлебникова. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 85-106.
- Степанова А. Ремифологизация пасторального мифа в повести В. Богомолова «Зося» // Пастораль: бегство от действительности или приближение к ней? сб. науч. тр. / отв. ред. Т. В. Саськова. М.: РГУ им. А. Косыгина — Академия им. Маймонида, 2018. С. 110-124.
- Тронский И. М. История античной литературы. 2-е изд. Л.: Учпедгиз, 1951. 508 с.
- Юрченко Т. Г. Идиллия // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. Институт научной информации по общественным наукам РАН. М.: Интелвак, 2001. Стб. 287-290. (a)
- Юрченко Т. Г. Пастурель // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. Институт научной информации по общественным наукам РАН. М.: Интелвак, 2001. Стб. 725-728. (b)
- Якименко Л. Г. Литературная критика и современная повесть // Новый мир. 1973. № 1. С. 238-250.