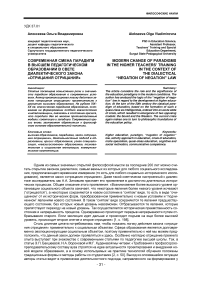Современная смена парадигм в высшем педагогическом образовании в свете диалектического закона «отрицания отрицания»
Автор: Алексеева Ольга Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению роли и значимости парадигм образования в современных условиях. Автор проанализировал логику действия закона «отрицания отрицания» применительно к развитию высшего образования. На рубеже XIX-XX вв. классическая парадигма образования, основанная на формировании особого квазисословия «интеллигенции», оказалась в состоянии кризиса, что породило две во многом противоположные модели: советскую и западную. Современный кризис вновь заставляет обратиться к философским основам образовательной политики.
Высшее образование, парадигма, закон "отрицания отрицания", деятельностный подход в образовании, кризис образования, узкая специализация, "квазисословное" образование, познавательная и социальная мотивация, коммуникативная компетенция
Короткий адрес: https://sciup.org/14936646
IDR: 14936646 | УДК: 37.01
Текст научной статьи Современная смена парадигм в высшем педагогическом образовании в свете диалектического закона «отрицания отрицания»
Одним из самых значимых открытий философской мысли за последние 200 лет можно считать открытие законов диалектики, самым важных из которых для любого социального исследования, предполагающего временное измерение (то есть для любого социально-исторического исследования), является закон «отрицания отрицания». Даже такой скептически настроенный к диалектике исследователь как А.А. Зиновьев признает его проявление в достаточно длительных исторических процессах. Общее описание этого проявления: «Возникновение более высокого уровня организации социального объекта означает, что некоторые явления более низкого уровня исчезают (“отрицаются”), а некоторые сохраняются в новом состоянии в “снятом” виде, то есть в виде “очищенном” от их исторических форм, преобразованном применительно к новым условиям и “подчиненном” явлениям нового состояния. В таком “снятом” виде сохраняются те явления предшествующего состоянии, без которых новый уровень невозможен. Отбрасываются те явления, которые препятствуют переходу на новый уровень. Так осуществляется историческая преемственность состояния и непрерывность процесса. Одновременно происходит перерыв непрерывности путем отбрасывания старого. Если эволюция идет дальше и происходит подъем на еще более высокий уровень, происходит второе снятие и второе отрицание» [1, c. 198].
Столь длинная цитата потребовалась нам, чтобы показать логику действия закона «отрицания отрицания» применительно к социальным объектам. Сфера образования является долговременно эволюционирующим социальным объектом, поэтому применительно к ней мы можем предположить, что данный закон должен проявляться и здесь. Особенно наглядно отрицание прежнего опыта выступает при знакомстве с современными статьями по педагогике высшей школы. Так, в статье Э.П. Бакшеевой, Н.А. Вороновой и М.Г. Худеневой мы читаем: «Требования к профессорско-преподавательскому составу вуза строятся на идее актуальности проектирования и внедрения новой модели образования, а в основу используемых на практике технологий обучения положены традиционные формы и методы работы со студентами» [2, с. 50]. Выход из сложившейся ситуации авторы статьи видят в применении деятельностного подхода, направленного на формирование у студентов (а точнее самими студентами) обобщенных способов действий по решению определенного класса задач. Можно ли в таком подходе видеть проявление закона «отрицания отрицания»? Насколько деятельностный подход может быть универсален? Какие формы он может принимать при преподавании предметов из различных предметных блоков?
Возьмем для примера самый «неподходящий» общекультурный блок. Преподавание той же истории или философии за пределами профильных специальностей изначально не предполагает, что студенты станут историками или философами. Возникают как минимум два вопроса: зачем эти предметы нужны; а если они нужны, то возможно ли при их преподавании применение деятельностного подхода (и нужно ли оно)?
Для выявления исторических форм проявления в преподавании общекультурных предметов закона «отрицания отрицания» обратимся к эволюции восприятия значимости данного предметного блока в рамках европейской традиции высшего образования. Большой интерес здесь представляет высказанная еще в 1970-е гг. западногерманским социологом К. Зейфертом мысль, что классическое западное образование (характерное, например, для европейских вузов XIX в.) отличалось сочетанием рационального обучения специальности с общим гуманистическим образованием, квалифицирующим человека уже не только профессионально, но и «сословно» [3, с. 117]. При этом цель образования западных интеллектуальных слоев заключалась в том, чтобы подготовить носителей и проводников; частичных рационализаций и модернизаций, творчески осуществляемых в каждом конкретном случае на основе подведения единичного под общий принцип разума [4]. Именно такой подход, по мысли К. Зейфарта, обеспечивал постоянное соединение рационального и иррационального в общем процессе рационализации западного мира и объединение формально-рационального и творческого начал в рамках профессии - призвания западного интеллектуала [5].
Однако в дальнейшем, по мнению немецкого социолога, данный тип профессиональной деятельности с углублением рационализации западной культуры все больше подвергается разложению. С одной стороны, выделяется «чистая» ценностно-рациональная деятельность, предстающая как содержательное истолкование соответствующих результатов духовного труда; с другой - обособляется «чистая» ценностно-рациональная деятельность, заключающаяся в «утилизации» этих результатов в целях, далеких от собственно профессиональных. Так, среди юристов теоретики права и адвокаты. Если первых интересует реализация справедливости, то вторых - стратегическое использование возможностей права в интересах клиентов. В науке от ученых отделяются эксперты, озабоченные уже не столько содержанием научного знания, сколько его использование в других областях [6].
В результате, согласно К. Зейфарту, происходит кризис воспитания и образования. Наряду с традиционным для Запада типом «литературно развитого культурного человека» возникает, вступая с ним в конфликт, новый тип - узкий специалист; разрушается связь образования и культуры как целого. Образование втягивается в международный процесс «нивелировки», все более формализующей его [7].
Образование узких спецов становится все более «фабричнообразным». Результаты же их деятельности в обществе приводят ко все большей «бюрократической рационализации», то есть к административно-управленческому изменению условий жизни, в которое вовлекаются люди, не отдающие себе отчета ни о смысле, ни о цели происходящего изменения [8]. Общим признаком деятельности узкого специалиста становится его полная замкнутость на обыденно-повседневном измерении жизни, сопровождающаяся непоколебимой самоудовлетворенностью [9]. «Жизненный мир» кажется «специализатору» полностью непроблематичным. Однако количество проблем, существующих в мире, да и общая сумма «иррационального» в мире от этой его рационализации вовсе не уменьшается [10].
Сходные мысли о современном состоянии западной культуры высказывает и А.А. Зиновьев: «На создание, сохранение, воспроизводство, дальнейшее усовершенствование и обогащение знаковой культуры, и использование ее Запад затрачивает астрономических размеров средства и усилия. Пока эти траты оправдываются. Но всему есть предел. Во-первых, достигла огромных размеров и все увеличивается паразитическая и негативная (вроде рака) часть этой культуры, и никто не в состоянии остановить этот процесс. Во-вторых, все дороже обходится сохранение и воспроизводство навыков обращения с нею. В-третьих, все дороже обходится каждый шаг вперед. И, в-четвертых, передача многих функций знаковой культуры и значительного объема операций с нею техническим устройствам, усиливая и облегчая некоторые аспекты интеллектуальной деятельности людей, одновременно ограничивает возможности знакового творчества» [11].
Как видим, идея кризиса современной культуры и образования, основанных на специали-заторстве, буквально витает в воздухе. Этот кризис становится все более зримым в связи с об- щим нарастанием мировых проблем: истощением ресурсов (особенно нефти), ухудшением мировой экологической ситуации, углублением пропасти между развитыми странами и остальным миром, усилением политической и финансовой нестабильности мировой системы, ростом бездуховности и распространением девиантных форм поведения и т.д. Одним из вариантов преодоления современного кризиса образования можно считать советскую систему, основанную на идеологическом единстве. Однако данный опыт, как известно, окончился неудачей. Во многом в связи с этим ситуация в российском образовании выглядит особенно трагично. Показателем остроты кризиса может быть тот факт, что Россия вышла на одно из первых мест в мире по количеству подростковых суицидов. Суть этого заключается не только в увеличении числа семейных конфликтов и разводов, но и в том, что система образования и воспитания не обеспечивает достаточного уровня интеграции молодежи в общество.
Налицо кризис системы образования и воспитания, требующий прогрессивного, то есть диалектического разрешения. При этом в нем оказались и советская (идеологическая), и западная (специализаторская) модели высшего образования. Где искать выход?
Вернемся к началу нашей статьи. При диалектическом разрешении противоречий отбрасываются те явления, которые препятствуют переходу на новый уровень и сохраняются те, без которых новый уровень невозможен. В связи с относительно небольшим количеством людей, имевших высшее образование в СССР, оно было фактически «квазисословным» в том смысле, что в вузы поступали представители различных социальных групп, но в результате обучения они превращались в своеобразное квазисословие – интеллигенцию. В современных условиях, когда большинство молодежи может получить высшее образование, такая квазисословность его невозможна. С другой стороны, поступление в вузы (особенно провинциальные педагогические университеты) большого количества представителей молодежи, имеющих весьма средние способности и довольно слабую привычку к учебной дисциплине ставит под вопрос монополию традиционных форм обучения с помощью лекций и семинаров. Наконец, распространение новых технических средств обучения и особенно всеобщее обращение к сети Интернет снижает значение информационной составляющей обучения и повышает роль составляющей деятельностной, связанной с готовностью к постоянному самообразованию. Но и специализаторская модель, как мы стремились показать в статье, тоже может оказаться неэффективной в связи с увеличением количества социальных рисков.
Необходим новый вариант соединения рационального обучения специальности с общим гуманистическим образованием, но уже не с целью формирования нового квазисословия интеллектуалов. Новой целью, на наш взгляд, могло бы стать формирование в массовом порядке умений выделять социальные противоречия, анализировать их и продуктивно разрешать в различных сферах деятельности: в науке, в профессиональной деятельности, в гражданской сфере, в обыденной жизни. При этом главной сверхзадачей индивида должна стать его самореализация в гармонии с развитием общества. В этом и будет заключаться реализация закона «отрицания отрицания» применительно к развитию высшего образования. Здесь особую роль приобретают предметы, традиционно относимые к общекультурному блоку: философия, история отечества, социология, экономика, этнология и другие. В современном высокотехнологичном мире социальные риски непродуманных действий столь велики, что деятельность почти любого индивида, не учитывающая социальных последствий, может иметь при определенных обстоятельствах катастрофические результаты для многих. Типичным примером здесь могут быть масштабные техногенные катастрофы, нередко начинавшиеся с простой халатности «маленького» человека. Не меньшую опасность, как показала история, могут представлять и массовые иррациональные фобии, например, ультранационалистического толка. Результаты непродуманных действий и высказываний, а также бездействия и халатности тех же школьных педагогов проявляются, возможно, не столь быстро и ярко, но могут быть не менее болезненны для общества.
Одним из способов придания преподаванию предметов общекультурного блока нового качества, на наш взгляд, может стать использование в этом процессе элементов деятельностного подхода. При этом их использование отнюдь не означает отказа от традиционных форм обучения, таких, например, как лекции и семинары, без которых высшее образование, видимо, существовать не может. Полный переход на деятельностный подход в случае с данными предметами также невозможен, так как здесь у нас нет цели подготовки профессиональных философов, историков, социологов и т.д.
Деятельностный подход предполагает, во-первых, формирование познавательной и социальной мотивации учения [12]. Важнейшей составляющей устойчивой познавательной мотивации, как нам кажется, можно считать приобщенность студентов к современной исследовательской культуре, предполагающую знание и применение основных общенаучных методов исследования (ге- нетического, сравнительного, типологического, системного, экспериментального). Здесь роль общекультурного блока очень велика, хотя, конечно, в различных науках отдельные методы могут иметь большее или меньшее значение. Например, в истории весьма скромную роль играет экспериментальный метод, в естественных же науках он является важнейшим.
Другой принцип, который мы бы назвали принципом историзма, предполагает, что явления необходимо исследовать и как формирующиеся (изменяющиеся), и как уже сформировавшиеся. Правда, А.А. Зиновьев отдает явное предпочтение второму способу, особенно при изучении социальных объектов, где он стремится доказать приоритет социологии перед историей, но здесь с ним можно и не согласиться [14].
Третий, который можно было бы назвать принципом рационализма, предполагает неукоснительное следование правилам логики и методологии науки [15]. Здесь из предметов общекультурного блока особое значение имеют логика (как раздел математики) и философия.
Наконец, А.А. Зиновьев выделяет для социальных наук еще один принцип – объективной беспристрастности [16]. Здесь, однако, с ним можно серьезно поспорить. О необходимости беспристрастности в социальных науках говорили давно. Еще римский историк I в. н. э. К. Тацит утверждал, например, ту же историю римского общества необходимо писать «без гнева и пристрастия». Но сам он был не беспристрастен, когда давал свои оценки происходившим событиям. Его научность заключалась, на наш взгляд, не в отчуждении эмоциональных оценок, а в стремлении к всестороннему рассмотрению предмета, в научной честности, заставляющей не замалчивать те факты, которые противоречат собственным оценкам людей и событий. Воспитание такой «беспристрастности», конечно же, является одной из важнейших задач преподавания гуманитарных предметов общекультурного блока. Но это отнюдь не требует отказа от эмоций и от собственных точек зрения.
Здесь мы приходим к выводу, что познавательный и социальный аспекты формирования мотивации учащегося неразрывно связующим звеном выступает коммуникативная компетенция. Формирование научного подхода априорно предполагает умение вести научный дискурс (возникает только на основе деятельности). Поэтому введение элементов деятельностного подхода в форме различных (в том числе игровых) дискурсов является необходимой частью подготовки специалиста в рамках изучения предметов общекультурного блока. Именно на основе прямого и косвенного обращения к научному дискурсу можно прийти к формированию обобщенных способов действий по решению определенного класса задач, что и является главным результатом обучения с позиции деятельностной теории [17]. На этой основе как раз и происходит соединения знаний и умений в рамках компетенций, представляющих из себя интегративное психическое образование [18]. Здесь свое применение находят и традиционная лекционно-семинарская система, и групповая работа по разработке обобщенного способа действий, и внутригрупповые и межгрупповые дискуссии, и конечная рефлексия деятельности, и игровые формы обучения [19].
Таким образом, можно сказать, что понимание целей преподавания в высшей школе предметов общекультурного блока буквально на наших глазах совершит диалектический круг в своем развитии в соответствии с законом «отрицания отрицания». Целью вновь становится подготовка носителей и проводников частичных рационализаций и модернизаций, творчески осуществляемых на основе подведения единичного под общий принцип разума. Но теперь перед нами не узкое квазисословие «интеллигенция», а весьма широкие социальные слои. Это как раз и требует разработки новых методик достижения обозначенной цели, учитывающих социальную составляющую различных видов рационализации в рамках общества как интегративного целого. Век классического капиталистического индивидуализма (при всех своих выдающихся свершениях) все более исчерпывает себя. Каким будет будущее, зависит от нас, так как каждый сам выбирает стратегические цели своей деятельности.
Современные образовательные стандарты в большей степени направлены на подготовку узких специалистов. Как сделать современных выпускников вузов образованными и социально ответственными людьми, в этом и состоит важнейшая проблема педагогики высшей школы. Одним из путей решения этой проблемы как раз и является применение деятельностного подхода.
Ссылки:
-
1. Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006.
-
2. Бакшиева Э.П., Ворнова Н.А., Худенева М.Г. Деятельностный подход в профессиональной подготовке будущего специалиста // Вестник Сургутского гос. пед. ун-та. 2010. № 4 (11). С. 49–59.
-
3. Барбакова К.Г., Мансуров В.А. Проблема повседневности и поиски альтернативной теории социологии // ФРГ глазами западногерманских социологов: техника – интеллектуалы – культура. М., 1989.
-
4. Там же. С. 117–118.
-
5. Там же. С. 119–120.
-
6. Там же. С. 123–124.
-
7. Там же. С. 130–131.
-
8. Там же. С.131.
-
9. Тамже.
-
10. Там же. С.133.
-
11. Зиновьев А.А. Указ. соч. С. 217.
-
12. Бакшиева Э.П., Ворнова Н.А., Худенева М.Г. Указ. соч. С. 52.
-
13. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М., 2000.
-
14. Там же. С.39.
-
15. Там же. С.40.
-
16. Там же. С.36.
-
17. Бакшиева Э.П., Ворнова Н.А., Худенева М.Г. Указ. соч. С. 52.
-
18. Там же. С.53.
-
19. Там же. С. 54–56.