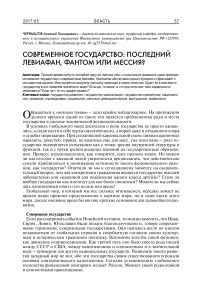Современное государство: последний левиафан, фантом или мессия?
Автор: Чернышов Алексей Геннадиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
Пришло время копнуть поглубже одну из «вечных тем» и попытаться привязать наше прежнее понимание государства к современным реалиям. Нынешняя обстановка крушит кумиров и сбрасывает с постаментов идолов. Мир пытается нащупать тропинку перехода в новое качество. Будет ли в нем место государству в его прежнем значении и виде? Если да, то какое, и что при этом все-таки кардинально поменяется? Если нет, то что придет взамен?
Государство развития, государство-цивилизация, государство суверенное, национальное, правовое, справедливое, социальное, светское, демократическое, виртуальное, мафиозное
Короткий адрес: https://sciup.org/170168802
IDR: 170168802
Текст научной статьи Современное государство: последний левиафан, фантом или мессия?
О бращаться к «вечным темам» – дело крайне неблагодарное. На протяжении долгого времени одной из таких тем является проблематика роли и места государства в системе человеческой жизнедеятельности.
В условиях глобального мира дискуссии о роли государства не просто оживились, а стали нести в себе черты ожесточенного, а порой даже и отчаянного спора о судьбах мироздания. При сегодняшней кардинальной смене цивилизационных парадигм, зачастую, правда, не видимых еще для масс, уже ясно одно – роль государства подвергается испытанию как с точки зрения внутренней структуры и функций, так и с точки зрения внешних влияний на государственные образования. Процесс переосмысления, как говорится, идет полным ходом. Но можем ли мы сегодня с высокой долей уверенности предполагать, что действительно сумели приблизиться к пониманию истинности такого феноменального явления, как государство? Ответили ли мы к сегодняшнему моменту на сакраментальный вопрос, чем для конкретного гражданина является государство: высшей добродетелью или «машиной для подавления одного класса другим»? Стало ли вообще государство как институт для нас более понятным? Можем ли мы сейчас дать однозначный ответ о его пользе или вреде?
Глобальный мир, в который мы все сильнее втягиваемся, нередко ломает не просто наши прежние представления о картине мира, но и сами части этого мира, доселе имевшие вроде бы вполне крепкие основания для дальнейшего развития.
Суверенное государство
Если рассматривать события Новейшей истории, то можно заметить, что Ирак, Сирия, Ливия, Югославия были вполне благополучными и, говоря современными терминами, суверенными государствами. Они пытались вести во многом независимую от глобальных игроков и самобытную согласно своим культурным и историческим традициям политику. Вспомним хотя бы такой феномен, как движение неприсоединения. Как третий путь оно было своего рода нишей между СССР и США, между капитализмом и социализмом и в значительной мере – примером для других национальных государств. Позволить такого развития западный мир не мог, ибо эти государства своим существованием угрожали основам олигархического капитализма. Сегодня установлению глобального господства финансовой олигархии мешает Россия. Мешает своей родословной и ценностными ориентациями.
В условиях нарастающей бифуркации современного мира мы как-то незаметно перенесли центр тяжести в оценке реального суверенитета на внешний контур. События последних десятилетий, казалось, убедили не только проницательного гражданина, разбирающегося в политике, но и рядового обывателя в том, что можно практически безнаказанно, попирая нормы международного права, бомбить суверенное государство или отправить целую «бурю» в пустыню, чтобы сломить сопротивление законно избранной власти. Можно вообще устроить публичную казнь руководителя государства и показать видео по медиаканалам мира в назидание другим. Можно своей вероломной политикой проложить дорогу созданию на основе ряда бывших суверенных государств такого феномена, как квазиисламское государство, курируемое ИГИЛ1. Значит, чтобы оставаться суверенными, нужно либо уметь защищать свою свободу, либо договориться с более сильным игроком на мировой арене, который тебя прикроет, предоставит «крышу»? Но тогда возникает резонный вопрос: а насколько такой дарованный суверенитет окажется реальным?
Есть насущная потребность в том, чтобы понятие «суверенное государство» было привязано к нынешней ситуации. В выстраиваемых нами реалиях современное суверенное государство – это не просто констатация того, что данное государственное образование обладает свойством самостоятельно и независимо от других государств осуществлять присущие ему функции на определенной территории и за ее пределами с учетом своих национальных интересов, невзирая, что называется, на лица. Однако такую модель во все более взаимопроникающем мире в «чистом» виде уже трудно себе представить. Но это вполне предметное понимание того, что государство, претендующее на то, чтобы называться суверенным, должно себя защитить, четко позиционировать для других свою волю, ценностную парадигму и ответственность за судьбы развития мировых процессов в созидательном русле.
В противном случае «голая» констатация своего суверенного развития будет на деле означать лишь попытку выдать желаемое за действительное. Это когда «альтернативой самостоятельному сценарию развития является полная сдача суверенитета на аутсорсинг в обмен на процент от доходов глобальной управляющей компании...» [Крутаков 2017]. А если рухнет доллар, падут и многие «суверенные» государства. И никакая культура, никакая армия этому не помогут.
Нужно особо подчеркнуть, что при оценке степени подлинной суверенности того или иного государства многократно возрастает роль того, насколько правящая национальная элита реализует волю и архетипы своего народа, используя реально выстроенную и работающую демократическую систему управления . В противном случае формально суверенные образования могут оказаться квазигосударствами, лишенными внутренней потенции и энергетического потенциала развития. Иными словами, только через настоящий, а не мнимый суверенитет могут быть действительно реализованы национальные интересы. А это означает необходимость переоценки роли и значения национального государства.
Национальное государство
Национальное государство, или государство-нация, хоть и звучит на слух в качестве доминанты какой-то национальности или конкретного народа, на самом деле по сути своей в современном своем звучании представляет собой совсем другое. Оно, на мой взгляд, отражает высший тип государства, которое сумело выстроить на определенной территории единство ценностных ориента- ций, языка и культуры вне зависимости от конкретной национальности граждан, его населяющих. И в этом смысле Россия, где на огромных территориях свободно говорят на великом, могучем русском языке, являет собой такое уникальное явление, как национальное государство и одновременно попытку в недалеком прошлом выстроить государство наднациональное. В условиях Советского Союза была предпринята попытка сцементировать государство на сверхнациональном уровне (советский народ). В наши дни реализуется дилемма между аморфным пониманием «россиян» и многонациональной русской цивилизацией, имеющей все предпосылки для единого понимания своей цивилизационной роли. Как представляется, самое важное сейчас – сохранить ядро нации, осмыслить феномен существования и развития многонационального русского государства. Другое дело, что истинная элита страны должна сформировать четкий фундамент такого формата развития и двигать корабль избранным курсом, не допуская качки, разброда и шатаний из стороны в сторону, защищая системным и разумным образом национальные интересы от сепаратизма и распада.
Главная драма русской жизни – это пропасть между человеком и государством. Это тот самый «загон», о котором так ярко и убедительно написал непревзойденный Николай Лесков1 в своем одноименном произведении, – пространство угнетения и пренебрежения личностью, которое формировало столетия и продолжает умело выстраивать собственная же власть, желая держать свой народ в узде и «на коротком поводке». И тогда оказывается, что русская нация – это лишь некая мало кем понимая миссия? Народ есть, а нации нет. Нет своего, нет своих, нет ощущения дома. Нет хозяина. Государство чужое, а хозяина нет2. Российский парадокс: «Чужим мир волим, а своим давим...»3.
Американский «плавильный котел» на самом деле являет миру совершенно не национальное по своей основе государство, сотканное из отдельных национальных лоскутков платье. Более того, роль внутренних анклавов и национальных диаспор продолжает расти.
Избранный президентом США в январе 2017 г. Дональд Трамп в срочном порядке издает указы о строительстве стены на границе с Мексикой и об ограничении миграции из ряда восточных стран.
Тенденции современного развития, которые все активнее проявляют себя, – это обратный процесс поиска народами собственной идентичности, определения своей принадлежности к тому или иному роду-племени, поиск своих настоящих корней и родословной. А значит, государство, претендующее на определенные позиции в мировой «Табели о рангах», обязано не просто поддерживать внутри себя некий статус-кво между различными народами и их ценностными ориентациями, но и укреплять ядро нации всеми возможными способами. Только в этом случае национальное государство сможет в системном смысле противостоять глобалистским тенденциям по перемешиванию всего мира здесь и сразу. Этого можно добиться в случае следования своим собственным многовековым традициям с учетом современных реалий.
В свое время русский философ И.А. Ильин вполне системно обосновал две основные модели государств – государство-учреждение и государство-корпорацию [Ильин 2007]. Но сегодня, вне зависимости от национальных традиций того или иного государственного образования, навязывается единая для всех модель мировой транснациональной корпорации. Интересы ее не укла- дываются в границы конкретного национального государства. А раз так, то это означает, что корпорация глобального тоталитарного типа игнорирует букву и дух формирования конкретного государства, пытаясь «разорвать» его на части, сделать придатком своего «естественно» расширяющегося и переходящего через границы бизнес-интереса. А коли интересы международных бизнес-групп порой проистекают из крышевания их интересов со стороны конкретных национальных политических институтов и политиков, то и само это глобальное объединение интересов транснационального бизнеса и местной власти происходит в верхней, «заоблачной», т.е. отрешенной от «грешной земли», субстанции, вне граждан и их насущных интересов.
Чтобы сохранить свое национальное государство и выставить заслон хищнической политике финансовых монстров, объединение граждан в нынешних условиях диктует потребность в межгосударственном объединении, в развитии системы солидарного развития на горизонтальном уровне – в новом гражданском Коминтерне (в противовес Финкоминтерну), построенному не на несбыточной идеологии коммунизма, а на принципах нравственно-духовного и культурного развития.
Это становится особенно важным в условиях нарастания миграционных процессов, при которых огромные волны людей в силу разных обстоятельств срываются со своих мест и перемещаются на чужие территории. Способность национальных государств принять и ассимилировать потоки беженцев и вынужденных переселенцев, обращая их в свою веру и ценностные ориентации, – чрезвычайно сложная, но требующая своего решения задача современного национального государства, претендующего на сохранение себя в будущем в качестве самостоятельного субъекта права.
Задача транснациональных компаний и иных «мировых» штабов и центров – всего того, что условно именуется мировым правительством, – согнать с насиженных мест народы, оторвать от корневой системы, перемешать их между собой, сформировать устойчивый алгоритм «управляемого хаоса» и уже в этом формате укреплять доминирующее положение над «негражданами», т.е. над теми, кто по собственной или чужой воле лишился своего отечества и на чужих берегах не имеет возможности обрести все положенные ему полноценные гражданские права.
Правовое государство
Дискуссия о реальности существования такого явления, как правовое государство, чрезвычайно актуальна. Она требует ответить на вопрос о векторе возможного дальнейшего развития как собственно государственных образований, так и общества в целом. В связи с этим возникает потребность дать ответ и свою интерпретацию ряда существенных проблем.
-
1. Идеал, утопия и реальность существования правового государства. Реальность означает, что нужны конкретные примеры государств и их типизация по определенным характеристикам. Утопично-идеальный образ, который существует лишь в головах ученых и участников теоретических дискуссий как один из возможных вариантов развития в будущем, невозможно перевести в практическое русло, если для этого нет реальных оснований.
-
2. Если в понятие «правовое государство» априори вкладывается мысль о верховенстве закона, то нужно понимать, какого закона (законов) и, собственно, над чем, над кем? Современная практика показывает, что законы зачастую пишутся не в интересах всего общества и защиты прав граждан. Они создаются, как правило, в качестве проявления чьих-то клановых, корпоративных и иных интересов. Но в таком случае насколько подобный подход позволяет говорить о том,
-
3. Важно провести четкие различия между формально существующими государствами с точки зрения наличия и функционирования на их территории конкретных законов и реальным мафиозно-клановым вариантом их исполнения. Это когда вне существующих правовых норм действуют значительные пласты жизни, конкретные субъекты и даже институты. С основами таких «правовых государств» вполне мирно уживается деятельность «телефонно-денежного права», а закон правящих кланов выступает вместо права закона1. В этом случае булгаковский персонаж из «Собачьего сердца» Шариков, действующий от имени государства, уверен в силе револьвера как права силы. Профессор же Преображенский надеется от того же самого государства получить защитную грамоту от посягательств «революционного элемента».
-
4. Государство правовое с точки зрения какого именно права: международного или национального? Это чрезвычайно важно для современного развития событий, когда лодка политики качается между приоритетом международного права над национальным, и, наоборот, ставится на повестку дня вопрос о возможности неисполнения международных правовых норм при определенных условиях.
-
5. Коль скоро речь ведется вообще о праве как таковом, важно оценить роль нравственного императива. В нынешнем формате понимания «правового государства» он как бы отсутствует. И оказывается, что закон превращается в некий жупел, защищающий своим «мечом» лишь избранных. Большинство же вынуждено плыть в узком коридоре ограниченных возможностей.
что: а) формируется общее правовое поле для всех без исключения, без изъятия («Закон что дышло») и б) можем ли мы вообще ставить вопрос о подчинении и исполнении гражданами всей совокупности законов, которые вводятся в повседневный оборот группой лиц и далеко не всегда отражают интересы большинства («Неисполнение законов – норма жизни»)? При этом граждане, попадая в такое правовое прокрустово ложе, сами по себе шагу не могут шагнуть без «приводного ремня» – государственной машины.
По мнению российских исследователей Федора Вестова и Ольги Фаст, проблема заключается в том, что и политологи, и юристы в своем понимании «правильности» переустройства нашего государства не идут дальше рецептов, выписанных политике западной политической и правовой мыслью прошлых столетий. Юристы убеждены, что для исправления государства достаточно исправить законы. Политологи же считают необходимым исправление вместе с законами всей системы функционирования административных институтов и, главное, их отношений с общественными институтами. Дальше этого отечественная теоретическая мысль не движется [Вестов, Фаст 2015].
Другой российский ученый Роальд Матвеев еще более категоричен в своих заключениях, считая, что рассуждения о важной роли правового государства фактически обосновывают ненужность государства как такового. Дело дошло до того, что во многих официальных документах Евросоюза термин «государство» применяется только по отношению к США и некоторым членам ЕС. Другие же государства называются «неуправляемыми территориями» или «юридическими пространствами». Здесь верховное «законотворчество» принадлежит Еврокомиссии, издающей обязательные для всех национальных государственных институтов директивы.
Такова, по мнению автора, природа тупика в вопросах правового государства, в который развитие европейской юридической и политической либеральной мысли завело мысль отечественную.
Российские правоведы вполне естественно выводят данную проблематику на международный уровень, отмечая, что «проблема соотношения права и силы является стержневой для всей мировой правовой мысли и практики» [Зорькин 2015]. При этом подчеркивают, что «наибольшая опасность беззакония проявляется в сфере международных правовых отношений»1.
Таким образом, выдвигая на повестку дня такое красивое и модное понятие, как «правовое государство», мы должны четко представлять, какие из существующих в реальности государственных образований можно подвести под это определение, а какие нет, и почему. Не является ли порой выпячивание правового императива лишь обоснованием своих внеэтических поступков, собственных культурных и иных доминант? И вообще, где реальные модели функционирования подобных государств, с которых другие, оказывается, обязаны брать пример для подражания?
Конкретного гражданина в большей степени интересует не груда постоянно генерирующихся законов, которые к тому же написаны порой эзоповским или казенно-чиновничьим языком и нередко обременяют человека дополнительными путами. Для него важнее всего формирование таких правил человеческого общежития, в рамках которых, соблюдая законные нормы, он мог бы комфортно жить и творить .
Справедливое социальное государство
В понимании большинства граждан, равно как и значительного числа ученых и экспертов, справедливое социальное государство – это действительно некий особый тип современного государства, который мог бы претендовать на то, чтобы стать образцом. Тем не менее вновь возникает множество препятствий на пути того, чтобы выбрать подобный формат для подражания и копирования как типовую модель.
Закономерен вопрос: что в данном случае должно быть главным – справедливое перераспределение материальных благ между гражданами, поддержание гражданского мира или что-то еще? Возьмем для примера Германию. Ведь именно с немецкого теоретического фундамента понятие социального государства ( Sozialstaat ) обрело такое емкое и громкое звучание. Действительно, ФРГ – высокоразвитая с точки зрения политических институтов и технологий страна. Однако политика мультикультурности, проводимая национальной властью в последнее десятилетие, привела к тому, что положение коренного населения относительно прибывающих из других стран мигрантов значительно изменилось. И нельзя сказать, что государственная власть не соблюдала принципа социальной справедливости ради достижения определенной гармонии. Но «подкормка» приезжих привела к сегментации и поляризации самого немецкого общества. Более того, внутри объединенной Германии восточные земли так и остались обделенными в получении равного национального «пирога». Таким образом, в этом формате существования государства какие-то практики явно не срабатывают.
Можно попытаться взять за образец модель «шведского социализма». Но насколько можно перенести ее в качестве образца для подражания в другие страны, особенно не следующие сегодня в фарватере западной цивилизации? Вряд ли получится применить «шведские рецепты» в современном Афганистане и Китае, Индии и даже Сингапуре. Все это дает возможность утверждать, что, во-первых, решение проблемы социальной защищенности, да еще в конкретной интерпретации ее властью, – недостаточное условие для формирования подлинно справедливого государства. Во-вторых, желание двигаться в направлении солидарного развития, согражданства вне зависимости от имущественного и иного ценза требует очень высокого уровня самосознания как самих граждан, так и власти, равно как и способности населения противостоять попыткам властных структур лишить их надежды на создание модели социального мира в настоящем, обещая лучшую жизнь лишь в отдаленном будущем.
В этой связи возникает целый ряд важных вопросов. Правомерно ли сегодня говорить о том, что граждане могут, в т.ч. с использованием выборных процедур, напрямую влиять на власть, отстаивая собственную точку зрения? И насколько властная элита готова поступиться собственными интересами во имя защиты национальных, культурных традиций, ради тех ценностных ориентаций граждан, которые расходятся с представлениями самой элиты о современном гражданском мире и роли в этом процессе государственных структур? Ведь ни для кого не секрет, что как только права граждан попираются с помощью различных избирательных технологий, а сами выборы проводятся в режиме спецопе-рации [Чернышов 2016] по обеспечению нужного результата голосования, на свет появляются миллионы несостоявшихся избирателей, у которых фактически отнимают право голоса и возможность стать ответственными членами общества. И вообще, если государство – лишь формально-бюрократическая надстройка над гражданами, то это не что иное, как анахронизм.
Такие «неграждане» в собственной стране лишаются государством права быть самими собой. Как только государство в лице своих властных представителей начинает рассматривать подданных исключительно как налогоплательщиков, гражданин заканчивается. В итоге современное государство зачастую оказывается носителем одних лишь внешних, формальных атрибутов.
Полезность и справедливость государства должна состоять в развитии именно домашних хозяйств, ибо экономика и означает дословно «искусство управления домашним хозяйством», а не использование ресурсной или финансовой ренты, чтобы посадить всех остальных членов общества на ростовщический кредит. Если государство лишится своей «святости» и полезности, оно отомрет. И об этом все решительнее говорят ученые и эксперты [Фурсов 2017].
Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И вакуум, если таковой образуется, должен быть чем-то заполнен. Вот и развилка у дороги: или современное государство найдет в себе силы на новую добродетель, или погрязнет в ростовщической каморке. И если государство не справится со своей ролью института развития, то граждане обязаны сами выстроить глобальный гражданский экспертный форум и повести цивилизацию за собой в будущее.
В 1917 г. большевикам удалось сыграть на главных струнах русского народа – неизбывной жажде социальной справедливости, неприятии основной народной массой колоссального социального расслоения [Пыжиков 2016]. Существовавшее тогда государство почило в бозе, и власть ушла в небытие.
Мафиозное государство
На каждом шагу мы рассуждаем сегодня о необходимости пестования демократических элементов управления. На деле же приходится сталкиваться с парадоксом, связанным с мафиозными проявлениями в деятельности самого государства. Конечно, ту самую классическую мафию, некую коза ностру по сицилийскому образцу, можно и не обнаружить. Но это вовсе не означает, что мафия ушла из нашей жизни. Мысль Марио Пьюзо, что «мафия бессмертна», сама по себе не нова. Важнейшая функция государства – противодействовать проявле- ниям преступных сообществ и защищать рядовых граждан от посягательств бандитских элементов. Но парадокс в другом. С одной стороны, следуя логике того же Марио Пьюзо, когда справедливость не могут получить от государства, то за ней (читай – защитой) вынуждены идти к мафии. С другой стороны, само государство приобретает черты мафиозного образования.
Из самого определения мафии вытекает, что это организованная группа людей, тайно и преступно действующая в своих интересах. При этом внешне все может выглядеть вполне благопристойно. Советское представление всего общества в качестве семьи и «семья» как элемент решения под государственной крышей своих личных интересов – это кардинальная смена парадигмы развития государственных институтов. А если к тому же представить, что сама вертикаль власти фактически формирует вертикаль коррупции, криминальные авторитеты цементируют государственное управление1, то можно себе представить, какую внутреннюю слабость и дряхлость приобретает в своей сердцевине государственное образование.
Государство и мафия
Государство-мафия, или мафиозное государство [Hungarian Octopus… 2013] – это сращивание властных и преступных институтов и структур в формате сиамских близнецов. Как их разделить, если одна половина уже нежизнеспособна без другой? Хирургическое вмешательство не поможет. Нужно заново строить государство, на новых принципах, с учетом развития гражданского общества по горизонтали. Причем все сильнее в наш глобальный век пробивает себе дорогу тенденция, которая свидетельствует, что сейчас важнее становятся горизонтальные связи между гражданами разных стран, вне государственных границ. Это порой нужное противоядие против той самой «национальной» собственной власти, которая утрачивает идентичность и жаждет всеми фибрами своей души превратиться в филиал «мирового правительства» и «мировой мафии» [Овчин-ский 2016].
Противоречие между национальными интересами и интересами групп влияния (под прикрытием национальных интересов) нарастает сегодня в геометрической прогрессии и должно получить свой логичный выход. К примеру, для современной экономики России очень важны дешевые и длинные деньги. Но если не закрыть каналы утечки капитала, то отечественный производитель их никогда не получит. Власть же, как мантру, повторяет из раза в раз, что государство не будет накладывать никаких ограничений на движение капитала через границу. Сами государственные институты по большей части своей дрейфуют в сторону создания охранителей разных «мировых» мафий: сахарной, майонезной, алкогольной, фармацевтической, компьютерно-игровой, онлайн-образовательной и пр., у которых все больше будет прирастать реальной власти, а не официальной [Карышев 2015]. В таких условиях возникает резонный вопрос о перспективах существования самого института государства.
Государство как ценность
Как мы уже говорили, единого понятия «государство» не существует ни в науке, ни в международном праве, ни в текущей внутренней политической деятельности конкретной страны. И в этом заключается большая проблема. Современные политики используют понимание государственной системы управления исключительно как системы принуждения людей на вверенной им территории. А граждане верят в другое предназначение государства. И ученые пытаются осмыслить религиозные, этические, юридические, эстетические ценности государства [Жуков 2009].
Обратимся к базовому, родовому понятию государства, считая его становым институтом определенной системы, институтом развития. Не всепожирающей гидрой, не монстром и Левиафаном, который пытается подчинить себе все пространство. Получается, что роль государства заключается в организации социума, имеющего единые обобщенные интересы на конкретной территории. Государство – это возможность способствовать самоорганизации людей, развитию самоуправления. На деле же все или почти все существующие определения государства, равно как и реальная практика, являются определениями государственной власти. То есть, ни о каком благодеянии, о котором писали Платон и Аристотель, равно как и другие мыслители, считая, что оно в основе своей должно нести идеи справедливости, речи подчас и нет. Тогда что же есть? А есть во многом подмена понятий, когда за ликом конкретного государства (читай – конкретных политических институтов и их акторов) скрывается малоприглядная картина давления меньшинства, получившего бразды правления в свои руки, над большинством. Это когда «от имени и по поручению» государства все решается однозначно в пользу лиц, в конкретный момент времени считающих себя государством, например, как сегодня, когда «власть не только пишет текст реальности, но и навязывает свою интерпретацию»1.
В настоящее время возникает насущная потребность разобраться с понятиями «страна» и «государство», с тем, какое государство с точки зрения ценностной, и прежде всего нравственной, составляющей в организации общества сегодня вообще нужно гражданам? Если вместо реального местного самоуправления навязывается, по сути дела, чиновничье самоуправление, а государственные институты превращаются в монопольно, безраздельно правящие структуры, то ни о какой созидательной роли государственных образований говорить не приходится. Разве что можно до поры до времени поддерживать шаткое равновесие в системе .
В условиях глобализации отличительной особенностью оптимальной стратегии государства должно стать то, что оно не подминает под себя общество, а все более тесно кооперируется с ним, делегируя часть своих полномочий местному самоуправлению и организациям гражданского общества. Чем больше глобализация, тем важнее фрагментация, учет интересов разных групп и отдельных интересов членов общества, тем важнее сохранить полутона, все оттенки.
Кто это может обеспечить? Элита общества – самая достойная и мудрая ее часть, которой вверяется право управлять всеми остальными и которая «должна блюсти и крепить авторитет государственной власти» [Ильин 2007: 10-11]. Справедливость государственной власти – власти высшего класса общества – обеспечивается отнюдь не мудрыми государственными институтами и прекрасными законами (которые все равно будут в силу разных причин нарушаться), а в большей степени духовно-нравственными скрепами. Функция современного государства, еще раз повторим эту мысль, не в том, чтобы кого-то подавлять или держать в узде, а чтобы обеспечить гражданам плацдарм для развития. Иными словами, важно сформировать модель государства развития и уйти от государства выживания. Запустить матрицу созидания, где общество само выбирает свои приоритеты, и тем самым отказаться от взращивания навязываемой будущей империи по типу «Звездных войн».
Архитектура насилия и подавления, конечно, более привлекательна и понятна для власти, но бесперспективна как для самих политиков, так и для государства в целом. Того самого государства, которое претендует на то, чтобы не по названию, а по внутренней сути нести в себе цивилизационные начала, государства-цивилизации, которое может предложить миру объединительную и значимую смысловую цель.
Сегодня в центре внимания находятся угрозы глобального порядка. Но если мы не можем организовать разумный и самоорганизующийся (не из-под палки и путем ручного управления) порядок на определенной территории, то как мы можем что-то предлагать в качестве панацеи для формирования глобального социума? Авторитарное государство приводит к нарушению органического характера внутренней социальной жизни и игнорированию реального опыта [Скотт 2010].
Государство в условиях бурного развития глобального мира должно стать другим, чтобы иметь возможности для поддержания именно локального и личного ареала обитания конкретного гражданина, или оно вымрет как когда-то динозавры. Статистика говорит, что урбанизация привела к тому, что число городских жителей превысило число жителей сельских. Но ведь нужно понимать и другое – а кто и как завтра будет выращивать для нас качественные продукты питания? Или нас уже не должен заботить тот факт, что подрастающее поколение может сгинуть в фастфуде?
В условиях развития виртуального общества граждане получили огромный ресурс погружения в информационное пространство, во что буквально вчера еще было невозможно поверить. Человек нырнул в этот океан. И что он там нашел? Формируется политика открытых правительств, по сути дела – открытого государства .
Передовые мыслители рисуют будущее общество с главенством меритократии, власти достойных, мудрых, общества знаний. И тому, вроде, есть все основания. Но на самом деле нас всех все крепче берет за горло общество потребления и государство потребления, которое освещает весь этот выбор. Тогда возникает сакраментальный вопрос, а куда мы, собственно, идем, и куда нас ведет такой «вечный двигатель», как государство? К равенству возможностей и формированию питательной среды для реализации способностей каждого или же к появлению очередного дракона, который всю мощь государства направит на сохранение своего доминирующего положения охранителя груды драгоценных металлов?
Список литературы Современное государство: последний левиафан, фантом или мессия?
- Вестов Ф.А., Фаст О.Ф. 2015. Правовое государство: теоретическое проектирование и современная политическая практика: монография (под ред. Н.И. Шестова). М.: Проспект. 256 с
- Жуков В.Н. 2009. Государство как ценность. -Государство и право. № 9. С. 14-26
- Зорькин В.Д. 2015. Право силы и сила права. -Российская газета. 28.05. Доступ: https://rg.ru/2015/05/28/zorkin-site.html
- Ильин И.А. 2007. Национальная Россия: наши задачи. М.: Алгоритм. 464 с
- Карышев В.М. 2015. Русская мафия 1991-2015. Полная история современной бандитской России. М.: Эксмо. 352 с
- Крутаков Л. 2017. Идет война валютная. -Совершенно секретно. №3/392, март. Доступ: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5659/
- Пыжиков А. 2016. Корни сталинского большевизма. М.: Аргументы недели. 384 с
- Овчинский В.С. 2016. Мафия: новые мировые тенденции. М.: Книжный мир. 384 с
- Скотт Дж. 2010. Благими намерениями государства. Почему и как провалились проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга. 576 с
- Фурсов А.И. Мир будущего. Доступ: http://worldcrisis.ru/crisis/2558871 (проверено 25.04.2017)
- Чернышов А.Г. 2016. Выборы как спецоперация. -Власть. № 5. С. 48-53
- Hungarian Octopus: The Post-Communist Mafia State (ed. by B. Magyar, Ju. Vasarhelyi). 2013. Noran Libro Kiado. 426 p