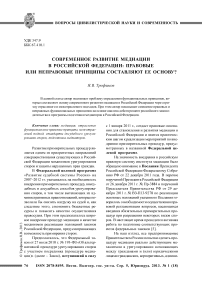Современное развитие медиации в Российской Федерации: правовые или неправовые принципы составляют ее основу?
Автор: Трофимов Ярослав Валерьевич
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы цивилистической науки и современность
Статья в выпуске: 1 (18), 2013 года.
Бесплатный доступ
В данной статье автор поднимает проблему определения функциональных принципов, которые составляют основу современного развития медиации в Российской Федерации через призму отраслевого и межотраслевого подходов. При этом автор показывает смешение правовых и неправовых функциональных принципов на основе анализа действующего российского законодательства и программы подготовки медиаторов в Российской Федерации.
Короткий адрес: https://sciup.org/14972948
IDR: 14972948 | УДК: 347.9
Текст научной статьи Современное развитие медиации в Российской Федерации: правовые или неправовые принципы составляют ее основу?
Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан.
В Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007–2012 гг. указывалось на необходимость внедрения примирительных процедур, внесудебных и досудебных способов урегулирования споров, в том числе вытекающих из административных правоотношений, которые позволили бы снизить нагрузку на судей и, как следствие этого, сэкономить бюджетные ресурсы и повысить качество осуществления правосудия. При этом предполагалось широкое внедрение процедур медиации в качестве механизмов реализации положений законов Российской Федерации, предусматривающих возможность примирения сторон.
Предполагалось, что Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон), вступивший в силу с 1 января 2011 г., создаст правовые основания для становления и развития медиации в Российской Федерации и явится практическим шагом к реализации мероприятий по внедрению примирительных процедур, предусмотренных в названной Федеральной целевой программе.
На значимость внедрения в российскую правовую систему института медиации было обращено внимание в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 года. В перечне поручений Президента Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № Пр-3884 и поручений Председателя Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № ВЗ-П13-9278 по реализации основных положений указанного Послания говорилось о необходимости осуществления правовой регламентации вопросов, касающихся введения обязательных примирительных процедур при разрешении некоторых видов споров. В настоящее время проводится активная работа по подготовке соответствующих проектов федеральных законов [5].
На наш взгляд, все предпринимаемые Правительством России попытки сделать процедуру медиации реально действующим механизмом в урегулировании возникающих между гражданами и (или) юридическими лицами гражданских, корпоративных, админи- стративных, семейных, трудовых и других споров обречены на неудачу, а сама процедура медиации останется только фактом российского законодательства, а не станет фактом действительности, то есть не будет применяться на практике. Считаем, что мнимый характер процедуры медиации, предусмотренной современным российским законодательством, обусловлен серьезными просчетами и ошибками законодателя, отсутствием у него четких представлений о правовой природе процедуры медиации и о том, каким образом ее следует внедрять в жизнь. Нежизнеспособность процедуры медиации как альтернативного способа урегулирования вышеперечисленных споров обусловлена следующими причинами: 1) на сегодняшний день законодатель так и не смог определиться с самим понятием «процедура медиации», ее сущностью и правовой природой. Чтобы убедиться в этом, достаточно задать два ключевых вопроса: 1) альтернативой чему является процедура медиации?; 2) что выступает в качестве регулятора проведения процедуры медиации и признает ли законодатель за этим регулятором обязательный нормативно-правовой характер или нет?
Если под правовыми условиями, основаниями правовой регламентации, становления, применения и развития процедуры медиации понимать исключительно механизмы реализации положений законов Российской Федерации, предусматривающих возможность примирения сторон, то о какой альтернативе и чему тогда идет речь?
Согласно логическому словарю-справочнику, под альтернативой (лат. alter – «одни из двух») следует понимать каждую из двух или нескольких исключающих друг друга возможностей, выбор между этими возможностями [3, с.33]. Все специалисты, которые на сегодняшний день пишут о медиации, рассматривают медиацию как альтернативу судам общей юрисдикции, арбитражным судам и третейским судам.
Полагаем, что это противоречит нашим этническим традициям и обычаям. «Медиа-торские» суды существовали и активно функционировали в XIX в. не только у народов, проживающих на Северном Кавказе, но и других народов, населявших Российскую Империю.
В частности, у донских казаков во второй половине XIX в. под «медиаторскими» судами понимались реально действующие третейские суды [4, с.18–23]. Таким образом, если под медиацией понимать третейское разбирательство, рассматриваемое как синонимичное понятие, то тогда не понятно, какую цель преследует попытка законодателя создать альтернативу третейскому разбирательству и является ли это вообще альтернативой (если это синонимы).
О том, что на сегодняшний день институт медиации по урегулированию споров успешно проводится именно в рамках третейского разбирательства, свидетельствует и уже имеющаяся судебная практика ее применения в сфере международного коммерческого арбитража [6, с.193]. Не случайно в своей справке о практике применения Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об-альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» прямо указывается, что в двух регионах – Нижегородской области и Республике Марий Эл – созданы постоянно действующие органы по внесудебному урегулированию споров с участием посредника (медиатора), коллегии посредников (медиаторов) при торгово-промышленных палатах [5].
Если под альтернативой понимать внесудебный и досудебный способы урегулирования споров, не имеющих никакого отношения к осуществлению правосудия, то тогда не понятно, почему медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, может быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном коммерческом арбитраже. Почему в подобных случаях медиативное соглашение не проверяется на соответствие правилам и стандартам проведения процедуры медиации, утвержденным организациями, осуществляющими профессиональную деятельность по ее проведению, о наличии которых прямо говорится в указанном федеральном законе?
Можно ли, исходя из положений данного специального федерального закона, утверждать, что правила и стандарты проведения процедуры медиации, профессиональной деятельности медиаторов, правила деловой и профессиональной этики медиаторов, в том числе Кодекс профессиональной этики медиаторов, имеют обязательный нормативно-правовой характер? В таком случае совершенно не понятно, идет ли речь о локальных нормативно-правовых актах или о сводах обычаев и других регуляторах, имеющих правовой или неправовой характер?
Возникает вопрос, к какому виду социального регулятора следует тогда отнести указанные правила и стандарты при введении обязательной медиации для разрешения некоторых видов споров?
Следом за перечисленными выше вопросами возникают еще очень важные для понимания самой сущности медиации вопросы о том, какой отраслью законодательства должна регулироваться медиация и какие принципы должны составлять основу ее осуществления.
Если законодатель считает, что медиативное соглашение представляет собой гражданско-правовую сделку, то почему тогда в ст. 3 Закона упоминаются принципы добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора?
Если медиация является одним из институтов гражданского права, то в статьях первой, девятой, десятой и других Гражданского кодекса Российской Федерации уже перечислены основные принципы частно-правового регулирования общественных отношений, такие, как: свобода договора, беспрепятственное осуществление гражданских прав и обязанностей, невмешательства кого-либо в частные дела, добросовестности, разумности, справедливости и другие, которыми следует руководствоваться сторонам, заключающим любые виды договоров, как предусмотренные ГК РФ, так и не предусмотренные им, но не противоречащие указанным принципам.
Налицо явное несовпадение указанных принципов с принципами проведения процедуры медиации.
Принципы проведения процедуры медиации не могут считаться и функциональными принципами гражданского и арбитражного процессуального права, перечисленными в ГПК РФ и АПК РФ, хотя само применение термина «процедура» должно предполагать наличие процессуальных норм. В частности, в гражданском процессуальном праве Российской Федерации выделяют такие функциональные правовые принципы, как: законность, гласность, состязательность, равноправие сторон, устность, равенство всех перед законом и судом, непрерывность, непосредственность и другие. Например, такой принцип проведения процедуры медиации, как конфиденциальность, прямо противоречит гражданско-процессуальному принципу гласности, открытости процесса для общества. Процессуальный принцип состязательности противоречит медиативному принципу сотрудничества.
При введении обязательной медиации для некоторых категорий дел происходит отрицание действия гражданско-правового принципа свободы договора.
Подобных примеров явных противоречий, заложенных законодателем, можно привести множество.
Такой гражданско-процессуальный функциональный принцип, как устность разбирательства, при осуществлении процедуры медиации явно противоречит необходимости заключения в обязательном порядке в письменной форме трех соглашений: соглашения о применении процедуры медиации, соглашения о проведении процедуры медиации и медиативного соглашения. Без указанных соглашений говорить о процедуре медиации уже будет нельзя, хотя традиционно большинство переговоров между сторонами и достижение ими какого-либо компромиссного решения производится в устной форме. Зачем законодателю так формализовать процедуру проведения медиации, если она по своей природе является неформальной процедурой? Можно согласиться с позицией В.В. Яркова о том, что медиация, как максимально мягкая процедура урегулирования конфликта, не нуждается в жестком правовом регулировании [8, с. 48].
Вместе с тем, по мнению В.В. Яркова, важны рамки процедур медиации, обеспечивающие разумный баланс интересов их участников и не создающие необоснованных преимуществ ни для кого из них. Предлагается ввести минимальные стандарты досудебного урегулирования споров, которые должны основываться на следующих пяти принципах:
-
1) соблюдение разумных сроков досудебного урегулирования, не препятствующих доступности судебной защиты;
-
2) право обратившегося лица получить ответ на обращение и право быть услышанным;
-
3) разумность и гибкость процедуры урегулирования конфликта, лишенной излишних процедурных формальностей и соблюдения обрядовых норм;
-
4) независимость и объективность лиц, осуществляющих посреднические функции и наличие гарантий такой независимости;
-
5) разумные расходы на оплату услуг таких лиц [8, с. 49].
На наш взгляд, данные принципы не носят правовой характер и не могут составлять основу проведения процедуры медиации, поскольку не раскрывают ее правовой природы.
Более того, если Правительство Российской Федерации планирует распространить медиацию на административные и трудовые отношения, то тогда возникает вопрос о согласовании принципов, указанных в Законе, с принципами, изложенными в КоАП РФ и ТК РФ, поскольку речь идет о регулировании не частных, а публичных общественных отношений, то есть отношений, основанных на власти и подчинении.
Из этого следует, что процедура медиации не рассматривается как единый, подчиняющийся принципам той или иной отрасли права институт, а представляет собой систему различных видов медиации: административной медиации, коммерческой медиации, трудовой медиации, семейной медиации, для которых должны существовать и должны быть разработаны собственные принципы регулирования. Будут ли они носить правовой или неправовой характер, зависит от законодателя и реальной цели, какую он пытается достичь, объединяя различные виды медиации.
Специалисты, которые занимаются проблемами медиации, на сегодняшний день выделяют следующие виды процедуры медиации: частная модель, которая не может реализовываться в деятельности юрисдикционных органов, и интегрированная медиация как специальная процедура и форма деятельности юрисдикционных органов (судов, нотариата, судебных приставов-исполнителей и т. д.), направленная на примирение сторон в рамках юридического процесса [1, с. 52]. Кроме того, специалисты говорят о необходимости существования коммерческой медиации, судебной медиации, обязательной медиации и других видах медиации. На наш взгляд, можно также выделить добровольную (договорную) медиацию и обязательную медиацию, профессиональную и непрофессиональную медиацию.
Законодатель планирует отнести к профессиональной медиации деятельность, осуществляемую адвокатами, нотариусами и судьями. Так, в проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности», подготовленном к обсуждению в Государственной Думе России, прямо указывается на осуществление нотариусами медиативной деятельности. Возникает закономерный вопрос: какими принципами, в таком случае, будут руководствоваться нотариусы, судьи и адвокаты, если в соответствии с Законом медиаторы, осуществляющие деятельность на профессиональной основе, могут входить в саморегулируемые организации, которые и занимаются разработкой стандартов и правил проведения процедуры медиации? При введении обязательной медиации медиаторам необходимо будет в обязательном порядке входить в саморегулируе-мую организацию. В связи с этим хотелось бы обратить внимание законодателя на то обстоятельство, что в проекте Федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности» прямо указывается, что нотариат строится на принципах не саморегулирования, а на принципах самоорганизации и, естественно, не обязан по закону входить ни в какую саморегулируемую организацию. То же самое можно сказать и об адвокатах.
После всего вышесказанного у нас возникает вполне закономерный вопрос о том, какой отраслью российского права регулируется процедура проведения медиации, если невозможно точно определить составляющие ее принципы? Можно ли в данном случае говорить о существовании некоей самостоятельной отрасли права, как бы абсурдно ни выглядело данное предположение? Оказывается, можно, к этому нас призывают ряд специалистов, занимающихся проблемами современного развития медиации в Российской Федерации. По мнению президента Национальной организации медиаторов, президента Центра медиации и права Ц.А. Шамликашвили, современное российское и зарубежное право развивается в направлении все большей гибкости, предоставляя гражданам наиболее адекватные способы защиты прав. Одной из самых значимых в этом смысле является хорошо разработанная концепция collaborative law (дословно – сотрудничающее право); наиболее адекватный перевод на русский язык – взаимопомогающее право [7, с. 156]. Это не единственный подход к определению правовой природы и сущности процедуры медиации. С точки зрения В.В. Яркова, уже сегодня можно конструировать самые разнообразные досудебные порядки урегулирования споров, основываясь на правиле, заложенном в ч. 5 ст. 4 АПК РФ [8, с. 49].
Л.И. Зайцева считает, что в мировой практике существуют несколько форм и способов проведения медиации и посредничества. Закон о медиации предусматривает только самую простую форму альтернативного урегулирования споров [2, с. 73].
Г.Ю. Федосеева, на основе изучения опыта применения процедуры медиации в странах Запада, также говорит о построении различных моделей медиации и о развитии параллельной судебной несудебной системы по урегулированию споров [6, с. 193–194].
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вполне обоснованный вывод: на сегодняшний день ни у законодателя, ни у специалистов, занимающихся подготовкой медиаторов в Российской Федерации, нет никакого четкого представления о том, что представ- ляет собой на самом деле медиация, какие функциональные принципы должны составлять ее основу и какие из них являются правовыми, а какие можно отнести к морали, нравственности и другим неправовым принципам.
Список литературы Современное развитие медиации в Российской Федерации: правовые или неправовые принципы составляют ее основу?
- Загайнова, С. К. О комплексном подходе к развитию медиации в России/С.К. Загайнова//Закон. -2012. -№ 3.
- Зайцева, Л. И. Перспективы применения процедуры медиации в арбитражных судах Российской Федерации/Л. И. Зайцева//Закон. -2012. -№ 3.
- Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник/Н.И. Кондаков. -М., 1975.
- Краснов, С. Ю. Обычные суды в станицах и хуторах Области войска Донского во второй половине XIX века/С. Ю. Краснов//Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экономика. Право. -1997. -Вып. 2.
- Справка о практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (утв. Президиумом Верховного Суда 6 июня 2012 г.). -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». -Опубликована не была.
- Федосеева, Г. Ю. Медиация в семейный спорах как инструмент реализации права ребенка на общение с обоими родителями/Г. Ю. Федосеева//Закон. -2010. -№ 2.
- Шамликашвили, Ц. А. Взаимопомогающее право/Ц. А. Шамликашвили//Закон. -2012. -№ 5.
- Ярков, В. В. Минимальные стандарты досудебного урегулирования и примирительных процедур (постановка вопроса)/В. В. Ярков//Закон. -2012. -№ 3.