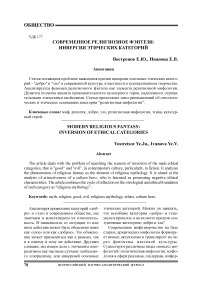Современное религиозное фэнтези: инверсия этических категорий
Автор: Вострецов Е.Ю., Иванова Е.В.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Общество
Статья в выпуске: 3 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме выяснения причин инверсии основных этических категорий - "добро" и "зло" в современной культуре, в частности в художественном творчестве. Анализируется феномен религиозного фэнтези как элемента религиозной мифологии. Делается попытка анализа привлекательности культурного героя, наделенного отрицательными этическими свойствами. Статья продолжает цикл размышлений об онтологических и этических основаниях категории "религиозная мифология".
Миф, религия, добро, зло, религиозная мифология, этика, культурный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/14214693
IDR: 14214693 | УДК: 177
Текст научной статьи Современное религиозное фэнтези: инверсия этических категорий
Анализируя проявление категорий «добро» и «зло» в современном обществе, мы замечаем и констатируем их относительность. В зависимости от ситуации то или иное действие может быть объяснено нами как «злое» или как «доброе». Это объяснение может применяться как к разным, так и к одному и тому же действию. Другими словами, мы имеем дело с этическим плюрализмом как частным случаем глобального плюрализма, или инверсией основных этических категорий. Можно ли заявлять, что всеобщие категории «добра» и «зла» ушли в прошлое, а на их место пришли «ситуативные категории» добра и зла?
Современное мифотворчество на базе старых, архаических мифологем формирует новые, актуальные и транслирует их через феномены массовой культуры. Cуществуют различные виды «новых» мифологий: политическая мифология, мифология в сфере рекламы, гендерная, инфор- мационная мифология. В отличие от архаики, для современного человека мифологическое видение мира далеко не универсально, однако в условиях современной социальной повседневности обращенность к мифическому становится особо востребованной. Чем сложнее ситуация личного бытия, тем острее может быть ощущение бессмысленности и абсурда индивидуальных возможностей и страх перед погружением в неподвластную человеку стихию действительности. Мифотворчество способствует освобождению современного человека от его страхов, от боязни хаоса, реализует его стремление к совершенству, его утопические чаяния. Простота и схематизм мифа обеспечивают ясность, предсказуемость, психологический комфорт.
Поэтому не случайным является и обращенность к религиозному мифу. Основными его характеристиками являются следующие:
-
1) религиозный миф позволяет упростить реальность и существующее в ней множество противоречий свести к простейшей формуле борьбы Добра со Злом;
-
2) в религиозном мифе мир понятен и полностью познан, благодаря чему обретается чувство гармонии с миром;
-
3) религиозный миф избавляет людей от страха перед реальностью, ориентирует не на сегодняшнее настоящее, а на будущее улучшение [3, с. 58].
Структура религиозного мифа может включать в себя волшебные сказки, эсхатологические мифы, религиозное фэнтези и т.д. Также в контексте нашего нарративного исследования определим, что каждый из перечисленных элементов имеет определенный набор мифем («функций» по В.Я. Проппу) как строгий алгоритм повествования.
Фэнтези - это жанр фантастической литературы, появившийся в начале XX века и основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. Произведения фэнтези чаще всего напоминают историко- приключенческий роман, действие которого происходит в вымышленном мире, близком к реальному, но наполненному сверхъестественными явлениями и существами. В таких мирах существует своя история, в них обитают вымышленные или заимствованные из мифологии существа. Одной из ми-фем фэнтези, составляющей ее сюжетообразующий и смыслообразующий стержень, является противопоставление добра и зла. Часто конфликт между добром и злом замаскирован под конфликт между различными видами добра или несогласие со способами достижения добра. Противопоставление добра и зла присутствует и в волшебной сказке, где добро побеждает зло. Именно в сказках, особенно в волшебных, присутствует «абсолютно добрый, положительный герой» и «абсолютный злодей», поэтому сказка с древнейших времен несет в себе воспитательные функции подражания добрым поступкам и осуждения злых. Однако фэнтези отличается от «евкатастрофично-сти» сказки. Зло и добро в ней равнозначны, а в сказке добро побеждает.
Из всех видов фэнтези (героического, эпического, исторического, феминистического и пр.) остановимся в своем анализе на таком виде, как «религиозное фэнтези». Его специфика заключается в обращенности к сверхъестественным героям, присутствующим в инфернальной религиозной мифологии (ведьмам, гномам, вампирам и пр.). При этом авторы, которые творят эти фэнтезийные миры, не отрицают своей конфессиональной принадлежности, более того, она определяет события и поступки героев. Например, в творении С. Майер сумеречного мира присутствуют признаки принадлежности этого автора к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это «брак с умершим», «сны-видения Беллы», «запечатление» [4, с. 199-200].
«Хроники Нарнии» К.С. Люиса и «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена имели своей целью через христианские символы создать новый мир, понятный ребенку, а также неверующему или ищущему, независимо от его возраста. Также можно отметить, что часто автор религиозного фэнтези обращается к построению пространства фэнтезийного текста с точки зрения решения секулярных задач, но с применением размышлений своего религиозного опыта, иногда личного. Поэтому его фэнтезийный мир отличается от традиционных религиозных констант и догм, он обладает большей гибкостью этических оценок и норм, в нем возможны «переоценки ценностей». Вот как об «ином мире» пишет создательница «Дневников вампира» и большого количества романов об инфернальных культурных героях Л.Д. Смит: «Царства Ночи нет на географической карте, но оно существует, существует в нашем мире. Оно окружает нас со всех сторон. Это тайное общество вампиров, оборотней, колдунов, ведьм и прочих порождений тьмы, которые живут среди нас. Они красивы и опасны, их неудержимо тянет к людям, и никто из смертных не в силах устоять перед ними. Твой школьный учитель, твоя задушевная подруга или друг могут оказаться одним из них» [5, с. 5]. Поэтому часто мир религиозного фэнтези погружает читателя в повседневную секулярную жизнь героев, где они не задумываются о религиозных проблемах загробного воздаяния, смысла жизни, ценностей жизни, однако встреча с «таинственным незнакомцем» заставляет героев кардинально переосмыслить мир повседневности, секулярности и задуматься над философскими проблемами: «что такое человечность» и «что делает человека человеком?». Авторы фэнтезийных миров вместе со зрителями и читателями также размышляют над данными общефилософскими проблемами.
В таком «переосмыслении» важным элементом являются этические рефлексии. Возможны проявления абсолютного добра или зла в реальной жизни обычного человека? Эти этические идеальные концепты имеют ли свое проявление в современной культуре или остаются на протяжении всей истории метафизическими константами? Напомним, что еще Аристотель констатировал, что одно дело – иметь знание о добре и зле, а другое – уметь ими пользоваться. Думается, что для ответов на данные вопросы необходимо обратиться к восточной мудрости. Дело в том, что западноевропейская культура (и философия) имеет традицию решения этой проблемы в свете дуализма добра и зла, идущую от Гераклита, где конфликт противоположностей разрешается сильнейшей стороной, и такой сильнейшей стороной является добро. Средневековое теоцентрическое миропонимание персонифицировало добро и зло, однако и здесь имел свое выражение острый конфликт между абсолютным добром и абсолютным злом. Постмодерн и секулярная массовая культура обратились к другому пониманию данного этического взаимодействия, близкому к модели даосов. Так в религиозном фэнтези и создается новый тип культурного героя – «привлекательного злодея», «падшего ангела» или «хищника», совершающего добрые дела. А так как мифологическое смыслотворчество подвижно, отвечает потребностям современности, но содержит в себе глубинные смыслы, то перед нами предстает диалектический концепт бинарного этического противоречия: добро оборачивается злом, зло представляется добрым и привлекательным. «Добрый» культурный герой становится скучным, сомневающимся в целесообразности и своей способности творить добрые дела. «Переоценка ценностей» в массовой культуре приводит также и к романтизации отрицательных инфернальных культурных героев, особенно среди женской аудитории.
Относительность категорий добра и зла в дискурсе фэнтезийных миров особенно отчетливо прослеживается через действия персонажей художественной литературы, мюзиклов, сериалов. Особого внимания заслуживает анализ современной массовой культуры; кинематографа, музыкальных об- разов, образов в художественной литературе в конце ХХ- начале ХХI века, представляющие собой ремифологизацию в сфере инфернальности.
Охарактеризуем первый аспект инверсии добра и зла. Для этого проанализируем «Сильмариллион» Дж.Р. Толкиена, являющийся картиной мира «Арды», которую он писал всю жизнь, и «Черную Книгу Арды» Н. Васильевой, в которой рассказ идет со стороны сил зла и где показывается совершенно иная картина событий. Так же особый упор будет сделан на мюзикл Веры Трофимовой «Мелькор», являющийся интерпретацией «Черной Книги Арды», ставший самостоятельным произведением [2, с. 29-30].
В «Сильмариллионе» Толкиена воспроизводится классическая картина противостояния добра и зла. Есть Бог – Творец – Эру. Есть взбунтовавшийся против него Люцифер – Мелькор. Есть Валар – Ангелы, вместе с Мелькором однажды сотворившие мир – Арду и чьим трудам Мелькор всячески стремится помешать, разрушить все их творения. Перед нами классический христианский сюжет о противостоянии добра и зла, где понятны границы допустимой применимости этих категорий. С «Черной Книгой Арды» ситуация совсем иная. В ней границы этического размываются и переосмысливаются. Эру не является первотворцом и не является всеблагим. Мелькор – это бунтарь, но не воплощение зла, а лишь тот, для кого Свобода и возможность творить являются высшим ценностями. Особенно это хорошо показано в мюзикле «Мелькор» Веры Трофимовой. Мелькор изменяет идеальный мир, созданный Валар. В нем появляются не только время, жизнь, смерть, но и развитие, невиданное прежде разнообразие. За свою волю к свободе Мелькор в итоге жестоко наказан – его творения уничтожаются и предаются забвению, убивают всех, кого он любит, а сам Мелькор претерпевает страдания в плену у Валар, которые, как и Эру, оказываются мелочными, само- любивыми и бездушными созданиями. Они прикрываются понятиями Света и Тьмы и творят зло, прикрываясь идеалами добра, считая себя абсолютно правыми. Во многом действия Валар и Эру и доводят Мель-кора до того, что он совершает все то зло, которое совершил по Сильмариллиону.
В «Черной книге Арды» и мюзикле «Мелькор» поднимаются такие проблемы, как релятивность в оценках добра и зла, проблема свободы и творчества, проблема ответственности Творца и т.д. Для нашего исследования особенно важным с этической точки зрения предстает следующий момент, что нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла. Мы не можем никого оценивать ни как доброго, ни как злого даже в рамках отдельного поступка. Добро и зло переплетаются, взаимоперетекают друг в друга. Мелькор творит зло с точки зрения Валар, но он творит добро, например, с точки зрения жителей Арды: именно благодаря ему стала возможной жизнь такой, какой мы ее знаем - сложная, но прекрасная. Появились развитие и время. Валар, уничтожая все, созданное Мелькором, искренне верят, что уничтожают искажение замысла Творца. И они не видят, что уничтожают не зло, а обыкновенных людей и эльфов, не желавших зла, а лишь желающих жить самостоятельно, делать свою жизнь самим вместе со своим учителем.
Второй аспект инверсии этих этических категорий можно обнаружить в сериалах, посвященных инферальным героям – ведьмам, вампирам, оборотням. В секулярной культуре традиционное отношение к «злым» героям, «антигероям» пересматривается. Уже в романе Б. Стокера «Дракула» подчеркивалась привлекательность зла, а абсолютное добро рассматривалось как вымысел и сказка. Что же говорить о массовой культуре постмодерна, выраженной через сериальное пространство текста? Действия героя гармонично сливаются с актером, играющим этого героя. Этическое тесно переплетается с эстетическим – ин- фернальных героев играют актеры и актрисы с привлекательной внешностью, безобразные образы уходят в прошлое. Привлекательность инфернальных героев заключается в том, что они не являются «застывшими мифами-образцами» монстров времен Средневековья и стандартов фильмов жанра «хоррор». Новая парадигма постмодерна проявляется в гуманизации «демонического», которая также является следствием секулярной культуры - проявлений толерантности и политкорректности. Культурные герои инфернального мира, «не такие как люди», «бывшие люди», «люди со сверхспособностями», не отдаляются от мира людей, а хотят жить в мире с ними, а для этого им необходимо решать те же этические проблемы, что ставятся «человеческим обществом». Особенностью данной парадигмы является гуманистическая линия – подчеркивается ценность человека, поэтому питание демонических героев становится либо «диетическим» - они пьют кровь животных, либо берут питание из искусственных банков крови, либо «щадят» доноров, не лишая их жизни. Герои в процессе сериального «хронотопа» не являются застывшими «злодеями». Их «человечность» - проявление чувств: они страдают, как люди, любят, пытаются налаживать дружеские отношения, ценят уютный дом и семью. Герои сериала «Настоящая кровь» вампиры уже не скрываются от людей, они получают равные с людьми политические права, а питаются лишь искусственной, синтетической пищей.
Третий аспект инверсии этических категорий прослеживается через динамику развития образа инфернального культурного героя в фэнтези. Если в «классике» Б. Стокера «Дракула» вампир – это демонический герой, то в эпоху модерна у Э. Райс он «скучающий» герой, а постмодерн дает образ романтического героя, чувствующего и сочувствующего. «Отключи чувства» - станешь зверем, чудовищем, страшным злодеем. У Э. Райс в
«Вампирских хрониках» Лестад – это воплощение амбивалентного существования темного дара ночи и блага одновременно. Существование темного дара заключается, с точки зрения этого автора, в потере человечности этого героя и в напряженных поисках драматической замены чем-то этой болезненной и дезориентирующей утраты – властью, силой, соперничеством, злодеяниями и пр. Лестад эгоистичен, высокомерен, самонадеян, импульсивен, однако страдает и часто впадает в депрессию. Герои Л.Д. Смит в «Дневниках вампира» братья Сальваторе (Деймон и Стефан), а также С. Майер в тетралогии «Сумерки» (семейство Калленов) страдая от осознания себя как «чудовищ», стараются сохранить последнюю ниточку «человечности», и этой ниточкой является любовь-страдание, любовь-защита. И, раздумывая над ценностями человеческой жизни, они решают для себя смысложизненные вопросы – «вечность» жизни дана для чего? Они стараются творить добро людям (основатель семьи Карлайль Каллен стал врачом и творцом вегетарианской диеты). «Чудовища» больше не «чудовища»? Их можно любить? Как такое возможно? Рушится средневековая демонология – такие культурные герои, архетипически «злые», творят добро.
Четвертый аспект. Современное фэнтези массовой культуры заменило классическую волшебную сказку. Поэтому история инфернального героя близка со сказочным. В процессе развертывания фэнтезийного текста и нарративного действия происходит личностное становление героя (пусть и затянувшееся на века), причем и протагонисты, и антагонисты решают личные проблемы, не совершая героического общественного, стоят либо на стороне злых сил, либо добрых, преследуя личные, индивидуальные интересы. Необходимо сказать, что и в классической волшебной сказке герой не является самодостаточным – ему обязательно нужен помощник, советчик, волшеб- ник, указывающий ему путь к преобразованию. Он задает вопросы герою: «Куда?», «Кто?», «Почему?», «Откуда?», позволяющие герою осознать ситуацию, ближайшие цели действия (или возможность подумать до завтра: «Ложись, утро вечера мудренее»). Помощник знает опасности пути, предостерегает героя, снабжает средствами, необходимыми для того, чтобы встретить их во всеоружии. Таким образом, помощник, с одной стороны, представляет знание, размышление, проницательность, интуицию, а с другой – такие нравственные качества, как добрая воля и готовность помочь. Думается, что без «помощника» сказочный герой не состоялся бы как личность и не были бы четко для слушателя сказки проявлены основные черты становления данного героя как носителя положительных этических смыслов.
При этом в качестве поисков глобальных, индивидуально значимых смыслов сказочный герой действует в узкоспецифических социальных рамках – семейных и индивидуальных, и его поиск – поиск моральных приоритетов («сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»), через становление сказочного героя четко прослеживается противостояние на уровне «добро» - «зло», и эта семантическая проявленность и является самым ценным смыслом для существования человека в обыденном мире.
Фэнтезийным героям также нужен помощник. Однако помощник выступает как романтический герой. Феминизация в секулярной культуре наделяет фэнтезийный мир особым видом помощника. Это обычная современная девушка, тинейджер, у нее своя жизнь – подруги, школа, первый опыт общения с представителями противоположного пола, для которых она является очень привлекательной. Она живет напряженной внутренней жизнью, переживает за свою семью. Девушки как главные героини С. Майер и Л.Д. Смит совсем внешне не похожи. Белла Свон (С. Майер) – неуклюжая, замкнутая, но с богатым внутренним миром, не случайно автор дает ей фамилию «Лебедь» - это возможность потенциального раскрытия ее глубины внутреннего мира, который потом проявится в жертвенности, героизме, способности отстоять и защитить свою любовь. Елена Гилберт (Л.Д. Смит) осознает свою красоту и умеет общаться с молодыми людьми, но у нее случилось горе – она считает себя виноватой в потере родителей в автокатастрофе и сильно переживает эту потерю. Тем не менее она тоже «Золушка», т. к. все черты ее характера: забота о близких, самоотверженность, борьба за свою любовь – еще только впереди. Героини не мечтают о принцах и замужестве, они хотят любить и «строить отношения» здесь и сейчас. Общее, что объединяет их - встретив «загадочного молодого человека», они пытаются разгадать его загадку, наблюдают, собирают факты и приходят к выводу – их Герой – это «Нече-ловек». Однако это неважно для них, они хотят быть вместе с ним. Раздумывая над романтическими отношениями с бессмертными существами, девушки сомневаются – возможна ли такая любовь? С. Майер не дает своей героине альтернативного выбора – Белла Свон решила, что хочет быть с Эдвардом всегда, следовательно, ей человеческая жизнь не нужна. Л.Д. Смит дает своей героине выбор – она не хочет быть такой, как Стефан, но обстоятельства складываются так, что она обращается. Девушки как Помощники заставляют инфернальных героев измениться в лучшую сторону, так же, как это происходит и в волшебной сказке.
Наиболее важной ценностью религиозного фэнтези является постулирование самостоятельности и самодостаточности человека. В мюзикле «Мелькор» в финальной арии прослеживается главная мысль: «Делайте жизнь сами!» В этой фразе заключается то, на что хотелось бы обратить внимание. Нет абсолютных, «чистых» проявлений добра и зла. Человек может и должен сам решить, как ему жить, что для него зло и что для него добро. В современном мире усиливается эффект релятивности и этической субъективности [2, с. 34]. Этот тезис можно проиллюстрировать мыслью из одной буддистской притчи, где умирающий Будда говорит своим ученикам о том, что они долго шли в его свете, но настало время стать светом для себя. Если перефразировать эту фразу, то мы можем сказать, что в ситуации отсутствия четких ориентиров каждый человек отныне сам для себя мерило зла и добра. Задача человека – самостоятельно строить свою жизнь, не рассчитывать ни на кого. Задача человека – стремиться к невозможному, стать больше, чем он есть. Это возможно только через осознание и преодоление себя. Если человек хочет выйти из ситуации постмодернис- тской неопределённости, он должен кардинальным способом изменить свое мышление, что приведет к качественным изменениям. Какие изменения? Нам не известно. Мы можем узнать это, лишь начав строить свою жизнь сами. Потому что восприятие художественных образов – это целостное эмоционально-этическое воздействие, которое предполагает и работу воображения, и творческую активность воспринимающего субъекта, в том числе и осмысление им собственного жизненного и нравственного опыта. Так через художественные идеалы фэнтезийных миров происходит самоидентификация читателя-слушателя с художественным персонажем-Героем и свое собственное личностное смыслоообразование.
Список литературы Современное религиозное фэнтези: инверсия этических категорий
- Васильева Н. Черная книга Арды. Т. I. М.: Memories, 2008. 366 с. с илл. Васильева Н. Черная книга Арды. Том II. М.: Memories, 2008. 410 с. с
- Вострецов Е.Ю. Социально-этический анализ добра и зла на примере произведений Дж. Р.Р. Толкиена и его последователей//Вострецов Е. Ю. Философия без границ: Сб. науч. тр. участников проекта «Философия без границ: философские практики в современном образовательном процессе»/Науч. ред. К. В. Кондратьев. Казань, 2014. 120 с.
- Ivanova Evgenia «Religious Fantasy» as Element of Contemporary Religious Mythology//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 1. 2012. № 5. P. 56-62.
- Ivanova Evgenia Modern Infernal Culture Hero as an Element of Religious Mythology//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2. 2013. № 6. P. 194-201.
- Смит Л.Д. Предначертание. СПб., 2010. 304 с.