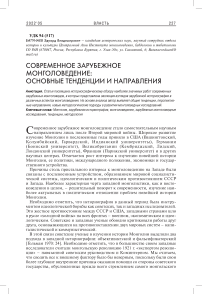Современное зарубежное монголоведение: основные тенденции и направления
Автор: Батунаев Эдуард Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена историографическому обзору наиболее значимых работ современных зарубежных монголоведов, в которых представлена эволюция взглядов зарубежной историографии в различных аспектах монголоведения. На основе анализа автор выявляет общие тенденции, перспективные направления, новые методологические подходы в развитии монголоведных исследований.
Монголия, зарубежная историография, монголоведение, зарубежные монголоведные исследования, тенденции, методология
Короткий адрес: https://sciup.org/170195959
IDR: 170195959 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9268
Текст научной статьи Современное зарубежное монголоведение: основные тенденции и направления
С овременное зарубежное монголоведение стало самостоятельным научным направлением лишь после Второй мировой войны. Широкое развитие изучение Монголии в послевоенные годы приняло в США (Вашингтонский, Колумбийский, Гарвардский, Индианский университеты), Германии (Боннский университет), Великобритании (Кембриджский, Лидский, Лондонский университеты), Франции (Парижский университет) и в других научных центрах. Отмечается рост интереса к изучению новейшей истории Монголии, ее политики, международного положения, экономики и государственного устройства.
Причины столь пристального интереса к монголоведению на Западе были связаны с послевоенным устройством, образованием мировой социалистической системы, идеологическим и политическим противостоянием СССР и Запада. Наиболее характерная черта западной монголистики, как и востоковедения в целом, – решительный поворот к современности, изучение наиболее актуальных в политическом отношении проблем новейшей истории Монголии.
Необходимо отметить, что историография в данный период была инструментом идеологической борьбы как советских, так и западных исследователей. Это жесткое противостояние между СССР и США, западными странами шло в русле «холодной войны» на всех фронтах – военном, экономическом и идеологическом. Советские и западные ученые обоюдно критиковали работы друг друга, основывающиеся на противопоставлении двух мировых систем – капиталистической и коммунистической.
В этой связи советские ученые в изучении истории Монголии выделяли два подхода в западной историографии: объективистский и фальсификаторский [Гольман 1970: 24]. Необходимо отметить, что в большинстве своем западные исследователи считали монгольскую революцию 1921 г. «экспортом революции» – навязанной советским руководством и Коминтерном. Мы считаем, что сводить все к внешнему фактору было бы неверным, поскольку были свои более глубокие внутренние причины оказания помощи со стороны советского государства, обусловленные прежде всего стремлением самого монгольского народа к независимости, международному признанию и сохранению суверенитета Монголии.
На базе исследований Ч. Бодуэна, О. Латиммора, Р. Рупена, П. Тана, Дж. Фритерса и др. западных монголоведов [Bawden 1968; Lattimor 1955; Rupen 1979; Tang 1959; Friters 1951] была прослежена сложная и противоречивая история Монголии в XIX – первой половине XX в., а также политика царской и советской России в Монголии.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что проблема формирования монгольского национализма и государственности была во многом предопределена влиянием Советской России и Китая в указанный период [Lattimor 1955; Rupen 1979; Bawden 1968; Friters 1951; Murphy1966]. Вместе с тем проблемными местами западных историков были недостаток знаний и отсутствие доступа к архивным источникам. С конца 1930-х гг. МНР стала практически закрытой для западных ученых, что подталкивало их к поиску данных в имеющихся работах советских и монгольских ученых.
Особое внимание в трудах Р. Рупена посвящено развитию национальной идеи объединения монголоязычных народов, вопросам социально-экономической и политической истории МНР [Rupen 1964]. Основные направления критики советской исторической школы в работах Р. Рупена, Ч. Боудена сводились к отрицанию закономерности революции, а главный акцент делался в основном на ее экспорте из Советской России.
Вместе с тем необходимо с осторожностью относиться к таким проблемным, на наш взгляд, вопросам, как экспорт революции, концепция сател-литизма, политических репрессий, порой односторонне трактовавшихся в западной историографии. К монгольским событиям в той или иной степени были причастны многие яркие личности – политики, военные, специалисты из Советской России по линии Коминтерна. И все же последнее слово оставалось за монгольскими руководителями. Безусловно, монгольские партийные руководители не были простыми марионетками, как принято было считать в западных работах, полностью подчинявшимися воле советских партийных и коминтерновских органов, а имели свое собственное видение, отражавшее внутренние факторы, национальные и государственные интересы.
В современных западных работах на основе применения новых методов и подходов исторического исследования, таких как «история памяти», политическая и социальная антропология, авторы делают серьезные попытки реконструировать политическую историю Монголии [Kaplonski 2002; Atwood 1999; 2003; Barkman 1997].
Исследования американского антрополога Кристофера Каплонски посвящены проблемам национальной идентичности и демократизации, политическим репрессиям и ламскому вопросу в Монголии. К. Каплонски детально рассматривает роль показательных процессов, политических репрессий, проводимых новой властью в лице МНП, как предвестников политического насилия на примере судебных процессов над высшими духовными иерархами буддийской церкви в Монголии. Автор приходит к мысли, что государственное насилие стало орудием во внутрипартийной борьбе между «правыми» и «левыми» в рядах МНП [Kaplonski 2002; 2004].
Среди современных западных ученых необходимо отметить работы немецкого монголоведа Удо Баркмана. Круг исследований У. Баркмана чрезвычайно широк – от теократической монархии Богдо-гэгэна, истории и политики МНРП до религиозного плюрализма и возрождения ламаизма; от советско-монгольских отношений до геополитической ситуации в стране; от формиро- вания новой политической элиты до трансформации скотоводства и семьи в условиях перехода к рынку.
Особый интерес представляет работа У. Баркмана «Возрождение буддизма в Монголии». Данная работа раскрывает глубинные процессы взаимоотношений монгольского буддизма и национализма, рассматривает их взаимосвязь с идеями панмонголизма и участие в национально-освободительном движении в Монголии [Barkman 1994]. У. Баркман в работе «История Монголии или “монгольский вопрос”. Монголы на пути к национальному государству» подробно рассмотрел правовой и международный статус Монголии в различные периоды ее истории. По мнению У. Баркмана, Монголия в начале XX в. являлась ареной соперничества ведущих держав – России, Японии, Китая [Barkman 1999]. Надо отметить, что У. Баркман прекрасно владеет монгольским языком и использовал архивные источники Монгольского национального архива.
Исследовательским полем современных западных авторов, как правило, является изучение комплексных геополитических и экономических связей Монголии с внешним миром, при этом они обходят стороной российский контент. К настоящему времени преобладают публикации аналитического и публицистического характера, посвященные данной проблематике. Среди западных исследователей, занимающихся изучением различных аспектов внешней политики Монголии, нужно отметить Р. Бедески, А. Кампи, Россаби, Гинзбурга [Bedeski 2006; Campi 2004; Rossabi 2005; Ginsburg 1995].
Отдельные западные авторы, анализируя перспективы дальнейшего развития Монголии, все чаще рассматривают российскую политику в регионе в качестве важной составляющей монгольской безопасности [Campi 2004]. В работах современных западных исследователей получили освещение проблемы безопасности во Внутренней Азии. В связи с этим впервые термин «большая игра» в отношении Монголии был введен в оборот американским исследователем Э. Хайером в 1997 г. на страницах Mongolian Journal of International Affairs [Нer 1997]. Следует отметить, что еще на рубеже XIX–XX вв. азиатское направление дальневосточной политики (Монголия, Тибет, Маньчжурия) стало ареной жесткого соперничества между Российской и Британской империями как часть «большой игры».
Тема фронтира обрела новое развитие в рассмотрении исторической реконструкции этнической идентичности и национализма монгольских народов. У. Булаг выдвинул собственную концепцию коллаборативного национализма на основе анализа бинарной модели монголо-китайских отношений. В книге, получившей весьма положительные отзывы ведущих зарубежных монголоведов и синологов К. Хамфри, П. Пердью, К. Каплонски, У. Булаг прослеживает весь исторический путь, который привел монголов к нынешнему положению в КНР. Наиболее интересным, на наш взгляд, выглядят разделы, посвященные бурному периоду 1930-х и 1940-х гг., когда «монголы в Китае разрывались между тремя соперничающими силами: японцами в Маньчжоу-Го, Китайской национальной партией Гоминьдан и Коммунистической партией Китая (КПК)» [Bulag 2010: 102].
Различные аспекты национально-освободительного движения и создания Монгольского теократического государства в 1911 г. были детально рассмотрены в трудах японских исследователей Наками Тацуо, Макото Тачибана [Наками 2012; Тачибана 2012]. Т. Наками в работе «Семенов и монгольские войска» рассматривает деятельность Г.М. Семенова и монгольских войск в панмонгольском движении на территории Забайкалья, Внешней и Внутренней Монголии [Наками 2000]. В этом же ряду стоит выделить иссле- дование Х. Футаки, в котором он на новых мемуарных источниках рассматривает истоки формирования Монгольской народной партии [Futaki 2000]. Известный ученый K. Tанака уделяет большое внимание революционным и военным событиям XX в. в монгольском мире. В частности, он прослеживает судьбы лидеров политических организаций в Монголии, движение баргутов в Хулун-Буире и т.д. [Tanaka 2010].
В современной западной науке исследованиям постсоциалистических взаимоотношений России и Монголии уделяется одно из основных мест. Возрос интерес к данной тематике в начале XXI в. В настоящее время изучение проблем истории Монголии XX в. стало частью так называемых центральноазиатских исследований ( Central and Inner Asia Studies ), которые начали оформляться в эпоху новых независимых государств на территории бывшего Советского Союза.
В связи с этим следует отметить работу научного сотрудника университета Регенсбурга (Германия) И.Ю. Морозовой «Социалистические революции в Азии». Автор является специалистом в области трансформации социальных процессов в постсоциалистической Азии. И.Ю. Морозова на основе оригинальных материалов из бывших советских и монгольских архивов переосмысливает социалистическое наследие Монголии и объясняет, почему в 1920-х гг. стал возможен переход к социализму. Кроме того, автор на основе постмодернистских подходов, структурного и системного анализов исследует модели власти и роль монгольского национализма на принятие решений о союзе с СССР в 1920–1930-х гг. и выборе демократического пути развития в конце 1980-х гг. [Morozova 2009].
Большое значение имеют планомерные монголоведные исследования, которые получили институциональное оформление. Так, отметим, что важная научная и образовательная работа проводится Американским центром монголоведения ( American Center for Mongolian Studies – ACMS ). Эта частная некоммерческая организация поддерживает академические проекты по исследованию истории и культуры монгольских народов, организует стажировки ученых и студентов в Монголии, является базой крупных просветительских мероприятий.
Современные западные социологи, политологи, экономисты рассматривают Монголию в ряду других стран региона, стоящих перед сходными проблемами развития. В основном эти проблемы освещаются в русле конъюнктурной концепции переходной экономики и построения демократии и институтов рынка в обществах советского образца. Выделим работу американского исследователя M. Россаби «Современная Монголия: от ханов к комиссарам и к капиталистам» [Rossabi 2005], в которой раскрываются основные события «шокового» перехода от социалистической системы к рыночной экономике, в т.ч. анализируются культурные и международные последствия «открытия» Монголии. В своих дальнейших исследованиях он уделяет большее внимание более ранним периодам монгольской истории.
Формированию коллективной идентичности и возрождению традиционной культуры в условиях переходного этапа посвящены работы Д. Сниза [Sneath 2010]. Он утверждает, что образовавшийся вакуум в национальной политике после краха государственного социализма стал заполняться идеями возвращения к исконным традициям, что стало определенным ресурсом для политиков, которые, оперируя традиционными понятиями, в частности понятием «малой родины», стали аккумулировать общественную поддержку.
Таким образом, проведенный экскурс позволил проследить значительную эволюцию монголоведных исследований в зарубежной историографии с послевоенного периода до современности от идеологического противостояния до достижения консенсуса и поиска новых теоретико-методологических подходов и актуальных проблем исследований. Мы постарались показать наиболее значимые исследовательские работы, в которых изучаются ключевые вопросы национально-освободительного движения Монголии, проблемы обретения независимости, коренных социальных преобразований и трансформации монгольского общества в современный период.
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства»).
Список литературы Современное зарубежное монголоведение: основные тенденции и направления
- Гольман М.И. 1970. Проблемы новейшей истории МНР в буржуазной историографии США. М.: Наука. 178 с.
- Наками Т. 2000. Семенов и монгольские войска. - Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. История. Философия. Социология. Филология. Искусство: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ. Изд-во БНЦ СО РАН. Т. IV. С. 123-127.
- Atwood C.P. 1999. Sino-Soviet Diplomacy and the Second Partition of Mongolia, 1945-1946. — Mongolia in the Twentieth Century: Landlocked Cosmopolitan (ed. by S. Kotkin, B.A. Elleman). N.Y., London: M.E. Sharpe. P. 137-161.
- Atwood C.P. 2003.The Mutual-Aid Co-operatives and the Animal Products Trade in Mongolia, 1913-1928. - Inner Asia. Vol. 5. No. 1. P. 65-91.
- Barkmann U. 1994. Lamaismus in der Mongolei. - Asien Africa Latinamerika. Vol. 22. P. 34-40.
- Barkmann U. 1997. Some Aspects of Geopolitical Situation of Modern Mongolia. -Trust with Change and Development. New Delhi. P. 31-34.
- Barkmann U. 1999. Geschichte der Mongolei oder Die, «MongolischeFrage»: Dei Mongolen auf ihrem Weg zum eigenen Natijnalstaat. Bonn: Bouvier Verlag. 422 p.
- Bawden ^.R. 1968. The Modern History of Mongolia. London: Weidenfeld & Nicolson. 615 p.
- Bedeski R.E. 2006. Mongolia as a Modern Sovereign Nation-State. - The Mongolian Journal of International Affair. No. 13. P. 77-87.
- Bulag U.E. 2010. Collaborative Nationalism: The Politics of Friendship on China's Mongolian Frontier. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. 281 p.
- Campi A. 2004. Mongoliain Northeast Asia - New Realities. - Geopolitical Relations between Contemporary Mongolia and Neighboring Asian Countries. Taiwan: Chinese Culture University. P. 268-287.
- Friters G. 1951. Outer Mongolia and Its International Position. Baltimore: Johns Hopkins Press. 358 p.
- Futaki H. 2000. A Re-examination of the Establishment of the Mongolian People's Party, Centring on Dogsom's Memoir. - Inner Asia. Vol. 2. No. 1. P. 37-60.
- Ginsburg T. 1995. Political in Mongolia. Between Russia and China. - Asian Survey. No. 5. P. 59-71.
- Her E. 1997. «The Great Game»: Mongolia between Russia and China. - The Mongolian Journal of International Affairs. No. 4. P. 62-71.
- Kaplonski сыг. 2002. Thirty Thousand Bullets. Remembering Political Repression in Mongolia. - Historical Injustice and Democratic Transition in East Asia and Northern Europe: Ghosts at the Table of Democracy. London: Routledge Curzon. P. 155-168.
- Kaplonski Chr. 2004. Truth, History and Politics in Mongolia: the Memory of Heroes. London, N.Y.: Routledge Curzon. 217 p.
- Lattimore O. 1955. Nationalism and Revolution in Mongolia. N.Y.: Oxford University Press. 186 p.
- Morozova Y. 2009. Socialist Revolutions in Asia: The Social History of Mongolia in the Twentieth Century. London: Routledge. 172 p.
- Murphy G. 1966. Soviet Mongolia: A Study of the Oldest Political Satellite. Berkeley, Los Angeles: University of California Press. IX, 224 p.
- Rossabi M. 2005. Modern Mongolia: From Khans to Commissars to Capitalists. Berkeley: University of California Press. 418 p.
- Rupen R. 1964. Mongols of Twentieth Century. Mouton: Indiana University Press. 200 p.
- Rupen R. 1979. How Mongolia Is Really Ruled: A Political History of the Mongolian People's Republic, 1900-1978. Stanford: Hoover Institution Press. 225 p.
- Sneath D. 2010. Political Mobilization and the Construction of Collective Identity in Mongolia. - Central Asian Survey. Vol. 29. No. 3. P. 251-267. Tanaka K. 2010. Nomonhan war - Manchuria and Mongolia. Ulaanbaatar. 300 x. Tang P. 1959. Russian and Soviet Policy in Manchuria and Outer Mongolia. 19111931. Durham, N.C., Duke University Press. 271 p.
- Наками T. 2012. Ундэстэн улсаа багуулахыг зорьсон нь Монголын тусгаар тог-нолын 1911 оны тунхаглал. — Монголын тусгаар тогтнол ба монголчууд (Олон улсын эрдэмшин жилгээний илтгэлийн эмхэтгэл). Улаанбаатар. С. 11-25.
- Тачибана М. 2012. XX зууны эхэн уеийн « Монголын туух» дэх Овор Монгол: Дагаар орсон хошуудын тухайд. — Монголын тусгаар тогтнол ба монголчууд (Олон улсын эрдэмшин жилгээний илтгэлийнэмхэтгэл). Улаанбаатар. С. 270-277.