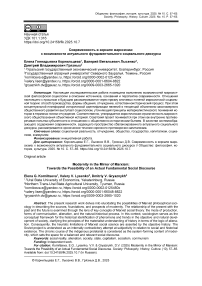Современность в зеркале марксизма: к возможности актуального фундаментального социального дискурса
Автор: Корнильцева Е.Г., Лысенко В.В., Грязных Д.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 10, 2025 года.
Бесплатный доступ
Настоящая исследовательская работа посвящена выяснению возможностей марксистской философской социологии в описании источников, оснований и перспектив современности. Отношения настоящего с прошлым и будущим рассматриваются через призму ключевых понятий марксистской социальной теории: способ производства, формы общения, отчуждение, естественноисторический процесс. При этом концептуальной платформой исторической идентификации явлений и тенденций объективно-закономерного общественного развития выступает социологизм, уточняющий принципы материалистического понимания истории в терминах логики отчуждения. Соответственно, утверждается эвристическая ограниченность марксистского обществознания объективной историей. Советский проект понимается при этом как внутренне противоречивая попытка субъектности в отношениях с общественно-историческим бытием. В качестве системообразующего содержания современности, задающего пространство сбалансированного актуального социального дискурса, рассматривается хроническое течение коренного противоречия капитализма.
Социальная реальность, отчуждение, общество, государство, капитализм, социализм, коммунизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149149499
IDR: 149149499 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.24158/fik.2025.10.7
Текст научной статьи Современность в зеркале марксизма: к возможности актуального фундаментального социального дискурса
Введение . Материалистическое понимание истории как методология социального познания объясняет общественные процессы, раскрывая их объективно-закономерный характер (Маркс, Энгельс, 1955 б). Социологизм конкретизирует объективистскую тенденцию марксизма в аспекте логики отчуждения, выступая одновременно познавательным приемом (редукция к объективной социальной реальности) и концептуальным каркасом исследуемого явления (феномен общественного бытия). Очевидно, главная из возможных претензий – к объективации. Но отчуждение, как его артикулирует социологизм, состоит, прежде всего, в радикальном обобществлении человека, его вторичности в отношениях с обществом. Человек «участвует» в обществе в составе групповых идентичностей, тогда как общество присутствует в человеке самым непосредственным образом. Так что вполне законно в границах существующей диспозиции производить события внутренней жизни из обстоятельств социального взаимодействия раньше обратного усмотрения.
В исходном пункте философская социология выступает антитезой философской антропологии. Если вторая утверждает под социальным измерением человеческого феномена более фундаментальный уровень, то первая растворяет человеческую реальность в социальной тотальности. Чтобы выйти за границы последней, надо «как минимум» перестать быть человеком, что бы это ни значило. «Воскресшая» Хари из «Соляриса» не была человеком, знала об этом и страдала совершенно по-человечески1. Так что дело не в особой субстанции, а в подключении к социальному полю. Экзистенциалисты со своей стороны могли бы сослаться на ситуацию «невыносимой легкости бытия», которая кого угодно сделает человеком. Но «шок существования» конституируется только в соотнесенности с коллегами по судьбе, если уже не товарищами по несчастью. И рай, и ад – «это другие». Все метафизические сюжеты и сущности родом из социального мира. Что вовсе не означает, в частности, происхождение религиозных представлений из корыстных интересов жреческого сословия. Но для любой социологии религия – это, прежде всего, общественный институт. Разница в том, признаются ли за границами фокуса другие сущностные измерения предмета, или этим (понятием) все уже сказано.
Цель настоящей работы – уточнение потенциала марксистской социальной теории в упорядочении представлений о происхождении современности и ее отношениях c будущим.
Достижению цели служит решение следующих задач:
– актуализация принципов марксистского обществознания сопряжением классических представлений с современными привычками и фигурами социального мышления;
– интерпретация советского проекта как попытки технологического преодоления отчуждения;
– «приведение» современности к общему знаменателю хронического течения коренного противоречия капитализма.
Различные аспекты отношений марксизма и современности затрагиваются в работах целого ряда российских и зарубежных авторов (Жиганов, 2020; Ли, Ван, 2024; Майоров, 2024; Никифоров, Умурзаков, 2023; Селеверстов, 2025; Сперанский, 2019; Федюнин, 2023). Новизна подхода, предлагаемого в настоящей статье, состоит в исследовании возможностей отражения происходящего средствами марксистской философии общества в связи с поисками оснований актуального социального дискурса.
Основным инструментом исследования служит метод причинно-следственного моделирования под формой технологии «производства» явления из его предельного, в контексте суждения, основания. Конкретно-содержательной реализацией способа усмотрения выступает социологизм (как язык логики отчуждения), редуцируя мир человека к социальной реальности и восстанавливая его в качестве (эпи)феномена общественного бытия.
Основная часть. Человек никогда не жил на лоне «первой» природы. Самые примитивные считанные артефакты совершенно определенно отделяют его пересозданную среду от естественной. Феномен человека – продукт возводимой им искусственной атмосферы. Люди – животные только в том смысле, что не растения: вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ. В остальном на месте природы – безраздельная монополия общества. И животная родословная человека только формальная, не имеющая отношения к его перспективам подробность. Все биологическое целиком и бесповоротно снимается социальным. Пресловутый эгоизм особи близко не показывает положенной его эволюционными задачами однозначности, принимая различные, нередко исключающие друг друга и при этом одинаково противоречащие исконному предназначению формы. И так называемый разумный эгоизм – только плохо замаскированный альтруизм. Таким незатейливым образом Н.Г. Чернышевский хотел перехитрить главный инстинкт, помирить личный интерес с общим благом2. Но человеческое стремление к самосохранению и самоутверждению в известном всем виде – это чисто социальный императив. Когда рассуждают, как легко человек возвращается в животное состояние, не замечают, что ему некуда возвращаться, кроме как в собственные дикость и варварство, как таковые находящиеся за пределами биологической данности. Первобытность в смысле искусственности жизни ничуть не ближе к природе, чем сегодняшний день. Что касается «прогрессивности», то среднестатистический современник гораздо дальше от переднего края истории, чем любой из его предшественников. (Достаточно вспомнить результаты социологических опросов по поводу смертной казни1). И это отставание растет пропорционально ускорению общественного развития. Но надеяться на перспективу можно лишь с высоты настоящего. Без синхронизации мышления с историческим бытием все содержательные разговоры о будущем останутся ненаучной фантастикой.
Если стратегический – постэкономический – образ будущего принципиальных возражений не вызывает, то конкретные пути его достижения пока не поддаются сколько-нибудь общезначимой проблематизации. Тактическая неопределенность связана с беспрецедентным контрастом старого с новым. Ведь выход человека из производственных отношений означает ни много ни мало снятие исторического как объективно-закономерного развития во времени форм социальной жизни. «Простым» переходом количества в качество, очевидно, такое расстояние не преодолеть. Социалистическое государство в советском проекте должно было заполнить разрыв между настоящим и будущим, отталкиваясь от классического капитализма и целенаправленно культивируя коммунистические предпосылки. Ближайшим историческим ориентиром в этом сценарии выступает «развитой» социализм, которому предстоит «доразвиться» до собственно коммунизма. На практике он превращается в непреодолимый «горизонт событий» (и не только для внешнего наблюдателя), замыкающий историческое движение на себя. Что, однако, не противоречит понятию посткапитализма, охватывающему все варианты развития событий по ту сторону частной собственности на основные средства производства. К тому же, по крайней мере, теоретически развитой социализм подразумевает выход институтов реального народовластия (советов) на проектную мощность (в отличие от государственного капитализма, в пределе развивающегося до правового режима частной собственности на публичную власть). Понятие предкомму-низма буквально выражает исторический смысл советского строя и акцентирует постэкономические тенденции социалистического образа жизни. Представление о дальнейшем прогрессе как накоплении этих тенденций близко к пониманию коммунизма у раннего К. Маркса: больше движение, истребляющее несправедливые отношения, чем (бес)конечная цель в виде высшей общественной формы в действительной полноте ее существенных специфических признаков (Маркс, 1981). Очевидно, такой коммунизм начинается как проявление общего кризиса капитализма, выражение логики самоотрицания форм общения, основанных на частной собственности. Но в стратегическом контексте окончательного распрямления пружины «производственного» детерминизма акцент на процессуальности уточняет проблему особого качества исторической реальности (то есть способа движения коммунистической формации общества) до вопроса о новых источниках и видах социальной энергии.
Распределительный социализм снижает (искажает) экономическую мотивацию и тем самым повышает удельный вес субъективных факторов в общественных отношениях. Но сколько-нибудь заметно растворить историческую материю в произвольных стремлениях не получится прежде всего в силу их изрядной непроизвольности. Психология личности отправляется из презумпции ее внутреннего суверенитета. При этом субъективная реальность строится вокруг содержания, имеющего внешнее происхождение. Убеждения начинаются из идейного заражения. То, что идеи артикулируются конкретными «идеологами», не отменяет их объективной природы. Новые идеи – отражение тенденций, оформившихся до способности производить отдельное впечатление на наиболее восприимчивых. Определенные вещи приходят в голову в определенное время именно потому, что первые суть проекции второго на сознание «идеолога». И повышенная чувствительность к новому во многом обусловлена опять же конкретным социально-культурным контекстом. Даже восприятие эксплицированной идеологии возможно в сравнительно узком диапазоне соответствующих конкретно-исторических обстоятельств. Рассуждения о гуманизме вряд ли встретят сочувствие в обществе, основанном на рабском труде. Идея женского равноправия овладела массами не раньше, чем сложились минимально достаточные основания экономической независимости и физической безопасности слабого пола. Кооперативный социализм приснился Вере Пав-ловне2 после того, как он стал символом веры революционно-демократического течения русской интеллигенции. Высокая аутентичность здесь связана с получением идеалов из первых рук.
Но даже у самых картонных и послушных автору персонажей, стоит тому немного отвлечься, почти сразу начинается идейный дрейф. С другой стороны, к самостоятельности действующих лиц, не только литературных, есть большие вопросы. Отдавая дань диалектической форме, марксистская социология риторическим рефреном уравновешивает общественную обусловленность личности ее активным началом. Но в каждом конкретном случае бытие по-прежнему определяет сознание. И спонтанность заключается, самое большее, в способности превращения социальных влияний. Обычно все ограничивается приспособлением последних к привычкам сознания. При этом отчуждение сводит на нет всякую произвольность (откуда бы она ни происходила), противоречащую логике саморазвития социальной тотальности. «Авторизованная» активность достигает действительности только в составе движений навстречу заданности. «Исторические деятели» более-менее достигают поставленных целей. Правда, в процессе автор и замысел обычно меняются своими местами. Достичь целей получается, только поступив к ним на бессрочную службу на условиях полного самоотречения. Тогда масштаб личности - чисто формальная величина, связанная с количеством ресурсов, которые эта личность готова бросить на чашу весов захватившей ее идеи. Конечно, идеи идеям большая рознь. Из чего адепты последовательности могут настаивать на неожиданных выводах. Но искривленное социальное пространство радикально и непредсказуемо искажает траекторию произвольных движений. Так что умеренность в благих начинаниях не гарантия от катастрофы. История ставит людей перед фактом нового социального порядка, сформированного (в связи с) их разнонаправленными усилиями. Сознанию остается осваивать предлагаемые обстоятельства. В норме отношения опережают рефлексию. (Теоретически маргинальное сознание может «обогнать» бытие. Но для успеха социального проекта простой беспочвенности недостаточно). С одной стороны, в самых односложных и ригидных конструкциях всегда есть известный разброс способов жизни. Но определить «прогрессивные» отклонения можно только задним числом. Нет пророка в своей эпохе.
В качестве исходного тезиса последние замечания можно принять за постулаты ортодоксального социологизма. Здесь же абстракция социального - способ концептуальной конденсации общественно-исторической субъект-субстанции как «творящей природы» отчуждения. Таким образом, можно надеяться избежать крайностей демонизации истории и спиритуализации социальной материи, утверждая объективную реальность общества и при этом отделяя его от безотчетной коллективности муравейника. Замкнутый на себя самодвижущийся общественный космос – преодолеваемая в тенденции фигура отчуждения. За вычетом «ансамбля общественных отношений» человек выступает побочным продуктом, преследующим свои цели объективной истории. (Как капитал вполне целенаправленно стремится к максимально возможному росту, когда уже «за тридцать процентов прибыли решительно готов свернуть себе шею»). Мера и качество субъектности индивида определяются задачами воспроизводства его социальной функциональности. В таких координатах психология - это социология, опрокинутая внутрь индивида. Самая интеллигентность со склонностью к рефлексии и, в целом, сравнительно высокой внутренней автономией берет начало в обстоятельствах личности. Стремление к самоуважению, как и представление, за что можно себя уважать, воспитывается средой. Интеллигенту неприлично заботиться о себе больше, чем требуется для поддержания своей жизнедеятельности и работы на общее благо. Импульс к самосовершенствованию человек всегда получает из актуальной культуры. (Другое дело, что большинство из тех, кто вообще слышит, его игнорируют. То есть предварительная духовная работа необходима, но к ней, в свою очередь, также нужны социальные предпосылки. Внутренняя недостаточность - только отчасти заслуга ее обладателя). Некоторые, увлекаясь саморазвитием, пробивают потолок «технического задания», что со стороны можно принять за опережение времени. Но, судя по опыту предшественников, частная инициатива в исторических делах не приветствуется. И очередному «новому» человеку сильно повезет, если он не пополнит галерею «лишних» людей. Массовый человек всегда следует за отношениями и выстраивается вдоль изменившихся силовых линий социального поля, стремясь к максимально возможным в предлагаемых обстоятельствах удобству, выгоде и безопасности. При этом новые порядки уточняются по границам пластичности преобладающего человеческого «материала». Так люди делают общество, отклоняя его от идеального в буквальном и веберовском смысле типа собственным несовершенством.
Максимальный вариант реального капитализма - это сильно разведенная капиталистическая субстанция. Если становление общественной формы подразумевает накопление присущих ей признаков, то ее развитие не совпадает с движением к своей полной версии. «Развитой» капитализм определяется историческим разрывом с феодализмом, вытеснением пережиточных отношений из всех сфер общественной и частной жизни. Политико-правовое оформление таких изменений в основном происходит задним числом. Сущность развитого социализма - в его непосредственных отношениях с будущим. Соответственно, его качество измеряется расстоянием, оставшимся до коммунизма, приближение к которому должно происходить в форме совершенствования институтов народовластия под эгидой государства. Но советский социализм как рукотворный социальный проект можно совершенствовать до бесконечности, а главное, государство выступает его невычитаемым элементом. Так что постоянный рост аппарата и, в целом, усиление государственного регулирования нельзя объяснять только корыстными интересами номенклатурного класса. Социалистическое государство не является надстроечным институтом в классическом понимании. По сути, это важнейшая составляющая базиса советской политико-экономической системы. И его исторические перспективы не привязаны прямо к постэкономическим тенденциям, отрицающим государственное регулирование как таковое. Неразборная этатистская конструкция становится главным препятствием на пути к будущему. Механизм социалистического государства, планомерно расчищая дорогу новому обществу, требует постоянного технического обслуживания и, когда заботы о поддержании его работоспособности перевешивают остальные задачи, из средства исторического производства превращается в самоцель. К тому же, если верить классику с большим опытом работы в сфере государственного управления, с приближением к коммунизму классовая борьба и, соответственно, государство только усиливаются. И к завершению своей миссии последнее приходит на пике формы, что как минимум нелогично. Так или иначе государственный социализм работает как историческая ловушка, используя процессы, снимающие современность, для собственного воспроизводства. В частности, с ростом производительности и повышением благосостояния государство способно сохранить за собой дольше объективно необходимого важнейшую функцию перераспределения, направляя «излишки» на все более масштабные и затратные проекты и поддерживая комфортный для себя уровень дефицита общедоступных ресурсов. Другое дело, что на практике расточительная политика задолго до предполагаемого изобилия добила неэффективную экономику. Исторического потенциала советского проекта хватило, чтобы сломать машину буржуазного государства и заложить основы справедливого строя, то есть выполнить свое непосредственное назначение. Надежды на собственную эволюцию конструкта закономерно не оправдались, а попытки механически сдвинуть его в сторону будущего опрокинули накренившееся здание.
К. Маркс меньше всего ассоциировал социализм с социалистическим государством в принятом значении термина. Предпосылки нового общества должны созреть в недрах старого. Идея переходного периода или подготовительного этапа – это буквальное удвоение сущностей. Коммунизм, который в ранних работах классиков больше движение, чем состояние, начинается как следствие и проявление общего кризиса капитализма. И к моменту окончательного разложения буржуазного строя складываются минимально достаточные предпосылки новых общественных отношений. Логично предположить, учитывая потенциал, накопленный в предшествующей борьбе рабочего класса против своих угнетателей, что социальная революция может обойтись без масштабного насилия и разрушений. Соответственно, отпадает необходимость в сильном «переходном» государстве для преодоления организованного сопротивления буржуазии и ликвидации последствий классовых битв (Ленин, 1969 б).
У В.И. Ленина такой подготовленной исторической почвы не было. До своего общего кризиса российскому капитализму было еще далеко, и коммунизм пришлось устраивать не просто с нуля, но буквально опираясь на воздух. Отсюда – выстрел Авроры, штурм Зимнего, государство диктатуры пролетариата и довлеющий себе социализм. Тему «последнего» государства открыл Ф. Энгельс, а В.И. Ленин взялся развить сюжет до руководства к действию. Для первого проблема была теоретической, перед вторым она физически не успела встать во весь свой практический рост. Поэтому ни один, ни другой не заметили или предпочли не заметить собственной непоследовательности в главном вопросе. С одной стороны, социалистическое государство, кроме названия, не имеет с предшествующими типами государственного устройства ничего общего, по историческому и социальному смыслу выступая их диаметральной противоположностью. Решив задачи, требующие централизации управления и концентрации ресурсов, оно постепенно самораспустится, «заснет» за дальнейшей ненадобностью (Энгельс, 1989; Ленин, 1969 а). С другой стороны, ресурсы и механизмы такой самотрансформации почти целиком остаются за скобками. На практике советское государство развивалось лишь в направлении своего усиления. К тому были, разумеется, общеисторические причины, но главный вклад, особенно в послевоенный период, – за собственной логикой системы. Не имея органической способности к обновлению, сопротивляться износу несущих конструкций она могла только физическим ужесточением. И, когда этот ресурс был исчерпан, безальтернативная попытка либерализации только ускорила неизбежный финал.
Неспособность системы к будущему стала ощущаться гораздо раньше фатальной развязки. Неслучайно у советских фантастов-шестидесятников астронавты возвращаются из экспедиций, как правило, в готовый, «развитой» коммунизм. Даже Стругацкие, создатели, наверное, самой подробной и последовательной литературной версии истории светлого будущего1, обычно пропускают переходный период. «Хищные вещи века» имеют открытый финал – испытание праздностью и изобилием может оказаться самым серьезным препятствием на пути к совершен- ному обществу. Но позднесоветский дефицит способен самых безнадежных романтиков обратить в ревностных неофитов общества потребления. У Стругацких образца 1960-х гг., общество, заплывая жиром, в своих разных частях по-разному, но везде одинаково неизбежно сходит с ума. (Если раньше не лопнет от переедания, как «желудочно неудовлетворенный» кадавр профессора Выбегаллы1. И это еще не худший сценарий: для абсолютного потребителя из той же реторты оказалось «и целого мира мало»). Аскетичный советский быт не давал человеку слишком расслабиться и с этой стороны держал его в хорошей психической форме. В то же время хроническая бедность, переходящая по наследству общая неустроенность превращали материальный достаток в самоцель, а рост благосостояния – в исчерпывающий критерий прогресса. В конце 1980-х гг. уровень жизни был, очевидно, существенно выше, чем в середине 1960-х гг., но сильно ниже ожидаемого, не говоря об обещанном. Нисходящая траектория последнего советского десятилетия только усиливала ощущение исторического тупика. Приговором системе стало окончательное понимание отсутствия у нее смыслообразующего сообщения с будущим.
С другой стороны, почти официальная квалификация постсоветского периода как капиталистической реставрации носит во многом формальный характер. Проблема – в недооценке эволюции, проделанной капитализмом в ХХ в., и вклада советского проекта в последнюю. По классическому сценарию, пролетарии всех стран соединятся и сметут Капитал с лица Земли до технологического сдвига, ведущего к радикальному сокращению удельного веса промышленных рабочих в экономически занятом населении. Октябрьская революция спутала «дорожные» карты, и теперь остается только гадать насчет шансов капитализма дотянуть в иных обстоятельствах до постиндустриальной фазы и общества потребления. По мнению К. Поппера, одного из главных критиков К. Маркса в прошлом столетии, еще до (и без) Октября дело двинулось к современному состоянию (Поппер, 1992, 1993). Как минимум с начала ХХ в. капитализм устойчиво эволюционирует к более справедливому распределению прибавочной стоимости. И основоположники марксизма могли бы при желании рассмотреть в свое время зародыши этой тенденции, но улучшение социально-экономического положения наемных работников противоречило их учению. У К. Маркса для пролетариата при капитализме хороших сценариев не предусмотрено: стагнация – плохо, рецессия – еще хуже, экономический рост – вообще катастрофа, обрекающая рабочего на саморазрушение в погоне за «длинным» рублем или фунтом стерлингов. На практике условия труда и материальнобытовые обстоятельства промышленных рабочих к 60-м гг. прошлого века изменились настолько, что перестали быть хоть сколько-нибудь революционизирующим фактором, скорее, наоборот, они превратились в стабилизатор системы, что заставило левых интеллектуалов искать новых социальных агентов антикапиталистического движения.
К. Маркс, не видевший перспектив буржуазного строя, естественным образом не имел инструментов для их оценки и не мог, в частности, предположить, что финансовый капитал заберет себе такую власть, а центр экономической тяжести из реального сектора переедет на фондовый рынок. И физическая экспроприация утратит смысл главного рычага социального переворота. Крупносерийное производство с насыщением потребительских рынков становится придатком инфраструктуры сбыта и заложником биржевых спекуляций. Перераспределение ролей в экономике, смягчая старые дисбалансы (кризисы перепроизводства), создает новые («пузыри» на финансовом рынке, финансовая олигархия). Но таким образом история получает свое продолжение. Как теперь очевидно, авторы «Манифеста» недооценивали потенциал внутренней эволюции системы (Маркс, Энгельс, 1955 а). Не то, чтобы капитал научился достигать своих целей другими средствами (что означало бы его буквальное самоотрицание), но формы эксплуатации, не без подачи технического прогресса, становятся все более рафинированными и изощренными. Капитал, как заправский карточный шулер, легко может уступить одну и даже несколько партий кряду. Неслучайно историй о честно заработанном миллиарде гораздо больше сюжетов о честно сделанном (первом) миллионе.
Можно как угодно оценивать вклад советского проекта в эволюцию Запада, однако собственная логика капиталистического производства требовала нового качества рабочей силы, обеспечивая со своей стороны, по мере роста производительности труда, постепенный выход трудящихся классов из физической нищеты. В развитых странах минимальный материальный комфорт сегодня доступен не только самым низкооплачиваемым категориям занятых, но вообще всем нуждающимся. Сумма социальных гарантий, при всей своей крайней скромности в абсолютном выражении, не идет ни в какое сравнение с жизненными стандартами даже самого недавнего прошлого. В условиях гарантированного «прожиточного минимума» коренное противоречие капитализма переходит в хроническую, застойную форму. Энергии протеста против усиливающегося параллельно росту общего благосостояния социального расслоения недостаточно для преодоления сложившихся отношений. В то же время постоянно прибавляющая и все больше опережающая темпы роста общественного богатства тенденция к экономическому неравенству не оставляет вопросов по поводу исторической идентичности современности.
Таким образом, поздний капитализм не имеет достаточного потенциала качественной са-мотрансформации. Противоречия дестабилизируют и фрагментируют систему, но не накапливаются как источник интегральных поступательных исторических перемен. Материальные интересы из безусловной доминанты социальных коллизий становятся одним из их многочисленных измерений, подчас не самым главным. Отношения собственности, составляя фундамент и каркас объективной социальной реальности, определяют в большинстве случаев индивидуальное и коллективное поведение настолько опосредованным образом, что в ближайшей причине явления их можно обнаружить только точно зная, что ищешь. Так что объяснения и прогнозы экономического детерминизма, по определению, почти всегда более или менее тенденциозны.
С другой стороны, сложившийся научный язык не имеет достаточных средств для общезначимого определения современности, не говоря о сколько-нибудь приблизительной детализации картины будущего. (О последнем, не впадая в карикатуру или схоластику, сегодня можно говорить только косвенным образом). «Информационное общество», «общество третьей волны», «общество шестого технологического уклада» и подобные им квалификации уточняют представление о происходящем и намекают на его перспективы. Но, увлекаясь прилагательными, их авторы часто не замечают, если уже не замалчивают существительное, а именно хроническое течение коренного противоречия капитализма как главное, системообразующее содержание современности, определяющее текущее состояние общества потребления и его растущую вместе с внутренними противоречиями беспрецедентную историческую инерцию. В такой формуле «среднесрочное» будущее не обещает поступательного общественного развития.
Заключение . Социологизм – если не другое название отчуждения, то главный язык его описания. Отчуждение редуцирует человека на социальную функцию, а социологизм констатирует факт нечеловеческой организации общества за человеческий счет. Производство материальных условий жизни подчиняет человека объективной экономической логике. Постэкономические тенденции социального поведения связаны с растущей дистанцией к материальному производству.
Потерпевшая неудачу попытка технологического преодоления отчуждения в советском проекте показала, что физическая возможность нового общества не равна его исторической осуществимости. Между тем вопрос о проникающей способности социальной технологии на сегодняшний день остается открытым. Так или иначе, многие, разочаровавшись в исторической возможности будущего, нашли аргументы принять в качестве конца истории «вечное» настоящее (Фукуяма, 2010).
Поздний капитализм воспроизводит себя раньше, чем отрицает. При этом способы его самоотрицания, в случае перевеса тенденции, не обещают положительного снятия современности. Сравнительная бытовая стабильность общества потребления не гарантирует устойчивого миропорядка. Освободившаяся энергия, ранее связанная с задачами выживания, в отсутствие достаточных возможностей конструктивного приложения дополнительно расшатывает систему, уже сейчас становясь источником будущих потрясений.
Претензии (в составе заявки на универсальный характер) материалистического понимания истории на эвристическую способность за пределами «производственного» детерминизма противоречат постэкономическому качеству новой социальной реальности. Окончательное преодоление «производственной» обусловленности общественных отношений оставляет исключительным источником социальной динамики недоступную объективному знанию спонтанную продуктивность.