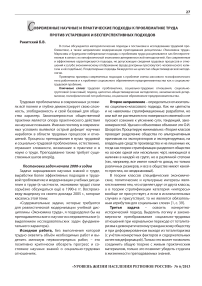Современные научные и практические подходы к проблематике труда против устаревших и бесперспективных подходов
Автор: Ракитский Б.В.
Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal
Рубрика: К новой экономике труда
Статья в выпуске: 6 (184), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются методологические подходы к постановке и исследованию трудовой проблематики, а также направление модернизации преподавания дисциплины «Экономика труда». Марксовы и буржуазно-либеральные подходы к проблемам труда расцениваются как бесперспективные в связи с их метафизической экономико-детерминистской методологией. Как современные и эффективные характеризуются подходы, не допускающие сведения трудовых процессов и отношений к сугубо экономическому отображению (вроде доктрины пресловутого человеческого капитала и ей подобных). Плодотворные подходы базируются на целостно обществоведческой методологии. Приведены примеры современных подходов к проблеме смены массового психофизического типа работников и к проблеме социального обременения предпринимательства как к социально-трудовой проблеме.
Трудовая проблематика, социально-трудовые отношения, социально-групповой (классовый) подход, целостно-обществоведческая методология, экономический детерминизм, психофизический тип работника, социальное обременение предпринимательства
Короткий адрес: https://sciup.org/143181793
IDR: 143181793
Текст научной статьи Современные научные и практические подходы к проблематике труда против устаревших и бесперспективных подходов
Трудовая проблематика в современных условиях всё полнее и глубже демонстрирует свою сложность, злободневность и свой базовый для общества характер. Закономерностью общественной практики является опора практического действия на научные познания. Именно поэтому в современных условиях выявился острый дефицит научных наработок в области трудовых процессов и отношений. Процессы преподавания в вузах трудовой и социально-трудовой проблематики, естественно, отражают сложности, возникшие в практике и в науке о труде. Преподавание также требует существенных шагов вперёд.
Постановки задач начала 2000-х годов
Задачи наращивания научных знаний о труде, выработки более эффективных подходов к трудовой проблематике и модернизации учебных дисциплин о труде (в частности, экономики труда) стали серьёзно обсуждаться ещё в 1990-е гг. Воспроизведу выдержку из своего доклада 2005 г., которые касались этой темы:
«Содержательные задачи, которые требуются для реалистической модернизации учебной дисциплины «Экономика труда», я подразделил бы на преподавательские и научно-исследовательские (с выделением исследовательских задач фундаментального характера).
Исходная работа, без выполнения которой трудно охватить объём необходимых работ и выделить минимум первоочередных работ, – это позитивно критически обозреть прогресс и состояние научных знаний о социально-трудовых отношениях.
Второе направление – определиться относительно социально-классового подхода. Как ни цветисты и не навязчивы стратификационные разработки, но они всё же растекаются по поверхности явлений и не пускают сознание к уяснению сути, тенденций, закономерностей. Удачно и объективно объяснил это О.И. Шкаратан. Процитирую минимально: «Теория классов проводит разделение общества по альтернативным признакам на эксплуататоров и эксплуатируемых, на владельцев средств производства и на лишенных их, тогда как теории стратификации разделяют общество на основе одной или нескольких черт, имеющихся в наличии в каждой из групп, но в различной степени (так, например, все имеют какой-то доход, но только различных размеров, и все в обществе имеют какой-то престиж, но неодинаковый).
В теории классов специфические экономические, политические и культурные интересы являются именно тем, что отделяет друг от друга классы, а в теории стратификации категория «интересы» вообще не присутствует, а если в исключительных случаях и присутствует, то не является обязательным атрибутом для социальных слоев» [1, с. 39].
Третья задача – освоить конкретноисторический подход. Выделить логику и закономерности преобразования социально-трудовых отношений при нормальном переходе от тоталитаризма к демократическому гражданскому обществу и при деформированном выходе из тоталитаризма (с учётом конкретных факторов и содержательных аспектов деформаций). Только это может позволить соединить общую теорию с живым практическим материалом, только это позволит убедить студента в жизненности преподаваемых знаний.
И ещё несколько задач, связанных с необходимостью фундаментально исследовать ряд проблем и разработать несколько фундаментальных категорий, без которых и наука о социально-трудовых отношениях, и учебная дисциплина «Экономика труда» буквально плывут, не могут обрести содержательной устойчивости. Это:
-
1. Разработать теорию социально-трудовых и экономико-трудовых состояний, выражающих их свойства и параметры. Долгое время мы обходились ссылками на понятие «общественно необходимое», но оно не очень-то содержательно проработано.
-
2. Проработать проблемы связанности экономических процессов с социальными процессами, вплоть до социально-правового регулирования, социального правоприменения и социального правопорядка. Укажу здесь самую злободневную проблему – связанность вложений в человека («человеческий капитал») с правами человека, с рисками их нарушения и с их гарантиями…
-
3. Отчётливо и притом цивилизованно размежевать теоретические и методологические подходы, восходящие к фундаментальным мировоззренческим классовым расхождениям. Прошло уже почти 15 лет с тех пор, как четвёртая русская революция (1989–1991 гг.) разрушила практику тоталитарной, государственной, обязательной для всех идеологии. С декабря 1993 г. идеологическое многообразие и недопустимость обязательной для всех государственной идеологии стали конституционными нормами. Общественные науки, включая и экономику труда, до сих пор не воспользовались и десятой долей проистекающих отсюда возможностей.
Учёные и преподаватели усвоили пока как норму лишь неэтичность упрекать друг к друга в тяготении к той или иной идеологии, тем или иным классовым подходам и теориям. На идеологически последовательных теоретиков и преподавателей многие посматривают косо. А между тем ничего существенного и практически полезного в обществознании (включая и экономику труда) создать и преподать невозможно, если сваливать в одну кучу трактовки из классово разных теорий. Кто не верит, пусть проверит. Почитайте «мыльную литературу» хотя бы о социальном партнёрстве. Вместо изучения реальных взаимодействий социальных групп на макро- и микросоциальном уровнях идёт пустословие о гармонизации отношений. И где? В России, которая по гарантированному государством минимуму заработной платы находится на последнем месте в Евро- пе (после Румынии, Украины и Молдавии), где при систематической задолженности по выплатам зарплаты всегда высокий уровень рентабельности, где вся государственная социальная политика, начиная с 1992 г., базируется на конфискациях и урезаниях доходов и социально-трудовых прав и свобод, где нет даже трудовых судов, не говоря уже о демократических профсоюзах!
Если мы обустроим науку о социально-трудовых отношениях и преподавание экономики труда с учётом множественности идеологий, практика и студенты впервые в отечественной истории получат объёмное и объективное социально-политическое видение и проблем, и подходов к их решениям. До сих пор, к сожалению, они этого не получают. И всё никак не могут разобраться, почему сегодняшняя ситуация «Много денег у государства» вроде бы даже гораздо опаснее (как объясняют высокопоставленные финансисты и экономисты), чем ситуация «У государства денег нет» (характерная для 1990-х гг.). Минимальную гарантированную зарплату, нормализацию уровня пенсий и пособий, возврат конфискованных Б.Н. Ельциным сбережений населения проводить никак нельзя или преждевременно и опасно, а досрочный возврат внешних долгов – можно и нужно. Почему? Ответы на эти вопросы есть. Но они лежат в пространстве мировоззренчески дифференцированных общественных наук. Идти к истине – значит входить в это пространство и цивилизованно его обустраивать» [2, с. 46–47].
Эти постановки за прошедшее время стали ещё более актуальными, подчас очевидно актуальными. Сегодня мы можем говорить о трудовых проблемах с учётом и проведенных за последние годы работ, и нового практического опыта. То есть более содержательно и предметно.
Стратегическое видение трудовой проблематики в надлежащем общественном контексте
За множеством неотложных и хлопотных проблем и дел обычно ускользает от внимания, насколько обострились коренные общественные противоречия, насколько стало неотложным выдвинуть их в полном объёме на повестку дня и сосредоточиться именно на них как на решающих. То есть ускользает от внимания стратегическое видение ситуации и перспективы .
Социально-трудовая ситуация в современной России деградирует уже более 20 лет подряд. Сна- чала казалось и изображалось так, будто страна столкнулась с привычными советским людям «временными трудностями», что уроки будут извлечены, правительство перестанет делать глупости и грубые ошибки, и ситуация выправится. Но примерно к 2000 г. стало понятно, что социальное положение трудящихся, созданное в результате геноцидных шоковых реформ, и российское предпринимательство, и российское правительство воспринимают не как временный провал, а как новый нормальный стартовый уровень и образ жизни трудящихся. Теперь уже выросло новое поколение, для которого дореформенное положение трудящихся – как бы сказочное, былинное, а наличное – реальное, привычное.
Между тем, деградация социально-трудовой ситуации не может пройти бесследно и позабыться, даже когда уйдет поколение, которое непосредственно было подвергнуто экономическому геноциду в 1990-е гг. Шоковые реформы 1990-х гг. заложили комплекс социальных угроз долговременного действия. Это угрозы нарушения национальной безопасности, то есть угрозы нежизнеспособности нации, народа в целом.
Долговременные следствия реформ 1990-х гг., проведённых по сценарию Международного валютного фонда и Всемирного банка реконструкции и развития (методом «шоковой терапии»), по-настоящему начинаются и будут сказываться в 2010-е гг. Всесторонние неувязки и неурядицы, многочисленные проявления нежизнеспособности и неэффективности социально-хозяйственного механизма управления и функционирования имеют, как правило, единую причину, заложенную геноцидными реформами 1990-х гг. и культивировавшуюся в последующие годы.
Если говорить прямо и выделять суть нынешней неблагополучной ситуации, то правда такова: Россия пробуксовала, по сути, без движения вперёд двадцать лет, не подготовилась к социальным и хозяйственным вызовам ХХI в. Руководство страны исходило из представлений и рекомендаций либерально-фундаменталистской идеологии и науки. Слепота этой доктрины обнаружилась особенно явно в период мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 г. Исключительно благоприятная для России ситуация на нефтяных и газовых рынках, не была использована ни для модерниза- ции российской жизни, ни для перехода к инновационным способам развития. Огромные дополнительные нефтегазовые доходы 2000-х гг. оказались использованными как ресурс не российской экономикой и не российским народом, а, в основном, западными странами.
В рамках такого топтания на месте и отсутствия плодотворной стратегии экономического и социального развития, начиная с 1990-х гг., сформировался ряд критических неблагополучий в обществе и в хозяйстве. Их взаимоувязанность и взаимоуси-ление создают обстановку фронтального неблагополучия, угрожающего не просто торможением, а приостановкой развития страны.
В социально-трудовой сфере и в сфере социального хозяйства1 самыми острыми неблагополучиями в настоящее время являются следующие:
-
1. Способы хозяйствования нового российского предпринимательства сформировались в 1990-е гг. в соответствии с целями форсированного первоначального накопления и законсервировались в 2000-е гг. Разумеется, они трансформировались. Из способов первоначального крупномасштабного захвата без правил они превратились в беспрерывный передел «по силе», но не по экономической и социальной конкурентоспособности, а преимущественно по «административному ресурсу». Но деструктивная составляющая сложившихся в России способов хозяйствования остаётся неизменной: захват вместо созидания, передел вместо развития.
-
2. Критически опасно деформированы в современной России социально-структурные (социально-классовые) взаимоотношения властей, предпринимательства и эксплуатируемых трудящихся.
-
3. По вине государства и предпринимательства трудящиеся России фактически лишены продуктивной занятости2 не только в последние 20 лет, но и в перспективе. Состав занятий деградирует,
но при этом не предпринимается необходимых и достаточных мер для перелома неблагоприятных тенденций. Первая крупная обещанная мера – создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. –обозначена в Указе Президента РФ № 596 от 7 мая 2012 г. Но для обеспечения должного типа занятости (полная, добровольно избранная, продуктивная) потребуются немалые дополнительные меры.
-
4. Конкуренция на российском рынке труда носит характер, в социальном отношении, во многом нездоровый.
-
5. Возобладала тенденция массовой деградации работника (рабочей силы). К настоящему времени выявилась массовая кадровая необеспеченность российской индустрии квалифицированными рабочими кадрами, кадрами управленцев и инженерно-техническими кадрами. Между тем, в странах – лидерах мирового реального производства уже не абстрактно, а в практической плоскости ставятся как неотложные и решаются проблемы перехода от психофизического типа работника, характерного для индустриального производства, к психофизическому типу постиндустриального работника. Другими словами, возобладавшая в России тенденция ведёт не в будущее, а в прошлое, направлена в прямо противоположную сторону, нежели тенденции, формирующие перспективы мирового реального производства.
-
6. За 20 лет не решён социальный вопрос восстановительного роста трудовых доходов. Уровень трудовых доходов искусственно занижен, не обеспечивает достойного уровня жизни при добросовестном нормальном (нечрезмерном) труде. Обозначились признаки социальной сегрегации.
-
7. Отрасли социального хозяйства (здравоохранение, просвещение, высшая школа, культурное обслуживание населения, жилищно-коммунальное обслуживание), социальное страхование и пенсионное обеспечение пришли в состояние полураспада. Нормальный (бывший 20 лет назад привычным) набор социальных услуг стал недоступен большинству населения.
-
8. До крайности обострён жилищный вопрос. Меры по его не то что решению, а хотя бы ослаблению остроты, похоже, преднамеренно блокируются государством, «идя навстречу интересам предпринимательства».
В итоге за 20 лет не было создано предпринимательства, занятого развитием национального хозяйства всерьёз и надолго. За 20 лет российское народное хозяйство качественно не изменилось в лучшую сторону. Оно продолжало отставать от хозяйств других стран по многим важнейшим параметрам. Оно не закрепило, а утратило ряд прежних благоприятных позиций и свойств. Постоянно подчёркиваемый правительством быстрый рост (высокие темпы роста) впечатляет только малограмотных: на самом деле это не темпы развития, а темпы восстановительного роста . Экономика России благодаря высоким темпам роста, главным образом, компенсировала резкое и очень глубокое (вдвое) падение объёмов производства в начале 1990-х гг.
Неконструктивное российское предпринимательство уже 20 с лишним лет компенсирует свою не- компетентность и свою неконкурентоспособность усилением эксплуатации трудящихся, неоправданно льготным налогообложением и занижением социально-страховых отчислений. Тем самым сложилась и продолжается практика хозяйствования, игнорирующая общепризнанные принципы и нормы и активно паразитирующая на попустительстве государства российскому предпринимательству.
Так не может продолжаться до бесконечности. Уже назрела необходимость выбора: либо российское хозяйство станет вестись в цивилизованном режиме (без чрезмерной эксплуатации трудящихся и многомиллионной нищеты), либо страна ринется в международную изоляцию, защищая своё некомпетентное и неконкурентоспособное предпринимательство и прогрессивно наращивая своё хозяйственное отставание.
Нормальные для капиталистического строя взаимоотношения предполагают взаимосвязи социальных обязанностей, социальной ответственности и социальной защищённости. Именно этим обеспечивается социальная стабильность. В нашей стране государство не исполняет в полном объёме свои конституционные обязанности в социальной и социально-трудовой сферах, предпринимательство как класс не имеет фактически никаких социальных обременений собственности, а трудящиеся лишены нормальной социальной защищённости. Затянувшееся отставание формирования гражданского многосубъектного общества привело к таким деформациям общественных функций, как кастоо-бразование чиновничества, социальная апатия трудящихся и правовой нигилизм предпринимательства, инициировавший повальную коррупцию.
Деформация структурных взаимоотношений власти, предпринимательства и трудящихся является постоянно действующим глубинным фактором кризисной деформации социально-трудовых и всех иных социальных отношений.
Таков круг основных социальных неблагополучий в современной России. Комплексно и надёжно преодолеть эту совокупность неблагополучий не удаётся и не удастся методом «расшивки узких мест» и разовыми, точечными щедротами от государства. Требуется системная перемена принципиальных подходов, иная стратегия социальной политики и в её составе – стратегическая перемена подходов к постановке и решению социальнотрудовых проблем.
Принципиальные различия подходов к трудовым проблемам и отношениям
У А. Смита трудовые проблемы ещё не рассматриваются как сугубо экономические. Смит, развивший доктрину «невидимой руки рынка», даже не заикнулся об этой руке, обсуждая общие проблемы уровня заработной платы. Напротив, он говорил о социальных силах, о том, что предпринимательство организовано, а рабочие – не организованы. Отсюда и занижение заработков.
От А. Смита наука о труде пошла не в сторону видения труда как сложного общественного процесса, включающего экономические, социальные, психологические, политические и др. аспекты), а в сторону абстрагирования от всех наиважнейших аспектов, кроме экономического. К. Маркс трактовал рабочую силу уже как товар, а взаимоотношения работника и нанимателя как куплю – продажу рабочей силы. То есть как сугубо экономический процесс.
Вся буржуазная экономическая наука придерживается той же доктрины, что и К. Маркс. «Рабочая сила – товар» – это вообще-то почти мировоззрение. Я мог бы привести немало примеров негативного, парализующего действия этого подхода из опыта современного российского рабочего и профсоюзного движения. В научных разработках эта же самая доктрина приводит к тупиковым подходам и рассуждениям о трудовых процессах и отношениях
Низведение труда до уровня сугубо экономического явления - лишь фрагмент более широкого бесперспективного подхода. В современных экономических науках господствует методология, суть которой – изображать и интерпретировать всё на свете как экономическое явление. Отсюда доктрины человеческого капитала, имиджевого капитала, репутационного капитала, социального капитала и т. д. и т. п. Видимо, это зачем-то надо и делается сознательно. Ибо очень искусственно и неубедительно.
У К. Маркса в «Капитале» и у либеральной буржуазной «экономикс» общая методология экономического детерминизма (разновидность вульгарного метафизического детерминизма).
Подход, который противостоит этой «сугубой экономизации» труда и трудовых проблем, основывается на целостно обществоведческой методологии (в отличие от экономико-детерминистской). Труд рассматривается не как экономический, а как социально-экономический процесс. И трудовые отношения всегда (всегда без исключения) – социально-трудовые. На этот счёт имеются и фундаментальные теоретические, и прикладные разработки.
Позвольте показать наш подход на примере рассмотрения двух проблем (больше не позволяют размеры статьи).
Перемена массовидного психофизического типа работников и глубокие перемены типов и форм занятости и организации производства и труда
Понятие «психофизический тип работника» не часто попадает в поле зрения трудовиков потому, что охватывает (отражает) глубинные характеристики общественно-трудовой практики. Глубинные сущностные свойства меняются нечасто, а потому фиксируемые ими сущностные (да и содержательные) характеристики воспринимаются как постоянные и даже вечные. Но вечного в обществе ничего нет. И потому в эпохи больших перемен в общественно-трудовой практике возникают вопросы большой сложности, поставить которые и ответить на которые социально-трудовая наука бывает не готова или не сразу готова.
Например, первая промышленная революция коренным образом изменила и технику, и организацию производства. Одновременно она изменила и массовидный тип работника. До промышленного переворота массовидным типом промышленного работника был ремесленник. Когда образовались капиталистические мануфактуры, работали на них, по сути, те же ремесленники. Машина и машинная фабрика не нуждаются в ремесленнике. Они породили новый тип работника – промышленного рабочего – и целый общественный класс таких работников – рабочий класс.
До исследований К. Маркса (опубликованы в 1 томе «Капитала» в 1867 г.) рабочий как психофизический тип работника не был выявлен и научно обоснован. Европа взяла для обозначения его осо- бенностей, как ей казалось, древнеримский аналог, и стала называть наёмных работников нового типа пролетариями. Попала пальцем в небо. Класс наёмных фабричных рабочих не имел ничего общего с римским пролетариатом – разве что нищету, неприглядный внешний вид и грубые манеры.
В наше время названия для нового типа массовидного работника подбираются, к счастью, более осмотрительно. Используется приём «пост-». Констатируется, что работник в массе своей становится уже не индустриальным. Но каким? это пока непонятно. Поэтому название ему – постиндустриальный (послеиндустриальный). А дальше гуляет фантазия: у одних достаточным признаком постиндустриальности выступает информационность (использование в процессе труда возросшего потока информации), у других – креативность (сиречь творчество); есть разные варианты. Научно глубоких убедительных исследований нового массовидного типа работников пока нет.
Уловить существо перемен в массовидном типе работника крайне важно, чтобы правильно ориентироваться в реальных тенденциях. Напомню, что, например, В.И. Ленин поначалу плохо разобрался в тейлоризме, принял его за алчное «выжимание пота», за безудержную интенсификацию труда. А тейлоризм на самом деле был системой завершения развития индустриального типа работника. Через несколько лет В.И. Ленину пришлось изменить своё отношение к тейлоризму.
Всё здесь сказанное – небольшое предисловие к главной мысли: в современных условиях на самые разные новшества и перемены в организации труда следует смотреть очень внимательно и изучающее, ибо общественная практика проходит смену массовидного психофизического типа работника . То, что идёт вразрез с привычным, может оказаться весьма перспективным и прогрессивным, и тогда относиться к нему нужно не как к наглости, бесчинству и домогательству предпринимательства, а совсем иначе.
Возьмём, к примеру, проблему заёмного труда, как она стоит сейчас в России. Известно, что подходы к заёмному труду предпринимательства и трудящихся, имеющих постоянную занятость, резко разошлись. Профсоюзы России в течение ряда лет дружно блокировали принятие закона о заёмном труде под лозунгом «Нет заёмному труду!». Сейчас успешно продвигается законопроект о запрете заёмного труда.
Для предпринимателей система заёмного труда сулит большие плюсы. Она, прежде всего, избавляет от ряда рисков, связанных с формированием комплектного объёма и состава работников (эти риски берёт на себя агентство-посредник в найме). Избавляется наниматель и от рисков найма работников с вредными привычками, недисциплинированных, не способных или упорно не желающих повышать квалификацию. Агент-посредник поможет предпринимателю в кадровой работе, упростит её, по крайней мере, на стадии найма, избавит от проблем прерывания контракта по инициативе работодателя.
Что касается работников, то они по отношению к заёмному труду делятся на два лагеря. Те, кто нуждается в найме, не имеет постоянной работы, заинтересованы в кадровых агентствах-посредниках. Те, кто имеет постоянную занятость, видят в заёмных работниках конкурентов за рабочее место.
Предсказать будущее заёмного труда в России нетрудно. Он рано или поздно будет распространён как форма занятости. Собственно, он и сейчас уже фактически распространён, он и сейчас уже реально является для постоянных работников конкурентом на рынке труда. Но он получит рано или поздно и должное правовое закрепление. Вся борьба под лозунгом «Нет заёмному труду!» кончится в итоге ничем, как это уже не раз бывало с борьбой против новшества как такового.
Борьба против новшества как такового искажает подход, адекватный интересам эксплуатируемых трудящихся. Интересы эти состоят не в блокаде новшеств, а в недопущении их неблагоприятного для трудящихся применения. А вот эти-то неблагоприятности как раз и остаются в стороне, вне фокуса классовой борьбы. Борьба с новшеством в итоге проигрывается, а условия его благоприятного для трудящихся применения не завоёваны. Разве не так было со сменной работой, со скользящим графиком, с зачётным периодом и др. новшествами от работодателя?
Ещё и ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что в период перехода к новому массовидному психофизическому типу работника самые разнообразные новшества следовало бы рассматривать и оценивать не порознь, а в контексте тенденций формирования (в увязке с магистральными направлениями формирования) работника нового типа (того самого загадочного постиндустриального типа). Обратите внимание на такой штрих. Оценивая те или иные новшества от работодателя в по- рядке, как говорится, их поступления, профсоюзы и трудящиеся оценивают эти новшества с позиций работника, имеющего постоянное рабочее место и бессрочную (постоянную) занятость. А тенденции формирования постиндустриального работника, похоже, ведут к совершенно иной форме вхождения массовидного работника в общественное разделение труда, в общественную организацию труда. Всё больше появляется работников, расстановкой которых в общественном производстве распоряжается посредник (сегодня это не только заёмные работники, но и, например, всё большее число профессоров высшей школы). Всё шире распространяется практический подход к кадрам как к человеческому капиталу, когда право применения способностей перестаёт принадлежать работнику (у спортсменов-профессионалов эта форма занятости уже в ходу, на очереди интеллектуалы, учёные, изобретатели).
Фундаментальные научные разработки проблемы становления нового массовидного типа работника исключительно актуальны, хотя многие этого не видят. Такие разработки не могут не быть классово ориентированными.
Неотложная социально-трудовая проблема – наладить цивилизованную систему социального обременения предпринимательства
Рассмотрение трудовой проблематики по существу постоянно наталкивается как на причину социально-трудовых неблагополучий на поведение российского бизнеса. На слуху и вопрос о социальной ответственности российского предпринимательства. Обратимся к этой теме на уровне научных постановок и подходов.
Прежде всего, подчёркнём, что о надлежащей социальной ответственности предпринимательства необходимо рассуждать в двояком ключе: как о социальной ответственности каждого отдельного предпринимателя и как о социальной ответственности предпринимательства как общественного класса.
Одним из ключевых понятий, используемых при выстраивании системы социальной ответственности предпринимательства, является понятие социального обременения собственности.
Раскроем принцип обременения3 собственности социальными обязательствами на примере российской капиталистической практики.
В России общественная потребность обременения капиталистической собственности социальными обязательствами стала весьма кособоко осознаваться в последнее время в виде разговоров о социальной ответственности бизнеса. Сразу приходится отметить, что проблемы ответственности бизнеса в нашем обществе ставятся принципиально неверно. На официальном уровне формулировки и призывы к социальной ответственности бизнеса крайне неопределённы. В общественном сознании и в направляемой свыше пропаганде социальная ответственность бизнеса (предпринимательства) выглядит как рекомендация более или менее соответствовать произвольным ожиданиям добровольных щедрот, более масштабной благотворительности. На деле всё кончается сверхналоговыми изъятиями денег или финансированием указанных сверху операций (самые наглядные – финансирование некоторых общественных движений; покупка одним олигархом яиц Фаберже, другим – «коллекции Ростроповича»; спонсирование корпорациями футбольных клубов и др.).
А между тем проблема социальной ответственности и социальных обязанностей бизнеса восходит к пониманию природы частной капиталистической собственности в современном обществе. Современный российский бизнес родился как реализация апологии (некритического восхваления) частной собственности в противовес государственной и любой иной, не частной. Революция отношений собственности в 1990-е гг. зиждилась не на идее поиска эффективного собственника, а на идее уничтожения любой формы собственности ради утверждения исключительно частной собственности. Отсюда сведение перемен в системе властно-хозяйственных форм к приватизации . Напомним, что приватизация в СССР осуществлялась антиконституционно, а в России – противозаконно, в основном по указам Президента Ельцина, вопреки законам. Итоги приватизации 1990-х гг. до сих пор не стали легитимными, принятыми обществом как правомерные, справедливые.
Эффективный собственник – это не только экономически более конкурентоспособный собственник. Это, в дополнение к конкурентоспособности, ещё и социально обременённый собственник, полностью выполняющий социальные обременения собственности. Этот принцип распространяется на все без исключения формы собственности, а не только на частную.
О каких социальных обременениях собственности должна идти речь и в чём обоснованность обременений?
Собственники – субъекты, у которых сосредоточена хозяйственная власть. Собственники распоряжаются, владеют и пользуются ресурсами, созданными многими поколениями народа той страны, в которой ведут хозяйство, а также природными ресурсами этой страны. Имеет место – как основная закономерность капиталистического общества – глубинное противоречие между социализированным (общественно-организованным, обобществлённым) производством и частнокапиталистическим присвоением. Формами разрешения этого противоречия и являются социальные обременения частных собственников.
В России не только частный собственник, особенно «новый русский», но и большинство граждан восприняли представления о частной собственности как об абсолютистской власти капитала. Отсюда и полное непонимание социальных обязанностей и социальной ответственности частной собственности.
Задачей и гражданского общества, и демократического государства (а уж тем более государства, объявляющего себя в своей Конституции социальным) является целенаправленное формирование реальных обременений частной собственности (и всех без исключения иных видов собственности) в России. Среди этих обременений, несомненно, должны быть:
– обязанность обеспечивать продуктивную (то есть конкурентоспособную) занятость для большинства (для 80–90%) экономически активных граждан страны;
– обязанность инвестировать основную часть чистой прибыли в России;
– обязанность поддерживать материальнотехническую базу общества в конкурентоспособном состоянии;
– обязанность обеспечивать справедливые и достойные общественные и производственные условия труда на уровне норм Пересмотренной Европейской Социальной Хартии.
Подобные обременения заставили бы российских предпринимателей не только конкурировать друг с другом, но и общественно полезно «складывать усилия» и не уклоняться от участия в ассоциациях предпринимателей.
Предпринимательство как класс должно организоваться и обрести реальную социальную и экономическую субъектность. Вхождение предпринимателей в предпринимательские объединения должно стать обязательным по закону. Все трёхсторонние соглашения, в том числе отраслевые, должны стать обязательными для конкретных предпринимателей.
Социальные обременения предпринимательства как класса требуется узаконить федеральными законами. Необходимо узаконить также, что невыполнение социальных обременений влечёт за собою прекращение экономической деятельности на территории России.
***
Отказ от экономико-детерминистских подходов к трудовой проблематике сулит крупные научные прорывы. Нет, не так. Скажу иначе. Без отказа от экономико-детерминистской методологии изучения и решения трудовых проблем нет никакой возможности выработать эффективную общественную и государственную политику в области труда, занятости, оплаты труда, принуждения предпринимательства к цивилизованной работе, модернизации и инноваций на производстве, трудовой миграции и т. д.
Иная методология исследований социальнотрудовой проблематики, выработки современных решений трудовых проблем уже создана. Но создана она отечественными обществоведами. А нынешний «менталитет» приучен ко всему американскому. Американская наука о труде в силу своей методологической отсталости не в состоянии ни как следует понять наши трудовые проблемы, ни предложить стоящие решения. Практика последних двадцати лет это наглядно продемонстрировала.
*****
Список литературы Современные научные и практические подходы к проблематике труда против устаревших и бесперспективных подходов
- Радаев В.В. Шкаратана О.И. Социальная стратификация. - М.: Наука, 1995. EDN: SMQYMH
- Ракитский Б.В. Назревшие проблемы модернизации учебной дисциплины «Экономика труда» // Уровень жизни населения регионов России. - 2006, № 9. EDN: MBWDPV