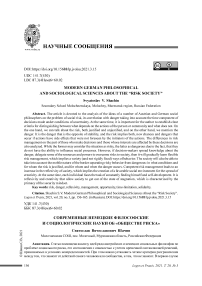Современные немецкие философские и социологические науки об «обществе риска»
Автор: Шачин Святослав Вячеславович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу идей ряда австрийских и немецких социальных философов по проблеме социального риска, его соотношения с опасностью с учетом временной составляющей решений, принимаемых в условиях неопределенностей. При этом важно установить четкие критерии разграничения между тем, что зависит от действий самого человека или сообщества, и тем, что не зависит. В первом случае можно говорить о риске как оправданном, так и неоправданном, а во втором - об опасности. Именно она является противоположностью стабильности, а риск несет в себе как новые шансы, так и опасности, которые наступают в случае, если действия имеют побочные эффекты, непредусмотренные инициаторами действий. Также анализируются различия в обращении с риском со стороны тех, кто принимает решение, и тех, чьи интересы ими затрагиваются. При этом первые могут рассматривать ситуацию как рискованную, а вторые - как опасную в силу того, что не имеют возможности оказывать воздействия на социальные процессы. Однако если принимающие решения будут распространять знания об опасности, делегировать часть ресурсов и полномочий по преодолению рисков обществу, то оно будет постепенно учиться гибкому обращению с рисками, что предполагает разнообразные (а не жестко фиксированные) способы поведения. Также общество сумеет учесть подвижный характер границы, отделяющей рискованное поведение от опасного: в каких условиях и для кого риск оправдан, а для кого и когда наступает опасность. Грамотное обращение с риском ведет к повышению рефлексивности общества, что подразумевает создание благоприятной социальной среды для распространения креативности. При этом перед каждым индивидом встает задача постоянного нахождения себя и саморазвития. Именно рефлексивность и креативность позволяет обществу выйти из состояния застоя, для которого характерен примат установки на безопасность.
Риск, опасность, рефлексивность, управление, возможность, временность, солидарность
Короткий адрес: https://sciup.org/149139414
IDR: 149139414 | УДК: 141.7(430) | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2021.3.15
Текст научной статьи Современные немецкие философские и социологические науки об «обществе риска»
DOI:
Цитирование. Шачин С. В. Современные немецкие философские и социологические науки об «обществе риска» // Logos et Praxis. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 156–165. – DOI:
К критике обыденного понимания риска и методологии его научного понимания
Роль философии в социальных науках состоит в выработке методологии мышления, на основе которой возможны глубокая постановка проблемы и определение темы исследования. После этого могут быть сформулированы исходные понятия и раскрыто их содержание как раз на базе предложенной методологии. При недостаточной проработке методологии в науку рискуют проникнуть обыденные суждения, которые не станут предметом критической рефлексии.
В обыденном сознании понятие риска часто употребляется в том смысле, что риск есть выражение какой-то опасности или вероятности ее наступления (что уже более сложно, так как тут мы начинаем «включать» вероятностное мышление, но мы еще не покидаем пространство обыденного сознания: оно настраивает нас мыслить сам социальный мир в таких категориях, что порог «научности» мы еще не преодолели). То есть в привычной жизненной практике все, что чревато опасностью, мы считаем рискованным; если же мы задумаемся о том, что жить вообще опасно, то с позиции вероятностного мышления скажем, что рискованным будет то, что превосходит некий привычный для нас и для нашего окружения порог опасности. Альтер- нативой риска является состояние стабильности, в пределе – счастья как максимума субъективного благополучия.
При этом обыденное сознание еще не вполне освободилось от социал-дарвинистс-кого содержания, согласно которому благополучие приходит к самым умным, трудолюбивым, удачливым, сильным и проч., а остальные могут жить в зоне рисков, но если будут упорно работать, учиться и пр., то постепенно начнут жить все лучше и лучше. Эта точка зрения страдает односторонностью, поскольку подразумевает, что весь тот огромный комплекс социальных отношений, в которые включен человек, зависит от его субъективной воли и действий. Поэтому в условиях, когда вырастает нестабильность социального мира, люди начинают понимать односторонность этой предпосылки. Но все равно обладатели больших объемов экономического или политического капитала склонны считать себя достойными благополучной жизни, а не входящих в свою страту – теми, кому в лучшем случае не повезло, так как они не успели или не решились рискнуть вовремя и воспользоваться возможностями социального продвижения. То есть обыденный подход углубляется до рефлексивности и тем самым подбирается к научному, но все равно в нем остается недостаток в том смысле, что остается жестким противоречие между риском как зоной неопределенности и стабильностью (благопо- лучием) как зоной желательной обеспеченной жизни [Матюх 2012; Столярова 2020].
Это противоречие необходимо проанализировать для того, чтобы наметить переходы между риском и стабильностью и тем самым установить между ними сложный комплекс взаимных отношений. Это можно сделать за счет более детального анализа самого риска, выделения в нем сложного комплекса социальных феноменов и выработки соответствующих понятий для обозначения каждого из них. В этом и заключается методология анализа социальных рисков, которую мы реализуем в данной статье, опираясь на идеи ряда немецкоязычных социальных философов и социологов, недостаточно известных в отечественной научной культуре.
В отечественной науке также предприняты усилия в этом направлении – в качестве примера может быть приведено следующее определение риска из статьи волгоградских авторов: «Социальный риск есть осознание индивидом на базе своих знаний, информации и жизненного опыта вероятности возникновения какого-либо ущерба для своего потенциала в результате оценки ожидаемой социальной ситуации в качестве “опасной” в условиях неопределенности современного общества» [Василенко, Ткаченко, 2014, 42]. Однако имеются тонкие различия в содержании понятий риска и опасности, которые как раз и были открыты немецкими учеными, на базе чего возникает понимание рамочных условий, внутри которых возможны сознательные действия каждого индивида с целью улучшения своего социального положения в частности и содействия прогрессивным изменениям общества в целом.
Волгоградские авторы при этом продолжают подход О.Н. Яницкого, который еще в статье 2003 г. выразил опасение, что российское общество постепенно трансформируется в общество всеобщего риска, последствием чего является астенический синдром – привыкание к жизни в экстремальных условиях; однако в качестве ответа на этот вызов используется всемерное разрастание силовых структур, призванных обеспечивать общественную безопасность. В результате «не развитие, а безопасность становится главным ориентиром деятельности соци- альных акторов и социальных институтов» [Яницкий 2003, 31]. Каким же образом сменить ориентиры? Ответ на этот фундаментальный вопрос может быть может быть найден, если мы более детально проанализируем социальные риски и найдем в них такие, что оказываются следствием активных действий, в ходе которых человек или люди были или становятся субъектом (индивидуальным или коллективным) социальных изменений или содержат возможности для них; поэтому именно активные действия и нуждаются в новых ориентирах, а каких именно – покажет дальнейший анализ. В результате сами риски могут быть преобразованы в конструктивном ключе.
Обсуждение проблемы риска и опасности
Начнем с критики исходного пункта обыденного мышления, противопоставляющего рискам благополучие. Мы будем опираться на идеи ученых из университета Линца (Австрия), изложенных в тексте [Dibold et al. web].
Прежде всего это разграничение риска и благополучия не может быть четко проведено: если мы имели выбор между двумя альтернативами и выбрали одну, чреватую максимумом благополучия и минимумом потерь, то мы не можем знать, не лишились ли мы чего-нибудь, если отказались от выбора другой альтернативы; к тому же от рискованного поведения нельзя с уверенностью отказаться, так как отказ может повлечь за собой упущенные возможности, о которых мы даже можем не знать после совершения выбора в надежную сторону. Отсюда становится ясным, что риск – это не опасность вреда, как считает обыденное сознание; риском также может быть отсутствие риска. Следовательно, более глубоко было бы считать риск зоной неопределенности, в которой может быть как раз все, что угодно: в пределе – как максимум вреда, так и максимум блага; и узнать мы это сможем только тогда, когда совершим выбор и наступят последствия нашего действия. Поэтому решать и действовать, учитывая риск, означает прежде всего уметь каким-то образом обращаться с неопределенностью.
Поэтому указанные авторы предлагают модифицировать исходные понятия, чтобы точнее разобраться с риском. Они уточняют исходное противопоставление: безопасности будет противоположен не риск как таковой, а риск или опасность. Разница тут вот в чем: если какой-либо вред будет результатом чьих-то сознательных решений, то надо будет говорить о том, что решения содержат в себе риск; а вот если он будет результатом каких-либо непредвиденных последствий, которые приходят из окружающего мира, то можно говорить об опасности. Поэтому риски от опасностей отличаются как раз степенью предсказуемости и соответственно рассчиты-ваемости: за риски могут нести ответственность принимавшие решение лица, поскольку можно было их избежать; риски можно рассчитывать как раз в момент принятия решения; а вот опасности можно рассматривать как вызовы самой неопределенности, как внешние факторы, которые можно только максимально стараться минимизировать, но никогда невозможно до конца предсказать и предвидеть. То есть риски становятся определяемыми, а вот опасности остаются в области неопределенного, и мы тем самым уже продвинулись вперед в нашем исходном анализе [Dibold et al. web].
К проблеме соотношения риска и опасности
Но тут авторы приходят к интересной диалектике: дело в том, что риски и опасности также невозможно до конца отделить друг от друга; а особенно сложен тот случай, когда какой-либо вред имеет своим источником как риск, так и опасность одновременно: если бы не было рискованного решения, то не пришли бы в действие некие еще не познанные обществом факторы и не внесли бы свой вклад, проистекающий уже из опасности. То есть максимальный вред приносят не рискованные решения как таковые, а такие, которые приводят к действиям, что уже лежат в зоне опасности. Отсюда вытекает: сам по себе риск еще не может быть однозначно расценен как нечто негативное, но надо стремиться к тому, чтобы при принятии рискованных решений оценивать как раз степень опасности, то есть срыва в неконтролируемые последствия, и постараться минимизировать именно такой вариант развития событий. Что же касается существования опасности, то надо оценить, откуда она может прийти, то есть какой фактор за пределами нашей социальной системы может быть ответственен за такое воздействие на нашу систему извне, которое нами не было предусмотрено, и постараться этот фактор нейтрализовать [Dibold et al. web].
Данный анализ может помочь при прояснении социальной ситуации, связанной с ограничениями в условиях пандемии. Можно говорить об опасности вируса и разрастания экономического кризиса в результате ограничений. Но при этом кризис несет в себе также сознательную составляющую в том смысле, что от решений экономических субъектов до определенной степени зависит его глубина. Поэтому он относится не только к зоне опасности, но еще и к зоне риска, а вот рост активности вируса – к зоне опасности. Способы воздействия на риск могут быть только узконаправленными, то есть провоцирующими те решения субъектов, которые минимизируют потери и используют появившиеся новые возможности. Отсюда становится понятным, что необходимо стимулировать переориентацию экономической активности, а не простое ее сохранение, чреватое ее сворачиванием. С опасностью же можно справиться в том случае, если использовать те позитивные возможности, которые открываются как раз благодаря риску. В противном случае опасность накладывается на риск и возрастает.
Риски и опасности: от решений к вопросу о росте сознательности
Следующая понятийная пара, которую предлагают австрийские ученые, – это различие между теми, кто принимает управленческие решения, и теми, кого настигают их последствия. Дело в том, что те, кто стоят наверху социальной иерархии, часто принимают решения, негативные последствия которых они стремятся переложить на тех, кто стоит ниже, а выгодами решений стремятся воспользоваться сами. В то же время те, кто на- ходится внизу иерархии, оказываются в ситуации внешней опасности, то есть принимаемые наверху решения ими воспринимаются именно как внешние факторы, на которые они не могут повлиять. Возникает интересная диалектика риска и опасности: то, что для принимающих решения предстает как риск, для тех, кто этими решениями затронут, выступает как опасность. Получается, что риск и опасность тесно переплетены, если рассматривать общество в целом: риски есть опасности, а опасности есть риски. Поэтому вместо того, чтобы продвинуться вперед в понятийном анализе, мы оказываемся запутанными, и нам надо все-таки призвать на помощь диалектике феноменологию, то есть обратиться к тому, каким образом сами принимающие решения и затрагиваемые решениями воспринимают реальность, чтобы все-таки отделить друг от друга решения и риски.
Дело вот в чем: готовность пуститься на риск зависит от того, насколько принимающие решения лица оценивают свою способность держать ситуацию под контролем или насколько они имеют ресурсов, которые могут мобилизовать для возмещения вреда, если события пойдут по непредусмотренному сценарию; и только если принимающие решения лица переоценивают свою компетентность или недооценивают компетентность других, а также если недооценивают возможность появления непредусмотренных последствий их деятельности, то именно это переводит рискованное решение в плоскость опасного. Но принимающие решения лица всегда имеют привилегию в том, чтобы посмотреть в глаза опасности, оценить уровень своего знания сути дела, свою способность к самообладанию и владению ситуацией, свои ресурсы и т. п., то есть они могут встретить вред во всеоружии. Что же касается тех лиц, чьи интересы затрагиваются решениями, то они должны полагаться на веру, что принимающие решение обладают такими способностями; в случае ее отсутствия они могут совершенно иначе оценивать уровень риска и видеть опасность, чем те, кто принимает решение. Простой пример: человек чувствует себя более защищенным, когда он сам ведет автомобиль, чем когда он летит на самолете (тут он находится во власти чужого), хотя опасность поездок на маши- не в целом выше, чем полетов на самолете. Поэтому уровень оценки опасности и готовность пуститься на риск значительно варьируется сообразно тому, принимает ли человек решения сам или выступает объектом чьих-то решений, а также варьируется сообразно уровню его (ее) знаний о ситуации и о положении дел: дилетанты могут видеть опасность там, где ее нет, и просмотреть там, где она действительно есть. Устраха глаза велики; и в то же время именно приобщение к опыту принятия решений позволяет человеку лучше понять разницу между оправданным риском и неоправданным возрастанием опасности. Также человек может выработать более адекватную реакцию на опасность и на риск, обращаясь к сокровищнице коллективного опыта, то есть постепенно усваивая и осмысляя все больший объем информации в той сфере, в которой его интересы оказываются затронутыми. Подлинное образование освобождает человека от лишних страхов и делает его способным совершать оправданные риски; в то же время оно препятствует и ненужной самонадеянности, которая может привести к срыву в область опасности там, где от человека при принятии решений требовалось не допустить этого [Dibold et al. web].
Отсюда вытекает предложение делегировать самим людям часть прав, касающихся определения их поведения в условиях повышенной опасности. Если им навязываются определенные образцы поведения, то за последствия опасности с них тем самым снимается ответственность. Они могут вести себя в соответствии с поведенческими клише в ситуации подконтрольности и предполагать себя вышедшими из зоны опасности вместе с выходом из-под контроля (что может совсем не соответствовать действительности). В результате соблюдение предписанных норм будет давать краткосрочный эффект при нарастании опасных негативных долгосрочных последствий. Если же человеку будет делегирована ответственность, то он будет постепенно вырабатывать адекватные опасности поведенческие способы, позволяющие снизить опасность даже за счет повышения риска. Борьба с опасной болезнью, например, будет успешной из-за того, что люди будут сами заботиться над повышением своего им- мунитета, а это подразумевает самые разные способы достижения такой цели. Навязываемые же извне поведенческие формы вводят поведенческие клише, в которых может не учитываться богатство и разнообразие способов реального решения проблем.
К проблеме перехода опасности в риск: анализ фактора времени
И еще одно интересное предложение австрийских авторов: рассматривать модель опасности и риска с позиции времени – тут уже чувствуется влияние философии М. Хайдеггера [Пилипенко 2015]. С одной стороны, все наше будущее в современных обществах можно рассматривать как рискованное, потому что оно не до конца предусмотрено; с другой стороны, прошлое также является нестабильным, что мы знаем из истории (мы вообще можем спросить себя: были ли времена, когда люди жили в состоянии максимума благополучия и минимума опасности?). В то же время то, что случилось в прошлом, мы знаем хотя бы потому, что оно завершилось; а будущее еще открыто для появления новых возможностей, в том числе тех, которые мы не предусмотрели. Поэтому оценка социальных рисков зависит от нашего настоящего, более того, сама эта оценка в состоянии передвигать наше настоящее в прошлое и в будущее. Дело в том, что наша оценка рисков зависит именно от того, наступили ли в настоящем те негативные последствия, тот вред, который содержался в потенциально опасном поведении, или еще нет; в первом случае мы будем говорить об оправданном риске, а во втором случае – о неоправданном. Точно так же наша оценка риска зависит и от того, насколько наш субъективный жизненный проект предусматривает способность справиться с опасностями, насколько мы высоко мы оцениваем эту самую нашу компетентность, знание дела или вообще способны к решимости (которая может и не зависеть от когнитивных способностей и возможностей). В результате то, что в одних ситуациях, для одних обществ, социальных групп или конкретных людей будет рискованным, для других станет опасным и наоборот.
И еще интересный результат анализа: в современном обществе все то, что раньше представлялось привычным, может вдруг стать рискованным, если наступит осознание опасностей, которые в нем таятся, а также если станет понятно, что определенное состояние повседневной жизни является следствием сделанных в прошлом сознательных решений, за которые также будут найдены ответственные лица или социальные группы. Это приведет к осознанию вариативности самого пространства решения и поведения в настоящем: расширение пространства решения ведет к превращению опасности в риск – весь социальный мир во все большей мере становится зависимым от сознательных решений, то есть общество постепенно движется от стихийности к управляемости. Об этом пишут и отечественные представители критической мысли, имея в виду преодоление капитализма с его культом так называемого «свободного» (а на самом деле – неуправляемого) рынка, где господствует всеобщая разобщенность [Бузгалин, Булавка, Колганов 2020, 205– 206, 213–215]. Такие воздействия на общество и на социально-природные процессы могут себе позволить социальные объединения или отдельные люди с большим объемом разнообразного (экономического, политического, символического, и пр.) капитала: в экономике это – транснациональные корпорации, в политике – сверхдержавы и объединения государств, а также их лидеры, в сфере общественности – главы масс-медиа, а также так называемые лидеры мнений и т. п. Чем больше пространство выбора, тем больше и ответственности, а значит меньше оснований считать негативные результаты следствием непредусмотренных последствий, а не сознательного выбора [Dibold et al. web].
Применяя эти размышления к актуальной ситуации, следует сначала оценить временной горизонт наших решений. Об этом уже писалось: меры реагирования на опасность, которые могут давать позитивный краткосрочный эффект, в будущем окажутся связанными с нарастающими негативными побочными последствиями, и наоборот, меры, которые в краткосрочном отношении кажутся рискованными, в будущем предстанут как адекватными опасности и способствовавшими ее пре- одолению. Именно рискованные решения позволяют повысить уровень наших знаний об опасности в результате анализа тех последствий, которые наступают в результате нашего рискованного поведения. Так, будет установлена граница оправданного риска и неоправданной опасности. Также общество сумеет учесть подвижный характер этой границы: для кого и в каких условиях риск оправдан, а для кого наступает опасность. И еще один момент, связанный с временным характером решений, если на этот раз учесть уже прошлое: надо обратиться к историческому опыту, рассмотреть аналогичные ситуации и понять, за счет чего общество справлялось с непостижимой опасностью и переводило ее в пространство управляемых рисков, как оно постепенно овладевало знаниями об опасности и как перестраивало поведение на этой основе, делая его более дифференцированным в зависимости от распределения рисков и опасностей. Необходимо далее проанализировать, какие признаки позволяют провести аналогию между актуальным состоянием общества и прошлым, и чем больше будет оснований для такой аналогии, тем в большей мере можно будет воспользоваться опытом эффективных управленческих решений в прошлом. Также можно извлечь уроки из бездействия, избегания рисков или их преуменьшения, а также из ошибочных решений прошлого.
К описанию новых социальных феноменов в условиях общества риска
Проанализируем некоторые новые социальные феномены, наступающие в условиях нарастания рискованности социальных решений. В этой связи хотелось бы процитировать только одно место из статьи в «Шпигеле» от 3 января 2015 г., посвященной смерти У. Бека (автор знаменитой концепции «общества риска» умер в первый день 2015 г. от инфаркта, как бы подтвердив свою концепцию своим собственным примером): «Современный индивид, который больше не встречает предза-данный порядок, нуждается вместо эмансипации и освобождения в креативности и в открытии себя – это есть постоянное испытание того, что не было предметом опыта» [Leick web]. Поэтому ячейкой воспроизводства общества, как ни парадоксально это звучит, становится не семья, а отдельный индивид – об этом пишут уже авторы из университета Линца [Dibold et al. web]. Если же говорить о современной семье, то она становится таким же пространством постоянной креативности (что вовсе не отменяет традиционные ценности и не ведет к проповеди безответственности). Семья, состоящая из творцов, вместо семьи, состоящей из представителей фиксированных социальных страт – это явление все больше распространяется в обществе. Это означает рост возможностей формирования демократической семьи, где каждый из ее членов будет поддерживать других в их неповторимом субъективном жизненном проекте и тем самым улучшать шансы на реализацию своих собственных целей. Такие семьи будут более прочными, чем те, что характерны для традиционного общества, и в то же время именно такие семьи будут способными по-настоящему противостоять разрушительным социальным тенденциям [Honneth 2000].
И еще одна характеристика «общества риска», на этот раз из статьи Давида Гугерли: «Общество риска – это не только такое общество, которое знает множество рисков и которое от них, возможно, погибнет. Это – общество, которое хотело бы утверждать о себе, что оно умеет успешно обращаться с рисками или с ними свыклось. Это, несмотря ни на что, имеет утешительное воздействие» [Gugerli web]. За счет чего же общество может обходиться с рисками? Только за счет повышения уровня своей собственной рефлексивности, то есть знания о самом себе, о мире вокруг нас, о других сообществах, которые будут затронуты принятыми решениями и т. п., и за счет того, что на основе этих знаний будут тщательно обдуманы принятые решения, а потом будут контролироваться их последствия (как об этом говорится в еще одной русской поговорке: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»). То есть тут речь идет опять о повышении уровня управляемости обществом, о проникновении разума в общественные процессы и тем самым о дальнейшей реализации универсального проекта Просвещения. На базе исследования рисков и опасностей возникла огромная сфера деятельности, которая занимается их оценкой и путями преодоления, от научно-исследовательских институтов, работающих на МЧС, до рейтинг-агентств, которые рекомендуют инвесторам способы вложения капиталов и указывают на опасности, таящиеся за вложениями в ценные бумаги целых государств...
Однако методология научного исследования рисков подчеркивает: все зависит от тех исходных принципов, по которым строится эта сфера деятельности. Данные принципы позволяют верно устанавливать границы между риском и опасностью и адекватным образом передвигать эти границы в зависимости от состояния общества; проводить разграничения между оправданными и неоправданными рисками, а также предвидеть опасность потери благоприятных возможностей в условиях трансформации социальной системы, когда как раз возникают оправданные риски. А также надо учитывать радикальную возможность возникновения ситуаций, когда эти исходные принципы будут все больше расходиться с реальностью. Тогда сама деятельность по преодолению рисков (или бездействие в ситуации оправданного риска) будет таить в себе угрозу нарастания рисков или рисков второго порядка. Тогда вместо обсуждения проблемы рисков по существу внимание общественности может отвлекаться на несущественные детали, и вообще может возникнуть ситуация полной потери ориентиров, по словам А. Зиновьева: «Падение в бездну будет представляться взлетом в небеса» [Зиновьев web].
Заключение
Таким образом, анализ риска в его соотношении с опасностью и с учетом временной составляющей решений, принимаемых в условиях неопределенностей, позволяет сделать вывод о том, что каждый из нас постоянно пребывает в пограничной ситуации, когда надо находить верные ориентиры для поведения. При этом ведущую роль должны играть критерии разграничения между тем, что зависит от действий самого человека, и тем, что не зависит. Выработка таких критериев будет возможна при условии, если широкая общественность будет привлекаться к обсуждениям решений по поводу способов действий в ситуациях рис- ка, чреватых нарастанием всеобщей опасности. Также в ходе таких обсуждений может быть выработано понимание того, каким образом риски могут быть преобразованы в шансы обретения нового в результате сознательных действий, а в каком случае последние поведут к усилению опасности. Также преодоление опасности возможно за счет того, что действия по ее предотвращению станут солидарными. Это предполагает приобщение к опыту других научных культур, которые осмысляют ситуацию внутри своих обществ. Необходима миграция философских идей через границы разных обществ, чтобы обогатить отечественную культуру новым инструментарием, позволяющим осмыслить и исследовать общество риска как планетарный феномен.
Другими словами, чтобы научиться жить в социальном мире, где любое действие может иметь множество побочных (непредусмотренных инициатором действия) последствий (которые тем не менее надо постараться постигнуть, почему надо действовать, думая, и думая, действовать), надо научиться тому, что в синергетике называется динамической стабилизацией. Это означает сохранять спокойствие в момент наивысшего напряжения сил, когда возникает своего рода пространство стабильных действий, соответствующих ритмам изменений, диктуемых игрой социокультурных сил. Тут и появится шанс превратить риски в инновации, неблагоприятную обстановку кризиса – в источник творческого вдохновения. Благодаря рискам могут быть обнаружены и развиты новые способности как на индивидуальном, так и на родовом уровне. Но для этого необходимо сформировать тонкую, дифференцированную позицию по отношению к риску, что и породит особую настроенность на творчество. Именно научный анализ риска, проведенный австрийскими и немецкими социальными философами и социологами, может содействовать пониманию возможностей прогрессивных социальных трансформаций в условиях выхода общества в режим нестабильности.
Список литературы Современные немецкие философские и социологические науки об «обществе риска»
- Бузгалин, Булавка, Колганов 2020 - Бузгалин А.В., Булавка Л.А., Колганов А.И. Маркс online: Будущее марксизма и марксизм будущего. М.: Ленанд, 2020.
- Василенко, Ткаченко, 2014 - Василенко И.В., Ткаченко О.В. Социальный риск: к определению понятия // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. 2014. №> 3 (23). С. 32-43.
- Зиновьев web - Зиновьев А. Русская трагедия // http:// www.apmath.spbu.ru/cnsa/pdf/index 16/ zinoviev-tragedia.pdf.
- Матюх 2012 - Матюх Е. Т. Теории «общества риска» в современной гуманитарной науке // Теория и практика общественного развития. 2012. №»7. С. 33-37.
- Пилипенко 2015 - Пилипенко Е.А. Время в философии М. Хайдеггера: субъективация объективного // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. 2015. №> 2 (28). С. 19-25.
- Столярова web - Столярова К.Н. Общество риска: тупики и проблемы [Молодой ученый. 2020. № 23 (313). С. 715-717] // https://moluch.ru/ archiv/313/71044/.
- Яницкий 2003 - Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России. 2003. № 1. С. 3-35.
- Dibold et al. web - DiboldE., Humer Ch., Kaiserseder W., Reitbauer B., Wilhelm H. Gegenwart und Zukunft der Risikogesellschaft [Gesellschaft und Lebensführung an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Gegenwart und Zukunft der Erlebnis-, Risiko-, Informations- und Weltgesellschaft. Linz: Universität Linz, Institut für Soziologie. S. 59-73] // http://soziologie. soz.uni-linz.ac.at/sozthe/staff/moerthpub/ STSGesellschaft.pdf.
- Gugerli web - Gugerli D. The Risk of the Risk Society. [Neue Züricher Zeitung] // https://www.nzz.ch/ feuilleton/das-risiko-der-risikogesellschaft-1.18053406.
- Honneth 2000 - Honneth A. Zwischen Gerechtigkeit und affektiver Bindung: Familie im Brennpunkt moralischer Kontroversen // Das Andere der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag, 2000. S. 193-215.
- Leick web - LeickR. Die Zukunft ist offen: Zum Tode Ulrich Becks [Spiegel] // https://www.spiegel.de/ kultur/gesellschaft/ulrich-beck-ist-tot-ein-nachruf-a-1011138.html.