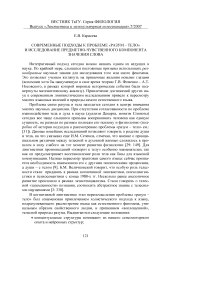Современные подходы к проблеме «разум - тело» и исследование предметно-чувственного компонента значения слова
Автор: Карасева Екатерина Викторовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120439
IDR: 146120439
Текст статьи Современные подходы к проблеме «разум - тело» и исследование предметно-чувственного компонента значения слова
Проблема связи разума и тела находится сегодня в центре внимания многих научных дисциплин. При отсутствии согласованности по проблеме взаимодействия тела и духа в науке (дуализм Декарта, монизм Спинозы) сегодня все чаще слышатся призывы воспринимать человека как единую сущность, не разводя по разным полюсам его психику и физиологию (подробно об истории подходов к рассмотрению проблемы «разум – тело» см.: [31]). Данные новейших исследований позволяют говорить о родстве души и тела, на что указывал еще И.М. Сеченов, отмечая, что мнение о принципиальном различии между телесной и духовной жизнью сложилось в прошлом в силу слабого на тот момент развития физиологии [29: 149]. Для лингвистики произошедший «поворот к телу» особенно знаменателен, так как он предусматривает восстановление роли тела как базы для языковой коммуникации. Налицо пересмотр трактовки самого языка: сейчас признается необходимость взаимосвязи его с другими психическими процессами, а души – с телом [9]. Б.М. Величковский говорит, что особую роль телесности стали придавать в рамках когнитивной лингвистики, психолингвистики и психосемантики с конца 1980-х гг. Несколько ранее аналогичное развитие произошло в рамках экзистенциализма. Стали говорить о телесной «заземленности» познания, соотносить абстрактное знание с телесными ощущениями [3: 330].
В когнитивной лингвистике этап переосмысления проблемы «разум – тело» был ознаменован привлечением холистического подхода к языку, подразумевающего рассмотрение языка как естественного феномена, уникальным образом свойственного людям, и признанием «воплощенной», телесной природы разума. Выдвигаются следующие положения:
-
• концептуальные структуры возникают из нашего сенсомоторного опыта и нейронных структур;
-
• ментальные структуры обладают значением в силу своей связи с нашими телами и телесным опытом;
-
• разум обладает способностью к образности [15].
Биологическая теория познания, или автопоэз, сформулированная У.Матураной и характеризующаяся интегративным подходом, предусматривает наличие у языка биологической функции ориентации поведения субъекта в рамках его когнитивной области. Таким образом, исключается возможность постижения сущности языка в отрыве от человека как живой системы. У. Матурана указывает, что передачи информации посредством языка не происходит. Ученый объясняет: слушающий создает информацию за счет снижения уровня неопределенности посредством взаимодействий в его когнитивной области. Понимание когниции как биологического феномена приводит У. Матурану к заключению, что жизнь любого организма – какой бы сложностью ни отличалась его организация – должна рассматриваться как процесс его взаимодействия со средой [42; 43] (обсуждение проблемы см. также в [13; 15; 35; 38]).
Все больше фактов в пользу предположения о сходстве телесных и духовных явлений содержат результаты новейших нейрологических исследований. По мнению А. Дамазио, посредством языка происходит переход от неязыковых образов, которые репрезентируют сущности, события, отношения и выводные знания, к их выражению в словах и предложениях [39]. А. Дамазио призывает к осознанию того, что разум возникает из мозга или в мозге, который находится в теле, с которым он взаимодействует. По его мнению, тело и мозг являются интегрированным организмом, в составе которого они взаимодействуют через посредство химических и нейронных связей. Поскольку разум возникает в мозге, который интегрирован в организм, разум является частью единого аппарата. А. Дамазио называет тенденцию разграничивать болезни мозга и разума, а также неврологические и психологические или психические проблемы «неудачным культурным наследием» [40] (обсуждение темы см. также: [10; 11]).
Основоположник науки онтопсихологии А. Менегетти отмечает необходимость понять, что не существует таинственного скачка от психики к соме; мы имеем дело с непрерывностью, идентичностью, выражением на разных языках одной и той же формы идентичного оперативного значения, смыслового содержания. По его мнению, в человеке активизирована энергия трех видов: психическая, эмоционально-эфирная и физическая. В то же время это не три различных типа, а три модуса одной энергетической направленности. А. Менегетти указывает, что психической идентификации предшествует соматическая идентификация. Телесную, соматическую идентификацию он называет процессом первичного познания [22].
Предположения о родстве телесной и духовной природы используются в практической психологии и психодиагностике (например, методы, позволяющие раскрывать истинную сущность пациента посредством выполняе- мого им рисунка и пластического действия). Существует также ряд психологических исследований, установивших положительную корреляцию между высоким уровнем двигательных способностей и длительностью концентрации внимания, способностью к абстрактному мышлению, любознательностью, творчеством [23: 88]
В.Н. Никитин, разрабатывающий пластико-когнитивный подход телесной арт-терапии, подвергает сомнению традиционный взгляд на тело как на подчиняющийся психике инструмент и выдвигает предположение о том, что ум является инструментом тела, а не наоборот: «Тело безрассу-дочно, точнее сказать, дорассудочно. Оно “знает”, что для него значимо, что жизненно необходимо. Человек считает, что тело подчинено его воле, игре воображения. Но, может быть, именно тело “продуцирует” мысль, “направляет” действия субъекта, “раскрывает” посредством психики свое, не осознаваемое на уровне ума бытие! Возможно, именно в теле хранится «чистое» знание о нашей первосущности» [23: 39].
О тесной взаимосвязи духовного и телесного свидетельствует использование людьми невербальных составляющих в речи и даже в процессе мышления. По мнению Г.Е. Крейдлина, иконические иллюстративные жесты помогают носителям языка вызывать из памяти определенную ситуацию и использовать соответствующие ей слова в речи [16]. В.Ю. Николаева отмечает, что во многих ситуациях кинетические знаковые средства оказываются более эффективными, чем речевые, а для выражения определенных типов содержания могут быть вообще использованы только они [24: 48]. И.Н. Горелов [5: 143] приводит данные, согласно которым невербальные компоненты являются не факультативной, а обязательной частью речевого акта, поскольку невербальные коммуникативные средства генетически старше вербальных: когда в ходе социализации человека сформировалась вторая сигнальная система (язык), она не вытеснила невербальные средства, а «прибавилась» к ним [6: 54].
В лексикографии отмечается важность использования телесных аналогов в толковании слов (эмоциональной лексики в первую очередь). Ю.Д. Апресян указывает, что реакции тела, хоть и в ограниченном числе случаев, являются ключом к душевным состояниям человека. Телесные метафоры могут описывать: 1) физиологическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека на эмоцию (например, белеть от страха, дрожать от страха, зубы стучат от страха, мурашки по спине от страха) ; 2) не реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию страха говорящими (например, столбенеть от страха, страх сковывает, кровь стынет в жилах) . В результате анализа телесных метафор для эмоции страха Ю.Д. Апресян приходит к заключению, что реакция души на страх сходна с реакцией тела на холод; он склонен считать такое совпадение сочетаемости у слов со значением психологического и физического состояний человека проявлением общей закономерности [1: 459–461].
Исследования в области проблемы «тело – разум» открывают новые перспективы для изучения феномена значения слова. В рамках корпоре-альной семантики выдвигается предположение, что означаемые требуют тела и эмоций для того, чтобы стать семантически функциональными, что язык сам по себе ничего не значит, но паразитирует на невербальных знаках, которые представляют собой элементы тактильного, обонятельного, вкусового, слухового, зрительного и других видов перцептивного опыта человека и их фантазийные варианты [44; 45] (обсуждение проблемы см. также в [8; 9]).
В выполненной в русле когнитивной лингвистики работе [46] центральное для когнитивной семантики положение о «воплощенном» познании трактуется как оправданное, однако авторы отмечают, что этот тезис требует пересмотра. Они призывают расширить понятие «воплощенности», вывести его за пределы человеческого тела и признать роль социокультурного фактора в процессе человеческого познания и усвоения языка в частности. Ученые отмечают, что, хотя положение о воплощенном познании и оспаривает дуализм Декарта, дуализм «разум – тело», подчеркивая непрерывный характер и мотивирующую функцию отношений между неязыковым, телесным опытом и познанием, оно не преодолевает противопоставления индивидуального и общественного. Тезис о воплощенном познании предполагает, что свойства определенных категорий вытекают из характера биологических возможностей человека и его взаимодействия с физической и социальной средой. Это находит выражение и в языке: см., например, существующие во многих языках мира конструкции с использованием имен частей тела ( mouth of the cave, foot of the hill ). В то же время имеет место и обратный переход – когда для именования частей тела используются названия объектов, не связанных с человеческим телом (например, французское tête – ‘голова’ – восходит к латинскому teste – ‘ горшок ’ ). Авторы призывают к реалистичному взгляду на роль тела в создании языковых конструкций, обозначающих различные отношения и категории (в частности, пространственные отношения): несмотря на то, что человеческий телесный опыт проецируется на язык и на усвоение языковых выражений пространственных отношений, это далеко не единственный ресурс для вербальной концептуализации пространства (и других категорий) [46].
По мнению шведского лингвиста Й. Златева, разрабатывающего единую биокультурную теорию значения, все живые системы и только живые системы способны к значению. Это объясняется тем, что жизнь предполагает наличие внутренне присущей ценности. Под значением ученый понимает отношение между организмом и его физической и культурной средой, определяемое ценностью среды для организма [12: 311]. Златев объясняет: «значение – это экологическое понятие в том смысле, что оно не является чисто субъективным (“в голове”) или объективным (“в мире”), но характеризует взаимодействие между организмом и средой» [12: 314]. Окружение организма может быть чисто физическим, как в случае с простыми живыми существами, или физическим и культурным, как в случае с культурными животными и, прежде всего, людьми. Примером значимого физического фактора является солнечный свет, примером значимого культурного фактора является рукопожатие; значение второго конвенционально. Автор выделяет четыре системы значений, вершиной иерархии которых является символический тип. Й. Златев видит необходимость создания единой, интегративной теории значения с целью преодолеть противостояние гуманитарных и социальных наук, с одной стороны, и биологических наук, с другой, поскольку это противостояние отдаляет нас от понимания своей истинной природы [12].
В лингвистике отношение значений слов, находящихся в сознании индивида, к объективной реальности и чувственному опыту человека рассматривается в рамках проблемы предметного значения . Существует ряд подходов к описанию этого понятия; разнообразие наблюдается и в терминологии. В лингвистике феномен предметного значения можно описывать с позиций реляционного или субстанционального подходов. Приверженцы реляционного подхода рассматривают предметное значение как отнесенность знака к определенному предмету. При субстанциональном подходе предметное значение слова рассматривается либо как конкретный объект, либо как образ предмета или направленность на него. Последователи реляционного и субстанционального подходов подчеркивают, что носителем предметного значения является слово, замещающее в процессе общения какой-либо предмет [32; 33].
Ряд лингвистов выделяет в семантике слова эмпирический компонент (см. [14; 36]), под которым понимается закрепленный за словом обобщенный чувственно-наглядный образ обозначаемого предмета. С.Д. Кацнельсон подчеркивает, что ребенок начинает самостоятельно пользоваться словом после того, как ему множество раз покажут и назовут предмет, обозначаемый им. Постепенно в сознании ребенка откладывается обобщенный чувственный образ предмета, из которого отсеяны все несущественные чувственные признаки. Этот чувственный образ составляет эмпирическое содержание предметного значения и в языке взрослых [14: 137]. Эмпирический компонент присутствует в структуре значения слова наравне с денотативным, оба непосредственно отражают действительность в чувственной и рациональной формах. И.А. Стернин полагает, что большинство конкретных слов обладает эмпирическим значением, в то время как у абстрактной лексики оно отсутствует. Подчеркивая важную роль эмпирического значения в процессе общения, ученый приходит к выводу, что, не зная эмпирического компонента, мы знаем лишь часть значения слова [36: 130].
Иной взгляд на проблему, более широкий, находим у психологов. Одним из первых ученых, обратившихся к проблеме предметного значения, был Л.С. Выготский. Он понимал под предметным значением знание человека о практическом обращении с вещами [4] (см. также [21]).
А.А. Леонтьев указывает, что предметное значение существует на базе перцептивного образа, т.е. образа восприятия, памяти, воображения. Оно может быть отделено от ситуации непосредственного восприятия, но в то же время предполагает обязательное «присутствие» реального предмета – в действительности или воображаемой форме [17: 11; 18: 171]. Ученый рассматривает предметное значение в качестве «правополушарного» (икони-ческого) эквивалента вербального значения в рамках взаимодействия двух способов представления знаний: семантического (системного) и фреймового (динамическо-ситуативного). Предметное значение является образующим элементом фреймового способа представления знаний [19: 273–274].
А.П. Стеценко выделяет предметный и операциональный компоненты значения слова; она относит их к структуре невербальных значений. Операциональное значение генетически предшествует предметному и является моторным обобщением действительности. Если на начальном этапе развития ребенка обобщение происходит в действии, способ действия выступает в функции символа, то по мере усвоения ребенком социального опыта, воплощенного в предметах, сам предмет начинает выступать в роли знака. Таким образом, ребенок овладевает предметным значением как формой фиксации социального опыта [37]. О сложной природе значений говорит специалист по психосемантике В.Ф. Петренко. Он предлагает рассматривать значение не в качестве идеального «инобытия» объекта, но как превращенную форму деятельности субъекта, познающего и преобразующего мир. Значения как «превращенная форма деятельности» несут в своих семантических компонентах связи и отношения, существующие и раскрываемые в различных формах деятельности (предметно-практической, теоретико-мыслительной, эстетической, идеологической) [25; 26].
В.Ф. Петренко считает одной из важнейших проблем изучения значения исследование его невербальных форм – в частности, существование значения в системе визуальных образов. Ученый также призывает обратить внимание на проблему влияния эмоций на семантическую организацию значений, поскольку эмоции способны влиять на сознание, трансформировать значения. В.Ф. Петренко говорит о недостаточности для психологов лингвистических методов анализа значения, потому что они ограничиваются изучением значений только в вербальной плоскости, и говорит о необходимости анализа отношений значений к чувственности [26; 27].
Патопсихолог Ф.Е. Василюк указывает, что «любой образ, даже образ, связанный с самой абстрактной идеей, всегда воплощен в чувственном материале, его всегда исполняет целый ансамбль осознаваемых и неосознаваемых телесных движений и чувствований» [2: 16]. Ф.Е. Василюк опирается на теорию деятельности А.Н. Леонтьева, выделившего три основные «образующие» сознания – личностный смысл, значение и чувственную ткань. Последнюю А.Н. Леонтьев определяет как некое впечатление, т.е. некий чувственный отпечаток предметного мира, порождаемый в процессе практической деятельности с этим миром. Чувственная ткань выполняет функцию придания чувства реальности сознательным образам. Это материал, из которого строится перцептивный образ [20]. Ф.Е. Василюк находит данное представление о чувственной ткани неполным и разрабатывает свою модель образа сознания. Он отмечает, что сознание человека и его образы детерминируются внешним миром, внутренним миром (мотивами человека, его ценностями), культурой, в которой он живет, и языком. В каждом живом образе сознания эти инстанции представлены и образуют «как бы нервные центры, узлы образа». Таким образом, внешний мир представлен предметным содержанием, мир культуры – значением, внутренний мир – личностным смыслом, язык – словом. Вместе эти узлы создают объем, некий тетраэдр. Объем тетраэдра заполнен живой, движущейся чувственной тканью (представителем тела). Вблизи каждого из полюсов она уплотняется, концентрируется, приобретает характерные для данного измерения черты. В зависимости от того, какой полюс тетраэдра является доминирующим, у людей создаются разные образы сознания [2].
Проблемы предметного значения и взаимодействия телесных и духовных явлений находятся в центре внимания психолингвистических исследований. По мнению А.А. Залевской, признание того, что значение слова в индивидуальном лексиконе сохраняет свои чувственно-предметные корни, заставляет предположить возможность сведéния значения любого слова к некоторому исходному чувственному образу. Таким образом, носители языка должны отмечать наличие у идентифицируемых ими слов (даже с наиболее абстрактным значением) определенной степени конкретности, образности, эмоциональности [9: 24].
Предметное значение глагола исследовала Н.В. Соловьева [34]. Используя в качестве исследовательской методики ассоциативный эксперимент, она интерпретировала связи между глаголом-стимулом и полученными реакциями в терминах глубинных ролей, выделяемых в семантическом синтаксисе [Op. cit.: 49]. По результатам своего экспериментального исследования Н.В. Соловьева пришла к выводу, что предметность семантики глагола в разных языках реализуется через его способность вызывать как мысленный образ ситуации, связанной с осуществлением определенного действия, названного глаголом, так и отдельные значимые элементы ситуации.
Понимая под предметным компонентом элемент значения, связанный с любым чувственным опытом человека, мы провели исследование с применением свободного ассоциативного эксперимента на более разнообразном материале: в качестве стимулов были взяты слова, относящиеся к разным частям речи и обладающие различной степенью конкретности. Ассоциативный эксперимент был выбран в качестве методики исследования, так как он, во-первых, позволяет выявлять структуру значения слова-стимула и, во-вторых, дает основание судить о том, какой именно признак значения исходного слова оказался для информанта наиболее актуальным, а значит, определить степени «рельефности» выделенных компонентов значения (их «веса») по отношению друг к другу [7: 82]. В ходе эксперимента планировалось проверить гипотезу о наличии предметного компонента психологической структуры значения каждого слова-стимула. Предполагалось также, что слова различаются по степени проявления предметного компонента значения, и ставилась задача выявить факторы, оказывающие влияние на «вес» этого компонента в психологической структуре значения.
Выбор слов-стимулов, отобранных для эксперимента, определялся наличием их в ассоциативных словарях русского, славянских и английского языков [28; 30; 41]. Часть слов совпадает со списком, использованным в исследовании Н.В. Соловьевой, для возможности сравнения полученных результатов. Список слов-стимулов был сведен к следующим сорока словам: БЕЖАТЬ (TO RUN), РАДОСТЬ (JOY), ЖЕЧЬ (TO BURN), ГОЛОС (VOICE), БРАТЬ (TO TAKE), СМЕРТЬ (DEATH), ВЕРИТЬ (TO BELIEVE), ВИДЕТЬ (TO SEE), ЧЕЛОВЕК (MAN), ДАВАТЬ (TO GIVE), РЕБЕНОК (CHILD), ОБЛАКО (CLOUD), ДУМАТЬ (TO THINK), ВОДА (WATER), РАБОТАТЬ (TO WORK), БОЛЕЗНЬ (ILLNESS), ЖИЗНЬ (LIFE), УЧИТЬСЯ (TO LEARN), ЛЮБИТЬ (TO LOVE), БЛЕСК (SHINE), ВХОДИТЬ (TO ENTER), НАДЕЖДА (HOPE), БОЯТЬСЯ (TO FEAR), МЕЧТАТЬ (TO DREAM), ДОМ (HOUSE), ПРАВДА (TRUTH), ПЕЧАЛЬ (SADNESS), ВСТРЕЧАТЬ (TO MEET), МАЙ (MAY), ДЕЛАТЬ (TO DO), ПАУК (SPIDER), ЖИТЬ (TO LIVE), ЕСТЬ (TO EAT), ЛЮБОВЬ (LOVE), ДРАТЬСЯ (TO FIGHT), ВЕТЕР (WIND), ИДТИ (TO GO), ЛИЦО (FACE), ГОВОРИТЬ (TO TALK), ЛЕС (FOREST).
В эксперименте участвовало 180 человек: носители русского языка (первокурсники факультета иностранных языков и международной коммуникации – ф-т ИЯ и МК – Тверского госуниверситета), билингвы (студенты III, IV, V курсов ф-та ИЯ и МК, а также специалисты), носители английского языка. Носителям языка списки слов предъявлялись на родном языке, билингвам – на английском. Всего получено 32850 ответов. Сравним ответы, данные носителями русского языка, английского языка и студентами V-го курса факультета ИЯ и МК для слов БЕЖАТЬ (TO RUN) и ВЕРИТЬ (TO BELIEVE).
Среди реакций на глагол БЕЖАТЬ носителей русского языка 71% описывают сенсомоторный опыт или эмоциональное-оценочное отношение. Мы выделили следующие категории таких ответов: 1) ответы, увязываемые с физическими ощущениями, состояниями: скорость, быстрота, выносливость, сила, пот, усталость, запыхаться, энергия (6,8%); 2) глаголы движения, состояния: нестись, убегать, мчаться, лететь, падать, скакать, гулять, идти, стоять, лежать, сидеть (13%); 3) ответы, описывающие эмоционально-оценочные отношения: весело, страх, бояться, плохо, хотеть, желать (6%) ; 4 ) обозначения характеристик движения: быстро, медленно, рысцой, без остановки, свободно, красиво, вприпрыжку, с трудом, шагом), трусцой, запыхавшись, оглядываясь, улыбаясь (18%); 5) элементы ситуации, описываемой глаголом: дорога, город, спортсмен, с кем-то, лето, ноги, трамвай, ветер, воздух, от собаки, человек, парк, улица, кроссовки, существа (10%); 6) направление движения: вперед, далеко,
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация »,7/2007___ от кого- то, куда, куда-то, прочь, за границу, некуда, куда угодно, на остановку, домой, на работу, в лес, в университет, вдоль (18%).
Среди ответов билингвов только около 51% указывали на наличие предметно-чувственного компонента. Такие ответы были выделены в следующие группы: 1) глаголы движения: to jump, to go, to move, to leave, to ski, to skate, to come (9%); 2) обозначения характеристик движения: quick, fast, slow, ahead, at a high speed, without thinking (24,5% ) ; 3) элементы ситуации, описываемой глаголом: rabbit, legs, road, children, boys, track, together, gym, dog, runner, feet, street, shoes, thief, steps (12%) ; 4) направление движения: forward, after him, home, nowhere (6%).
Еще меньше ответов, увязываемых с сенсомоторным опытом человека и эмоциями, находим у носителей английского языка – 47%. Интересующие нас реакции распределились по следующим группам: 1) ответы, увязываемые с физическими ощущениями, состояниями: sweat, hot, ragged, sweaty, heat, energy, stamina, speed, good health (6,4%); 2) ответы, описывающие эмоционально-оценочные отношения: panic, fun, scared (2%); 3) глаголы движения: to skip, to jog, to stop, to walk, to swim, to go back, to fly, to catch, to crawl (9%); 4) обозначения характеристик движения: fast, quickly, hard, slow, close, swift (18,5%); 5) элементы ситуации, описываемой глаголом: wind (in your hair), foot, (on the) road, athlete, shoe, flowers, dog, running mate, legs, trees, grass (7,7%); 6) направление движения: far, somewhere, home, inside (3%); цветовые обозначения: yellow (0,6%).
Небольшое количество реакций, увязываемых с предметночувственным значением слова среди ответов носителей английского языка, по сравнению с носителями русского языка и билингвами, не обязательно означает, что этот компонент значения слова TO RUN менее рельефен в сознании англичан. В английском языке это слово многозначно, и в нашем случае 14% ответов англичан относились к другим значениям слова (например, to run a company, to run out of smth, to run a movie ). В отдельную обширную группу были вынесены предлоги, с которыми в том или ином значении сочетается в английском языке глагол TO RUN . Следует отметить и фактор возраста – носители русского языка – первокурсники, носителям английского языка – от 18 до 40 лет, большинство из них имеет высшее образование. Отсюда высокий по сравнению с ответами носителей русского языка и билингвов процент индивидуальных реакций, сложных для интерпретации. Тем не менее, в ответах носителей двух языков много сходств – в первую очередь, это похожий состав категорий ответов, указывающих на наличие предметно-чувственных корней значения слова. Реакции носителей языка образны, эмоциональны, а среди ответов билингвов не было слов, обозначающих эмоциональные состояния и оценочные отношения.
Без подробного описания ответов на глагол ВЕРИТЬ приведем лишь долю, относящуюся к предметно-чувственному значению, в %: среди ответов носителей русского языка – 28%; билингвов – 30%; носителей английского языка – 34%. Большинство ответов обозначают абстрактные понятия, связанные с мыслительными операциями человека. Нами засчитывались лишь ответы, обозначающие конкретные объекты (в том числе и мифологические), действия и явления, эмоциональные состояния и отношения.
Результаты исследования позволили сделать общий вывод, что наша рабочая гипотеза в принципе подтвердилась: ответы испытуемых на часть слов более чем в 50% случаев увязываются с сенсомоторным опытом человека или отражают его эмоциональное состояние и эмоциональнооценочное отношение к называемому словом объекту, действию или состоянию; наряду с этой группой слов выделена и такая категория слов, ответы на которые носят абстрактный характер (до 70% реакций), хотя в то же время во всех случаях имеют место проявления предметночувственного компонента психологической структуры значения слова. Среди факторов влияния на рельефность предметно-чувственного значения слова можно назвать конкретность/абстрактность стимула, а также его эмоциональную окрашенность.
http//: www.veerstichting.nluploadExcerpts%20from%20Descartes%20 Er-ror%20by%20 Antonio%20R.%20 Damasio.pdf .pdf