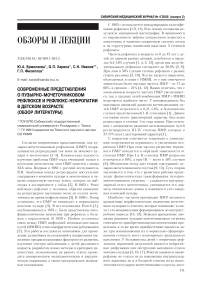Современные представления о пузырно-мочеточниковом рефлюксе и рефлюкс-нефропатии в детском возрасте (обзор литературы)
Автор: Ермолаева Ю.А., Харина О.П., Иванов С.Н., Филиппов Г.П.
Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk
Рубрика: Обзоры и лекции
Статья в выпуске: 4-2 т.23, 2008 года.
Бесплатный доступ
Обобщены данные литературы по проблеме пузырно-мочеточникового рефлюкса и рефлюкс-нефропатии у детей. Представлены основные проявления заболевания, причины возникновения, современные методы диагностики и лечения рефлюкснефропатии.
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, рефлюкс-нефропатия, диагностика, дети
Короткий адрес: https://sciup.org/14918957
IDR: 14918957 | УДК: 616.61/.62-009.1-053.2
Текст научной статьи Современные представления о пузырно-мочеточниковом рефлюксе и рефлюкс-нефропатии в детском возрасте (обзор литературы)
E-mail: ivanjv@cardio.tsu.ru
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОМ РЕФЛЮКСЕ И РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
-
* ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава, г. Томск;
-
* * ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН
Согласно современным представлениям, под пузырно-мочеточниковым рефлюксом (ПМР) подразумевается ретроградный ток мочи из мочевого пузыря в мочеточник [1-4]. Клиническая важность изучения проблемы ПМР стала очевидной только в последние десятилетия, хотя ПМР известен с конца XIX века. Впервые в 1883 г. русский исследователь В.И. Замблинов описал ретроградное поступление содержимого мочевого пузыря в мочеточники и ча-шено-лоханочную систему почек, которое он наблюдал в эксперименте у собак [5]. В 1883 г. Pozzi наблюдал рефлюкс у человека, обратив внимание на ретроградное вытекание мочи из культи мочеточника во время нефроэктомии [3]. В 1898 г. Young установил, что ПМР не возникает в нормальном мочевом пузыре [3]. В исследованиях Hutch [3], опубликованных в 1952 г., были представлены патофизиологические изменения при рефлюксе у больных с параплегией. В 1959 г. Hodson установил связь между ПМР, инфекцией мочевыделительных путей (ИМВП) и пиелонефритическим рубцеванием [3]. Эти работы послужили основанием для проведения дальнейших исследований в направлении выявления предрасполагающих факторов его развития, изучения течения заболевания у детей различного возраста, разработки новых методов и критериев диагностики, позволяющих на ранних этапах проводить своевременную медикаментозную и хирургическую коррекцию, а также предупреждать возможные осложнения.
С 1985 г. используется международная классификация рефлюкса [1-9, 11]. В ее основу положены результаты микционной цистографии. В зависимости от выраженности заброса контрастного вещества в мочеточник и чашечно-лоханочную систему почки и их структурных изменений выделяют 5 степеней рефлюкса.
Частота рефлюкса в возрасте от 0 до 15 лет у детей, по данным разных авторов, колеблется в пределах 0,4-1,8% случаев [1, 4, 5, 12], среди них доля билатерального рефлюкса составляет до 50,9% [5, 9]. При этом в 50% случаев степень рефлюкса с разных сторон различна [5, 10]. Что же касается пациентов, обследуемых в связи с ИМВП, то у них отмечается значительно более высокая частота ПМР – от 17 до 60%, в среднем – 21% [4, 12]. Важно отметить, что с уменьшением возраста частота ПМР увеличивается, так, у грудных детей комбинация ПМР с ИМВП встречается наиболее часто. У новорожденных без признаков аномалий развития мочевыводящих путей ПМР встречается в 0,21-1,8%, в большинстве случаев представленный I-II степенями [1]. Данное состояние носит транзиторный характер, бесследно регрессируя в течение 1-го года жизни. При сочетании с аномалиями развития мочевыводящих путей регистрируются III-IV степени ПМР, которые в 57-77% носят двусторонний характер [1].
С возрастом отмечается тенденция к уменьшению встречаемости первичного и увеличению вторичного ПМР. При этом частота регрессии первичного ПМР находится в обратной зависимости от степени ПМР. При I и II степенях ПМР регрессия отмечается в 80%, а при III — всего в 40% случаев [8]. Объяснение этому дает теория «матурации» пузырно-мочеточникового соустья [9, 13]. Суть теории заключается в том, что с развитием ребенка происходит физиологическая трансформация пузырномочеточникового сегмента — удлиняется внутрипу-зырный отдел мочеточника, уменьшается его диаметр относительно длины и изменяется угол впадения в мочевой пузырь.
Наиболее частыми причинами ПМР являются врожденные морфологические изменения мочеточнико-пузырного сегмента, которые возникают в связи с его неправильным формированием во внутриутробном периоде [14, 15]. Нередко врожденные аномалии развития пузырно-мочеточникового сегмента сочетаются с приобретенными патологическими процессами, в то же время приобретенные процессы даже при возникновении их в нормально сформированном сегменте могут имитировать врожденную патологию. У большинства детей с вторичным рефлюксом первичной патологией является нейрогенная дисфункция или обструкция выходного отдела мочевого пузыря [3, 16, 17]. Многие пациенты имеют рефлюкс не только из-за повышения внутрипузыр-ного давления, но и в большей степени из-за недостаточности пузырно-мочеточникового соустья, кото-111
рая может быть компонентом других видов врожденной патологии. У детей с микробно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы, такими, как хронический пиелонефрит, цистит, часто вовлекается в воспалительный процесс и мочеточник, в том числе и мочеточнико-пузырный сегмент, который на определенном этапе может быть поражен изолированно [16]. Исходом хронического воспалительного процесса, как правило, является склероз стенки мочеточнико-пузырного сегмента, сопровождающийся атрофией мышечных пучков [5, 16]. Таким образом, воспалительные изменения мочевого тракта могут являться как провоцирующими факторами, так и следствием ПМР.
Среди причин развития ПМР у мальчиков основное место занимают пороки развития устьев мочеточников, в то время как у девочек преобладают вторичные формы ПМР, обусловленные инфекцией мочевых путей и нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря (НДМП) [3-5, 7, 16, 17]. ПМР встречается среди девочек и мальчиков, однако имеет свои возрастные особенности и отличия в каждой половой группе, при этом чем младше ребенок, тем более тяжелый у него рефлюкс [3, 5-7]. В возрасте до 1 года заболевание диагностируется преимущественно у мальчиков, как правило, в сочетании с аномалиями развития мочевыделительной системы, тогда как после 2-3 лет с наибольшей частотой выявляется у девочек [1, 9]. Мальчики составляют 14% всех больных с ПМР, а среди мальчиков с микробно-воспалительными заболеваниями мочевой системы ПМР встречается намного чаще – в 29% случаев, однако 14% мальчиков имеют нарушения мочеиспускания без ИМВП [3].
В работах по исследованию проблемы ПМР выявлена связь между этим заболеванием и семейным анамнезом в отношении данной патологии [3, 11, 18-21]. Впервые в 1955 г. E.D. Stephens обнаружил ПМР у близнецов [21]. С того времени во многих работах подчеркивалась высокая степень риска развития ПМР у детей, члены семьи которых имеют эту патологию [11, 18-20]. R.R. Bailey и соавт. [18] описали австралийскую семью, где рефлюкс был выявлен в трех поколениях. В работе H.N. Noe [20] установлено, что возможность развития рефлюкса у сиблингов составила 27%-33% случая. В результате указанных исследований сделан вывод о том, что братья и сестры детей с ПМР должны подвергаться скрининговому обследованию в целях профилактики и своевременного лечения.
Правильные представления о причинах развития ПМР, состоянии и возможностях повреждения рефлюксированной почки, наличии анатомических изменений мочевыводящей системы и ИМТ позволяют определить тактику ведения этих пациентов. Лечение ПМР и рефлюкс-нефропатии взаимосвязано. Существует несколько подходов: консервативный, эндоскопический и хирургический. Показания-112
ми к консервативному лечению являются I-II степень ПМР, когда отсутствует препятствие к оттоку мочи из мочевого пузыря, требующее удаления хирургическим путем [1-9, 12, 22-28]. У многих пациентов с ПМР III степени без препятствия пассажу мочи из мочевого пузыря также показано консервативное лечение, если отсутствует существенная деструкция паренхимы почки и снижение ренальных функций. В основе консервативного лечения, главным образом, лежит целенаправленная антимикробная терапия и длительная профилактика уросептиками. Большое значение в предупреждении развития рефлюкс-нефропатиии занимает лечение НДМП [3, 25, 26]. Эндоскопический метод предусматривает введение в подслизистый слой мочеточника биопрепарата, коллагена и др. материалов [1, 3, 29]. Этот метод применяют при ПМР III и более выраженной степени. Самым эффективным способом коррекции ПМР IV-V степени остается оперативный, который в 93-97% случаев имеет положительные результаты [1-5, 7]. Известно более 80 способов открытого оперативного лечения ПМР — это различные модификации уретероцистоанастомоза [3, 5, 7]. Принципиальным механизмом всех видов открытых вмешательств является удлинение интрамурального отдела мочеточника с целью создания клапанного механизма, способного пропускать мочу в одном направлении из мочеточника в мочевой пузырь. Наиболее удачной признана техника тоннельного анастомоза, благодаря способности тоннеля противостоять высокому гидростатическому давлению внутри мочевого пузыря (как при наполненном мочевом пузыре, так и при мочеиспускании), препятствуя забросу мочи в мочеточник [3, 5]. В России наиболее часто выполняются операции Коэна и Политано-Лидбеттера. Но, как уже было сказано выше, даже эффективно выполненная операция и положительный результат консервативной терапии не гарантируют остановку поражения почечной паренхимы.
Различные факторы определяют возможность исчезновения рефлюкса. К ним относятся: возраст больного, степень рефлюкса, тип устья мочеточника, протяженность подслизистого туннеля и внутрипу-зырные изменения. В среднем скорость исчезновения ПМР оценивается показателями от 20 до 30% за каждый 2-летний период [3]. То, что от типа мочеточника зависят потенциальные возможности исчезновения рефлюкса, несомненно, подтверждается существенно различающейся частотой ПМР при разных вариантах конфигурации устьев [3]. Выявлена также связь между наличием рефлюкса и протяженностью интравезикального отдела мочеточника, установленной эндоскопически путем интубации мочеточника [3, 5, 7]. Спонтанное исчезновение ПМР отмечается в 80% случаев при рефлюксе I и II степени, но только в 40% случаев при рефлюксе III, IV, V степени [3]. Дети младшего возраста имеют более благоприятный прогноз в плане возможности исчез- новения рефлюкса, что может быть связано с укреплением мочепузырного треугольника в процессе роста, а также с ослаблением нейрогенной дезрегуляции [1, 3, 4, 5, 7, 9-11]. В отличие от первичного ПМР исчезновение рефлюкса при наличии НДМП не имеет столь четкой зависимости от степени рефлюкса [3].
На сегодняшний день многие аспекты проблемы ПМР остаются противоречивыми, что связано с многовариантностью клинических форм и исходов данного заболевания. Естественное течение ПМР может быть разнообразным: от спонтанного исчезновения до формирования клинически непроявляющихся рубцовых изменений в почке, артериальной гипертензии и в конечной счете хронической почечной недостаточности (ХПН) [1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15-21, 23]. Наибольшие дискуссии вызывает вопрос о повреждении почки при ПМР и о рациональной тактике лечения детей, страдающих данным заболеванием, так как отдаленные результаты консервативного и оперативного [7, 15, 30] лечения свидетельствуют о наличии продолжающегося с возрастом процесса склерозирования почечной паренхимы и в отсутствии ПМР, подтвержденного инструментально на микционной цистоуретрографиии. Но, как уже было сказано выше, даже эффективно выполненная операция и положительный результат консервативной терапии не гарантируют остановку поражения почечной паренхимы.
Поражение почки в результате рефлюкса может возникать в виде локальных рубцовых изменений, генерализованного рубцевания с атрофией почки или в виде задержки ее роста. Данные изменения объединяют общим термином – рефлюкс-нефропатия (РН). Впервые термин рефлюкс-нефропатия предложил Bailey R.R. в 1965 г. [1]. По данным МКБ X, данное состояние относится к группе тубулоинтерстициального нефрита (N13.), связанного с ПМР [4, 36]. Считается, что формирование очагов нефро-склероза у детей с хроническим пиелонефритом на фоне ПМР является не осложнением, а частым проявлением этого состояния.
В настоящее время не существует единой классификации РН. В 1984 г. J.M. Smellie предложил классификацию, в основу которой была положена выраженность нефросклероза при проведении внутривенной урографии (А, В, С и D степени) и радиоизотопной сцинтиграфиии (4-го типа нефросклеро-за) [1, 3, 4].
При длительном наблюдении и обследовании установлено, что главными факторами, обусловливающими образование новых рубцов в почках и усугубляющими старые, являются: высокое динамическое давление в мочевом пузыре, тяжесть рефлюкса и частота обострений пиелонефрита [1, 4-9, 26, 27, 28]. Кроме того, установлено, что причиной продолжающегося повреждения почки является формирование интраренального рефлюкса [1, 3, 6, 7]. У детей раннего возраста имеется анатомическая особенность почечных сосочков, способствующая забросу мочи в паренхиму почек и впоследствии возникновению рубцовых поражений почек, поэтому поражение почки при рефлюксе обычно возникает при сочетании ПМР с ИМВП и преимущественно в возрасте до 2 лет [1, 3, 6, 7].
Данные о частоте встречаемости РН неоднозначны, что, вероятно, связано с различными подходами к диагностике, а также с разной степенью выраженности ПМР и влиянием возраста пациентов. Так, при ПМР РН диагностируется в 44% случаев, из них в 40% в сочетании с эпизодами ИМВП [1, 17, 18, 21]. Кроме того, отмечается прямая корреляционная связь между степенью ПМР и риском развития РН [3, 5, 6, 7]. В исследовании С.Н. Зоркина [27], посвященном выявлению зависимости нефросклероза от степени ПМР и возраста показано, что структурно-функциональные изменения почек при IV-V степени отмечаются в 100% случаев, при III степени – в 70% и при I-II степени – в 24,4% случаев. При III степенях одностороннего ПМР рефлюкс-нефропатия диагностируется в 10%, при III степени – в 25% случаев, при IV-V степенях – в 87%, при двустороннем ПМР в – 56% случаев [27]. В то же время у детей с ПМР до 3-летнего возраста признаки нефроскле-роза встречаются в 94,6% случаев, в возрасте от 4 до 7 лет – в 75%, а от 8 до 15 лет – в 52,9% случаев [22]. Многими исследователями показано, что ПМР может даже при стерильной моче вызывать рефлюксную нефропатию за счет воздействия давления, обусловленного НДМП и обструкцией выходного тракта мочевого пузыря [3, 16, 27, 30, 31, 32]. Возможность поражения почки при высоком внутрипу-зырном давлении подтверждена экспериментально [31]. Однако известны случаи тяжелого поражения почек при отсутствии НДМП, обструкции выходного тракта мочевого пузыря и ИМТ, когда к нарушению развития почек приводит воздействие высокого давления при наличии ПМР только во внутриутробном периоде [3]. Развитие вторичного сморщивания почечной паренхимы встречается чаще при гипоплазии почки (23%), чем без нее (10%) [1]. Гипоплазия почечной ткани при ПМР возникает в результате внутриутробного воздействия рефлюк-сирующей мочи на формирование почек [1, 3].
Фокальный нефросклероз c одинаковой частотой выявляется как у мальчиков, так и у девочек, однако тяжелые формы заболевания диагностируются в 4 раза чаще у мальчиков, способствуя высокому риску развития ХПН в этой половой группе [1, 3].
В последнее время большое внимание исследователей уделяется вопросу диагностики РН на начальных этапах. К настоящему времени морфологические изменения в почках при РН изучены достаточно хорошо [33]. На современном этапе диагностика вовлечения почечной паренхимы в патологический процесс осуществляется в клинической практике при выполнении экскреторной урографии, ультра-113
звуковом исследовании почек, при проведении статической реносцинтиграфии, а также, при определении уровня специфических ферментов в моче.
Биопсия почечной ткани с последующим гистологическим исследованием биоптата является высокоинформативным методом исследования, с помощью которого можно получить максимум диагностической информации для оценки состояния почек [1, 2, 34]. Однако, данный метод является оперативным вмешательством и доступен не всем лечебным учреждениям. Кроме того, гистологическое исследование лишь подтверждает наличие нефросклероза, не позволяя установить причину прогрессирования. Поэтому разработка и внедрение в практику неинвазивных методов исследования, характеризующих признаки и степень склеротического процесса, является важной задачей для клиницистов.
Накопленный опыт свидетельствует о том, что методы ультразвукового обследования и экскреторной урографии наиболее информативны для диагностики РН лишь при уже сформированных рубцовых изменениях [3, 35]. При ультразвуковой оценке изменений со стороны почек при ПМР в В-режиме внимание уделяется, как правило, лишь измерению размеров почек для контроля их роста на фоне лечения [1, 2, 7, 34, 35], экскреторные урограммы позволяют судить о размерах и форме почек, толщине паренхиматозного слоя и выявлять только те рубцовые образования, которые располагаются в нижних и верхних полюсах [1, 7, 34, 35]. Кроме того, к недостаткам рентгенологических методов можно отнести: большую дозу облучения, необходимость применения нефротоксичных йод-содержащих контрастных веществ, суммационный характер получаемых трансмиссионных изображений структур почки, проекционные наложения на них петель кишечника, мышц спины и брюшной стенки, а также отсутствие визуализации контуров почки при снижении концентрационной способности. К тому же обнаружение почечных рубцов с помощью экскреторной урографии возможно лишь в случае длительности хронического процесса не менее 2 лет [6, 35]. Следовательно, ультрасонографические и рентгенологические методы, традиционно применяемые для диагностики пиелонефрита, особенно на ранней стадии, малоинформативны для выявления ранних очаговых изменений в почечной паренхиме. В связи с чем возникает необходимость многостороннего и комплексного обследования больного, выявления и разработки дополнительных методов оценки патологического процесса для ранней диагностики и прогнозирования развития почечной деструкции при данной патологии.
В последнее время внимание ученых все больше привлекают новые направления, позволяющие выявить скрытые функциональные нарушения в почках. Традиционными методами оценки функционального состояния почек являются клинико-лабораторные 114
методы исследования, основанные на определении мочевины и креатинина в сыворотке крови, расчете скорости клубочковой фильтрации, выявлении протеинурии и нарушений ацидоаммониогенеза, которые оказываются информативными при функционировании 30-40% нефронов [1, 2, 34].
Для диагностики скрытых функциональных и органических нарушений в почках изучают ферментный состав мочи. В ходе многочисленных исследований [39, 40, 41, 42, 43] доказана роль изучения ферментного спектра мочи. Данный метод позволяет судить не только об активности процесса, но и определять уровень поражения мочевыводящих путей. В настоящее время в моче определяют активность около 70 ферментов и изоферментов, являющихся индикаторами поражения внутренних органов, в том числе и почек [43]. Хронический воспалительный процесс, вызывая деструкцию почечной ткани с повреждением эпителиоцитов канальцев, способствует высвобождению и повышению активности определенных ферментных систем.
Среди ферментных систем канальцевого эпителия наиболее диагностически значимо исследование в моче активности – N-ацетил-в-D глюкозаминида-зы (в-НАГ), который определяет активность воспалительного процесса и [39, 40, 44] может быть использован в качестве скрининг-теста поражения почек. Повышение активности фермента г-глутамил-транспептидазы, связанное с выделением его в мочу из поврежденных клеток проксимальных канальцев, отмечается не только при повреждении эпителия проксимальных канальцев, а также при пиелонефрите, гломерулонефрите, мочекаменной болезни [40]. В литературе имеются данные, свидетельствующие о том, что большое значение в диагностическом плане при пиелонефритах имеет также определение активности в моче некоторых лизосомальных ферментов и эластазы [39]. Для диагностики патологии на уровне клубочков определяют уровень псевдохолинэстеразы (ПХЭ) [45], которая имеет высокую молекулярную массу и в физиологических условиях почти не проходит через гломерулярный фильтр [43]. На основании многочисленных исследований по определению активности этого фермента в моче показано, что экскреция ПХЭ коррелирует со степенью селективности протеинурии при различных заболеваниях почек.
Ранняя верификация диагноза рефлюкс-нефро-патии и эволюции нефросклеротических изменений, по мнению многих исследователей, возможна также при выполнении триплексного допплеровского исследования почек в режиме цветного картирования, энергетического и импульсного Допплера. Оценка внутрипочечного кровотока позволяет косвенно судить о функциональном состоянии почек. По мнению многих исследователей [46-51], допплерографическое исследование внутрипочечной гемодинамики является одним из ключевых методов в диаг- ностике РН, так как изменение показателей кровообращения в почке происходит раньше появления ультразвуковых, рентгенологических признаков ренального процесса.
В литературе имеются единичные сведения о высокой информативности определения состояния внутрипочечной гемодинамики для ранней диагностики развития почечного процесса у больных с ПМР. Так, Е.И. Головачева и соавт. [47] дают допплерографическую оценку внутрипочечной гемодинамики у больных с ПМР и РН путем проведения цветного допплеровского картирования (ЦДК) и импульсной допплерометрии (ИД). По их мнению, асимметрию гемодинамических показателей, обеднение васкуляризации почек, извитость сосудов и турбулентность кровотока, определенные при ЦДК, можно рассматривать в качестве признаков РН, а характеристика внутрипочечной гемодинамики на основании повышения показателей максимальной систолической скорости и снижения индекса резистентности на уровне сегментарных, дуговых и междольковых артерий может быть использована в качестве количественных критериев диагностики ренального процесса и степени тяжести РН при ПМР. При этом, как отмечают авторы, сосудистые нарушения опережают рентгенологические и сонографические признаки патологического ренального процесса и зависят от степени тяжести РН, сочетаются с тубулярной дисфункцией почек. У детей с ПМР без РН гемодинамические показатели не отличаются от таковых у здоровых детей. В исследовании Л.И. Дербеневой и соавт. [51] установлено, что у 42,8% детей с ПМР без РН с нормальными размерами почки на урограмме и УЗИ отмечается умеренное снижение показателей внутрипочечной гемодинамики, в основном при высокой степени рефлюкса, и, как правило, в сочетании с различными нарушениями канальцевых функций, что позволяет расценивать эти изменения как ранние проявления формирующейся РН. В работе Е.Б. Ольховой [49] показано, что у 81% больных с РН индекс резистентности находился в пределах средних значений нормы, что, по-видимому, связано с включением механизма интраренального шунтирования крови, и поэтому данный показатель не может быть использован для оценки тяжести РН. Скутина Л.Е. и соавт. [48] при ультразвуковом исследовании почечного кровотока у детей с обструктивными уропатиями показали, что гемодинамические нарушения диагностируются только у детей с III-IV степенью ПМР при длительности процесса более 3 лет, а значительные изменения – у пациентов с клиникой ХПН. Большой интерес вызывают исследования М.И. Пыкова [46], в которых проведено полное ультразвуковое исследование детей раннего возраста с обструктивными уропатиями, а полученные результаты сопоставлены с клинико-лабораторными данными. В его работах показано, что у пациентов при ПМР IV кровоток был ослаблен, показатели периферического сопротивления на уровне сегментарных и междолевых ветвей были повышены, на уровне дуговых артерий были снижены, что клинически всегда сопровождалось протеинурией. У детей с III степенью ПМР отмечалось незначительное повышение индекса резистентности на уровне сегментарных и междолевых артерий. Резкое снижение индекса резистентности в сочетании с протеинурией может свидетельствовать об активном склеротическом процессе в почке.
Таким образом, появление новых технических возможностей ультразвуковой диагностики, связанных с использованием эффекта допплера, в настоящее время позволяет качественно и количественно изучать ренальную гемодинамику по всем доступным сосудам почки и более объективно оценивать функциональную сохранность почечной паренхимы, характер патологического процесса, а также эффективность проводимой терапии. Тем не менее, на сегодняшний день данные литературы не дают четких количественных показателей, характеризующих степень поражения почечной паренхимы и позволяющих прогнозировать течение заболевания у детей различного возраста, что требует дальнейших исследований в этой области.
В зависимости от оснащения российских клиник оценка вовлечения почечной паренхимы в патологический процесс осуществляется при выполнении статической реносцинтиграфии, которая ранее в педиатрии имела ограниченное применение в силу большой лучевой нагрузки и проводилась в основном для исключения опухолей почек. Разработка новых радиофармацевтических препаратов (РФП) с коротким периодом полураспада и меньшей энергией гамма-квантов, а также создание новой высокочувствительной радиодиагностической аппаратуры привело к повсеместному использованию методов радионуклидной диагностики в детской нефрологии. По данным большинства зарубежных публикаций, сцинтиграфия с 99mТс-DMSA считается «золотым» стандартом выявления паренхиматозных изменений почек у детей с инфекцией мочевыводящих путей [35, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58]. Так, C.V. Araujo и со-авт. [58], сравнивая диагностическую значимость внутривенной урографии и статического радионуклидного исследования почек в обнаружении очагов склероза у детей, перенесших пиелонефрит на фоне ПМР, установили, что сканирование с димеркапто-янтарной кислотой, меченной технецием-99m (99mТс-DMSA) превосходит рентгенологический метод исследования по чувствительности и специфичности. A. Cieslak-Puchalska [59] предлагает использовать реносцинтиграфию для мониторирования процесса почечного сморщивания. Е.С. Yen [60] в своих исследованиях показал, что однофотонная эмиссионная компьютерная томография с 99mТс-DMSA превосходит планарное исследование по чувствительности выявления кортикальных дефектов. В отечественной литературе имеется ограниченное количество работ по радионуклидной диагностике патологии почек у детей. Так, В.И. Вербицкий и соавт. [38] после выполнения статической нефросцинтиграфии 12 детям с ПМР показали, что у пациентов с нефроскле-ротическими процессами отмечается отчетливое снижение накопления РФП в почечной паренхиме. В работе И.Н. Захаровой [35] было показано, что дефекты накопления РФП в почечной паренхиме визуализировались у детей с хроническим пиелонефритом как при обострении, так и в период ремиссии, что чаще наблюдалось у пациентов с аномалиями органов мочевой системы. Следует отметить, что данный метод является удобным для диспансерного наблюдения за качеством проводимого лечения. Применение нефросцинтиграфии у детей при инфекции мочевых путей позволяет избегнуть рентгенологического обследования и судить не только о степени снижения функционирующей паренхимы, но и о характере, размере и топике очагов нефросклероза.
При формировании множественных очагов неф-росклероза с уменьшением почки в размерах либо при развитии двустороннего процесса одним из самых грозных проявлений РН является ХПН, которая требует у 25% детей проведения гемодиализа и трансплантации почки [3]. М.С. Игнатова, говоря о причинах ХПН, сообщает, что среди детей, находящихся на программном диализе, у 10-20% хроническая почечная недостаточность являлась следствием пиелонефрита на фоне ПМР [11]. В ходе исследования связи между степенью ПМР и развитием ренальных дисфункций установлено, что ХПН развивается преимущественно у больных с наиболее тяжелой степенью ПМР [3, 5, 7]. К.У. Ашкрафт отмечает [3], что у многих пациентов диагноз ХПН не был поставлен до первого эпизода инфекции мочевого тракта, либо инфекция распознавалась непосредственно перед или одновременно с установлением диагноза ХПН. При гистологическом изучении биопта-тов почек у этих больных определяются микробновоспалительные изменения почечной паренхимы, что подчеркивает скрытый бессимптомный характер РН и, соответственно, необходимость тщательного длительного наблюдения за детьми с ПМР.
Артериальная гипертензия (АГ) стоит на втором месте среди последствий РН и может быть единственным и первым [4, 6] симптомом РН в случае стерильного рефлюкса. Частота развития артериальной гипертензии при РН, по данным разных авторов, колеблется в пределах 19-73% случаев [1, 62-65]. Течение артериальной гипертензии на фоне заболеваний почек чаще приобретает злокачественный характер. Присоединение АГ отмечается у больных с двусторонним поражением почек [4]. В исследовании М.Е. Аксеновой [63] установлено, что артериальная гипертензия может отмечаться не только у пациентов с РН, но и у детей с ПМР независимо от его степени 116
-
[62]. По мнению А.Н. Цыгина [64], причиной ренальной паренхиматозной гипертензии в детском возрасте в 30-60% случаев АГ служит РН, которая, в свою очередь, является также одной из основных причин ХПН.
На сегодняшний день нефрогенная АГ в детской популяции – не только одно из самых распространенных, но и одно из наименее диагностируемых заболеваний. Развитие АГ при хроническом пиелонефрите происходит медленно, имеет злокачественное течение и часто обнаруживается только в поздней стадии заболевания. У значительной части детей повышение артериального давления (АД) протекает бессимптомно. Для постановки диагноза артериальной гипертензии и установления степени ее тяжести необходимо правильное определение уровня АД [63]. До настоящего времени широко используется разовое измерение АД по методу Н.С. Короткова с использованием тонометра или сфигмоманометра. Известно, что уровень АД – весьма лабильный показатель, который зависит не только от возраста ребенка, но и от множества факторов циркадного, сезонного, климатического характера. Кроме того, имеются различия в уровне АД, связанные с национальными и расовыми особенностями. Важная роль в становлении АГ принадлежит наследственному фактору [67]. В связи с этим рекомендуется как минимум трехкратный амбулаторный контроль АД с измерением его в спокойной обстановке с приданием ребенку комфортного сидячего или лежачего положения, с использованием манжеты, покрывающей не менее 2/3 длины плеча [66]. Но даже трехкратное измерение АД не дает полного представления о его изменении в течение суток. По данным литературы, несовпадение результатов, полученных при разовом измерении и оценке результатов мониторирования, составляет до 32,8% [67, 69].
Определение АД в течение суток является наиболее информативным методом диагностики артериальной гипертензии у взрослых и детей. Накопленный опыт свидетельствует о том, что метод суточного мониторирования АД является наиболее надежным в диагностике артериальной гипертензии, что еще важнее, данная методика позволяет выявлять отклонения параметров суточного профиля АД у больных, не имевших повышенные цифры АД при офисных измерениях. При сопоставлении результатов разового измерения АД и данных СМАД у детей [62-64, 67] показано, что СМАД достоверно информативнее, чем разовое измерение АД. В исследованиях В.В. Длин [67] показано, что по данным СМАД частота детей с повышенным уровнем АД была в 2,2 раза выше по сравнению с результатами, полученными при разовом измерении АД.
Данные средних значений АД у детей малочисленны и противоречивы, так как СМАД еще не достаточно широко применяется в педиатрии. Мультицентровые исследования детской популяции уста- новили, что показатели САД лучше коррелирует не с возрастом, а с длиной тела, а ДАД – практически не зависят от возраста и роста [70]. Для оценки среднего уровня АД за исследуемый промежуток времени и при оценке гипертонической нагрузки в 1997 г. Pogorevc R. et al. и Soergel M. et al. (1997) [70] были предложены нормативы АД для СМАД от 50 до 95 перцентиля у детей дошкольного, школьного возраста и подростков. На современном этапе нормативы для оценки вариабельности систолического и диастолического АД, величины и скорости утреннего подъема, суточного индекса у детей и подростков остаются в стадии разработки [66-69].
В настоящее время метод суточного мониторирования АД широко внедряется в нефрологическую практику, но чаще применяется за рубежом. В свою очередь Polonia J. et al. (1995) [67] утверждают, что использование СМАД в нефрологической практике позволяет исключать вторичные гипертензии, но результаты этого исследования не должны являться абсолютным скринингом для их выявления.
В отечественной литературе имеются лишь единичные работы по использованию СМАД в диагностике симптоматических АГ почечного генеза. Диагностика почечных гипертоний чаще всего базируется на разовых измерениях случайного АД и клинических данных.
Учитывая малый опыт применения СМАД в детской нефрологии на сегодняшний день точно не определены характеристики суточной динамики АД, которые бы указывали на ренальный характер АГ. Однако отмечено, что наиболее типичным для вторичной артериальной гипертензии ренального, реноваскулярного и эндокринного генеза является уменьшение ночного снижения САД и ДАД [34, 66], а для тяжелой почечной гипертензии характерно не столько высокое диастолическое давление, сколько стойкость его на протяжении суток, даже во сне. Rheusz GS. et al. (1994) [71] установили, что у детей с ренальной гипертензией, в отличие от больных с эссенциальной артериальной гипертензией, более выражены нарушения суточного ритма АД, особенно в группе больных с нарушением почечной функции и после трансплантации почек. В исследованиях Lama G. [72] показано, что при проведении СМАД среди детей с РН показатели АД достоверно выше у больных при РН 3-го–4-го типа, чем при 1-м–2-м типе РН. P. Kincaid-Smith утверждает, что артериальная гипертензия при РН регистрируется в 4549%, из них 10% случаев диагностируется с момента постановки диагноза РН [1]. По данным МНИИ педиатрии и детской хирургии [67], при разовом измерении АД у 8% детей с рефлюкс-нефропатией IIIIV степени отмечается артериальная гипертензия. По данным СМАД, явная артериальная гипертензия выявляется в 8% случаев, а латентная – у 2/3 детей с рефлюкс-нефропатией. В отличие от этого у больных с ПМР без признаков РН явная артери- альная гипертензия не выявлена ни в одном случае, а латентная – менее чем у трети детей. В работах В.В. Длин [67] по изучению суточного профиля АД у детей с РН показано, что при использовании СМАД у 73% детей с рефлюкс-нефропатией была диагностирована артериальная гипертензия. При анализе суточного индекса наиболее частым вариантом патологического циркадного ритма АД является «over-dippers», который диагностирован более чем у 40% детей. У трети детей с рефлюкс-нефропатией III-IV степени отмечалось нарушение циркадного ритма АД по типу «non-dippers», и у них наблюдалась явная и латентная артериальная гипертензия.
Таким образом, использование метода СМАД позволяет выявлять бессимптомные формы АГ и диагностировать транзиторные повышения АД в ранние сроки, еще на стадии латентной артериальной гипертензии. Данный подход важен для клиницистов, так как своевременная терапия и профилактика АГ способствует замедлению патологического процесса в почках и улучшает прогноз заболевания у детей с РН. Не подлежит сомнению факт более высокой эффективности профилактики и лечения АГ на ранних этапах ее становления, в детском возрасте, а не на стадии стабилизации и органных повреждений. Таким образом, важной задачей врача-педиатра, детского нефролога и кардиолога является своевременное выявление АГ у детей с ПМР, чтобы решить вопрос о дальнейшей тактике ведения таких пациентов. Множество факторов могут потенциально влиять на суточный профиль АД у детей. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить важность каждого из этих факторов и их вклад в поражение сердца при артериальной гипертензии в детском возрасте. Для выработки стратегии лечения АГ необходимо учитывать ритмические колебания АД в течение суток. Известно, что основной задачей хронотерапии является оптимизация лечения заболевания на основе достиженией хронобиологической науки. Назначение антигипертензивной терапии без учета суточной динамики функционального состояния сердечно-сосудистой системы и регуляторных систем организма не только улучшает циркадную организацию функций, но зачастую дезорганизует их.
Вопросы изучения проблемы ПМР, особенностей клиники и ранней диагностики РН у детей имеют особое значение, так как развитие АГ и ХПН является продолжением несвоевременно диагностированного и леченного пиелонефрита, начавшегося в детском возрасте. Высокий уровень инвалидизации этих больных связан прежде всего со скрытым характером течения РН, которая на начальном этапе своего развития не имеет характерной клинической картины и может характеризоваться симптомами инфекции мочевой системы или НДМП. На современном этапе в большинстве случаев трудно спрогнозировать течение пиелонефрита на фоне ПМР и возможность последующего рубцевания почечной 117
паренхимы как до, так и после успешно проведенного лечения, что говорит о необходимости как можно более ранней его ликвидации. Серьезные медикосоциальные последствия данного заболевания определяют необходимость многолетнего наблюдения и всестороннего внимания не только в оценке клинического состояния, но и в выборе адекватной терапии даже при длительной клинико-лабораторной ремиссии пиелонефрита. Поиск и разработка новых методов ранней диагностики, предупреждения и лечения больных с рефлюксной нефропатией являются одной из актуальнейших проблем детской нефрологии.
Список литературы Современные представления о пузырно-мочеточниковом рефлюксе и рефлюкс-нефропатии в детском возрасте (обзор литературы)
- Папаян А.В. Клиническая нефрология детского возраста (Руководство для врачей)/А.В. Папаян, Н.Д. Савенкова. -СПетербург, Сотис, 1997. -720 с.
- Эрман М.В. Нефрология детского возраста в схемах и таблицах: справочное руководство/М.В. Эрман. -Спб., 1997. -С. 414.
- Детская хирургия: В 3-х т./Руководство. Пер. с англ./под ред. К. У. Ашкрафт. -СПб.: Хардфорд, 1996. -Т. 1. -384 с.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей: метод. рекомендации/сост С.Н. Зоркин. -Москва, 2001. -С. 29-44.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей/Под ред. П.К. Яцыка, В. Звара. -М.: Медицина, 1990. -184 с.
- Либерман Э. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс от внутриутробного периода до взрослого возраста//Нефрология. -1999. -Т. 3, № 2. -С. 78-82.
- Папаян А.В. Актуальные проблемы пузырномочеточникового рефлюкса и рефлюкс-нефропатии в детском возрасте/А.В. Папаян, И.В. Аничкова//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -1996. -№ 3. -С. 50-55.
- Лопаткин Н.А. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс/Н.А.Лопаткин, А.Г. Пугачев. -М.: Медицина, 1990. -208 с.
- Decter R.M. Update on vesicoureteral reflux: pathogenesis, nephropathy, and management/R.M. Decter//Rev Urol. -2001. -№ 3 (4). -P. 172-178.
- Павлов А.Ю. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей: лечебная тактика/А.Ю. Павлов [и др.]//Лечащий врач. -2006. -№ 7. -С. 16-19.
- De Vargas A. Vesicoureteric reflux: A family study/De Vargas A. [et al.]//Medecal genetics. -1978. -Vol. 15. -P. 85-96.
- Ransley P.G. Renal papillary morphology in infants and young children/P.G. Ransley, R.A. Risdon//Urolog. Res. -1975. -Vol. 3. -P. 110-113.
- Hutch J. Theory maturation of the intravesical ureter/J. Hutch//J.Urol (Baltimore). -1961. -Vol. 86. -P. 534-535.
- Prospective Study Committee of Reflux Nephropathy Forum, Japan Clinical characteristics of primary vesicoureteral reflux in infants: multicenter retrospective study in Japan/Nakai H. [et al.]//J Urol. -2003. -Jan; 169(1). -Р. 309-312.
- Abeysekara C.K. Longterm clinical follow up of children with primary vesicoureteric reflux javascript:AL_get(this, 'jour', 'Indian Pediatr.');/C.K. Abeysekara, B.M. Yasaratna, A.S. Abeyanunawardena//Comment in Indian Pediatr. -2006. -Feb; 43 (2). -Р. 111115.
- Pathogenetic factors in vesicoureteric reflux/T.M. Jorgensen//Scand. J. Urol.. -1984. -Vol. 18. -P. 43-48.
- Chandra M. Reflux nephropathy, urinary tract infection and voiding disorders/M. Chandra//Pediatr. -1995. -Vоl. 7. -P. 164-170.
- Reflux-nephropathy/Bailey P.R., С.Р. Hodson, P. Kincaid-Smith. -New York: Masson, 1979. Р. 145.
- Natural history of vesicoureteral reflux in siblings/L.P. Connolly [et al.]//J. Urol. -1996. -Vol. 156. -P. 1805-1807.
- Noe H.N. The long-term results of prospective sibling reflux screening/H.N. Noe//J.Urol. -1992. -Vol. 148. -P. 1739.
- Stephens E.D. Clinical features and prognosis of vesicoureteral reflux/E.D. Stephens//J Coll Radiol Australas. -1963. -Feb; 7. -Р. 17-19.
- Histological study of fetal kidney with urethral obstruction and vesicoureteral reflux: a consideration on the etiology of congenital reflux nephropathy/Shimada K. [et al.]//Int J Urol. -2003. -Oct; 10 (10). -Р. 518-524.
- Dйnes F.T. Vesicoureteral reflux in children/F.T. Dйnes, S. Arap//J Pediatr (Rio J). -1995. -Jul-Aug; 71 (4). -Р. 183-188.
- Blumenthal I. Vesicoureteric reflux and urinary tract infection in children/I. Blumenthal//Postgrad Med J. -2006. -Jan; 82 (963). Р. 31-35.
- Зоркин С.Н. Новый подход к выбору тактики лечения пузырномочеточникового рефлюкса у детей/С.Н. Зоркин//Российский педиатрический журнал. -2000. -№ 5. -С. 38-39.
- Лопаткин Н.А. Патогенетические основы выбора лечения пузырномочеточникового рефлюкса у детей/Н.А. Лопаткин, А.Г. Пугачев, Ю.В. Кудрявцев//Урология. -2002. -№ 1. -С. 47-50.
- Зоркин С.Н. К вопросу о профилактике рецидивов инфекции мочевых путей у детей/С.Н. Зоркин, В.Г. Пинелис, Т.Н. Гусарова//Русский медицинский журнал. -2006. -Т. 14. -№ 12. -С. 925-928.
- Противорецидивная терапия инфекции мочевыводящих путей у детей/С.Н. Зоркин [и др.]//Педиатрия. Consillium medicum. -2005. -07 (2). -Р. 20-23.
- Endoscopic treatment of reflux: migration of Teflon to the lungs and brain/I.A. Aaronson [et al.]//Eur. Urol. -1993. -№ 23. -Р. 394-399.
- Arant B.S. Vesicoureteric reflux and renal injury_/B.S. Arant//Amer. J. Kidney Dis. -1991. -Vol. 17, № 5. -P. 491-511.
- Longterm effect of vesicoureteral reflux on the upper urinary tract of dogs/D. Lenaghan [et al.]//J Urol. -1972. -May; 107 (5). -Р. 755-757.
- Tsai J.-D. Асимптоматический пузырномочеточниковый рефлюкс, определенный в периоде новорожденности при ультросонографическом исследовании/J.-D. Tsai, F.-Y. Huang, T.-C. Tsai//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -№ 5. -1999. -С. 61.
- Морфологические изменения почек при рефлюксогенной нефропатии у больных с врожденным и приобретенным пузырномочеточниковым рефлюксом/А.Г. Пугачев//Урология и нефрология. -1995. -№ 1. -С. 4-5.
- Нефрология: Руководство для врачей/Под ред. И.Е. Тареевой. -М.: Медицина, 2000. -2-е изд., перераб. и доп. -688 с.
- Захарова И.Н., Герасимова Н.П., Савельева О.П. Радио-изотопные методы исследования при пиелонефрите у детей. Педиатрия 2005; 4: 104-110.
- Gregoir W. Le traitement chirurgical du reflux vesicoureteral congenital//Acta. Chir. Belg. -1964. -№ 63. Р. 432.
- Goonasekera C.D. Vesicoureteric reflux and reflux nephropathyIndian/C.D. Goonasekera, C.K. Abeysekera//J Pediatr. -2003. -Mar; 70 (3). -Р. 241-249.
- Особенности рефлюкс-нефропатии у детей раннего возраста/В.И. Вербицкий [и др.]//Педиатрия. -2001. -№ 2. -С. 35-40.
- Экскреция лизосомальных ферментов вгалактозидазы и N-ацетил-вD-глюкозаминидазы с мочой у детей с нефротическим синдромом/С.В.Дмитриенко [и др.]//Материалы II Российского Конгресса. Современные методы диагностики и лечения в детской нефрологии и урологии, г. Москва, 2002. -С. 73-74.
- Ранняя диагностика рефлюкснефропатии у детей на основании определения активности ферментов в моче/Г.А. Гаджимирзаев [и др.]//Материалы III Российского конгресса. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии. -М.: МедпрактикаМ, 2004. -С. 550-551.
- Клиническое значение определения белков в моче для диагностики рефлюкс-нефропатии у детей/Б.М. Махачев [и др.]//Вопросы современной педиатрии. -2004. -Т. 3, № 5. С. 19-22.
- Ранние признаки нефросклероза при рефлюкс-нефропатии/Ф.И. Руснак, Н.Г. Зайкова//Материалы III Российского конгресса. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии. -М.: Медпрактика-М, 2004. -С. 287.
- Фоменко Г.В. Клинико-диагностическое значение энзимурии/Г.В. Фоменко, Г.Г. Арабидзе, В.Н. Титов//Терапевтический архив. -1991. -№ 6. -С. 142-145.
- Characterisation of human N-acetyl-вD-glucosaminidase isoenzymymes as an indicator of tissue damage in disease/S.M. Tucker, R.I. Pierse//Clinics Chimica Acta. -1980. -Vol. 1. -№ 1. -Р. 29-40.
- Лойд З. Гистохимия ферментов/З. Лойд., Р. Госсрау, Т. Шиблер -Лабораторные методы: Москва, 1982. -271 с.
- Допплерографическая оценка уродинамики при обструктивных уропатиях у детей раннего возраста/Пыков И.М. [и др.]//Ультразвуковая и функциональная диагностика. -2004. -№ 3. -С. 71-76.
- Ранняя диагностика рефлюкс-нефропатии у детей/Е.И. Головачева [и др.]//Российский педиатрический журнал. -2003. -№ 2. -С. 11-14.
- Ультразвуковая (эхо-и доплерографическая) оценка состояния почечного кровотока при обструктивных уропатиях у детей/Л.Е. Скутина [и др.]//Ультразвуковая и функциональная диагностика. -№ 2. -2006. -С. 66-74.
- Ольхова Е.Б. Возможности ультразвуковой оценки функционального состояния почек при рефлюкс нефропатии у детей/Е.Б. Ольхова, Е.М. Крылова, И. Ефремова//Эхография. -2001. -Т. 2. -№ 1. -С. 61-67.
- Ольхова Е.Б. Возможности ультразвуковой оценки функционального состояния почек при пузырномочеточниковом рефлюксе у детей/Е.Б. Ольхова//Нефрология и диализ. -Т. 2. -2000. -№ 4. -С. 15-17.
- Подходы к диагностике рефлюкс-нефропатии у детей/Дербенева Л.И. [и др.]//Материалы III Российского конгресса. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии. -М.: Медпрактика-М, 2004. -С. 269-270.
- Procedure guideline for renal cortical scintigraphy in children/A. Gerald [et al.]//J. Nucl. Med. -1997. -№ 38. -Р. 1644-1646.
- Compliance with guidelines for the medical care of first urinary tract infections in infants/L. Adam [et al.]//Pediatrics. -2005. -№ 115. Р. 1474-1478.
- Mouratidis B. Compration of planar and SPECT 99cm-DMSA scintigraphy for the detection of renal cortical defects in children/B. Mouratidis, J.M. Ash, D.L. Gilday//Nucl Med Commun. -1993. -Feb; 14 (2). Р. 82-86.
- Buyukdereli G. Role of technetium-99m N-ethylenedicysteine renal scintigraphy in the evaluation of differential renal function and cortical defects/G. Buyukdereli, I.B. Guney//Nucl Med. -2006. -Mar; 31 (3). -Р. 134-138.
- Evaluation of acute pyelonephritis with DMSA scans in children presenting after the age of 5 years/N. Ataei [et al.]//Pediatr Nephrol. -2005. -20 (10). Р. 1439-1444.
- Results of a five-year study of 99mTc DMSA renal scintigraphy in children and adolescents following acute pyelonephritis/D. Chroustova [et al.]//Nucl Med Rev Cent East Eur. -2006. -9 (1). -Р. 46-50.
- Comparative study between intravenous urography and renal scintigraphy with DMSA for the diagnosis of renal scars in children with vesicoureteral reflux/Araujo C.V. [et al.]//Int Braz J Urol. -2003. -Nov-Dec; 29 (6). -Р. 535-539.
- Cieslak-Puchalska A. Renal scintigraphy using technetium Tc99m-ethylenedicysteine or Spect as a method for examining kidneys in children diagnosed with vesicoureteral reflux/A. Cieslak-Puchalska//Ann Acad Med Stetin. -2001. -№ 47. Р. 77-88.
- Tehnetium-99m-DMSA renal SPECT in diagnosing and monitoring pediatric acute pielonephritis/T.C. Yen [et al.]//J Nucl Med. -1996. -97 (8). Р. 1349-1352.
- Игнатова М.С. Распространенность заболеваний органов мочевой системы у детей/М.С. Игнатова//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -2000. -45 (1). С. 24-29.
- Уровень артериального давления у детей с разной степенью рефлюкс-нефропатии/Аксенова М.Е. [и др.]//Материалы III Российского конгресса. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии. -М.: Медпрактика-М, 2004. -С. 262-263.
- Параметры артериального давления у детей с разной степенью рефлюкс-нефропатии/Аксенова М.Е. [и др.]//Материалы II Российского конгресса. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии. -М.: Медпрактика-М, 2003. -С. 218-219.
- Цыгин А.Н. Артериальная гипертензия у детей/А.Н. Цыгин//Русский медицинский журнал. -1998. -№ 9. -С. 574-578.
- Reflux nephropathy and arterial hypertension/O. Jaboureck [et al.]//Ann Cardiol Angeiol (Paris). -2003. -Nov; 52 (5). Р. 313-316.
- Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертонии. Российские рекомендации (второй пересмотр)//Профилактика заболеваний и укрепления здоровья. -2005. -№ 6. -С. 7-21.
- Длин В.В. Артериальная гипертензия у детей и подростков/В.В. Длин, М.С. Игнатова. -М: Оверфлей, 2004. -с. 124.
- Ледяев М.Я. Значение суточного мониторирования артериального давления у детей в ранней диагностике артериальной гипертензии/М.Я. Ледяев, Т.А. Сафанеева, Б.И.Жуков//Актуальные вопросы педиатрии, перинатологии и репродуктологии. -2006. -№ 3. -С. 178-182.
- Леонтьева И.В. Метод суточного мониторирования артериального давления в диагностике артериальной гипертензии у детей/Леонтьева И.В., Л.И. Агапитов//Российский вестник перинатологии и педиатрии. -2000. -№ 2. -С. 32-38.
- Oschillometric twenty-four-hour ambulatory blood pressure values in healthy children and adolescents: multicenter trial including 1141 subjects/M. Soergel [et al.]//J. Pediatrics. -1997. -Vol. 130, № 2. -Р. 178-184.
- 24-hour blood pressure monitoring in healthy and hypertensive children/G.S. Rheusz [et al.]//Arch. Dis. Child. -1994. -Vol. 70, № 2. -Р. 90-94.
- Reflux nephropathy and hypertension: correlation with the progression of renal damage/G. Lama [et al.]//Pediatr Nephrol. -2003. -Mar; 18 (3). -Р. 241-245.
- Blood Pressure and End-Stage Renal Disease in Men/M.J. Klag [et al.]//N Engi J Med. -1996. -№ 334. -Р. 13-18.
- Accuracy of twenty-four-hour ambulatory blood pressure monitoring (night-day values) for the diagnosis of secondary hypertension/J. Polonia [et al.]//J. Hypertension. -1995. -Vol. 13, № 12. -Р. 1738-1741.