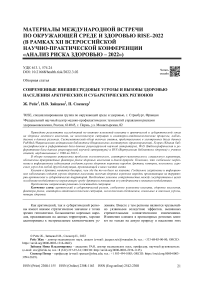Современные внешнесредовые угрозы и вызовы здоровью населения арктических и субарктических регионов
Автор: Рейс Жак, Зайцева Нина Владимировна, Спенсер Питер
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью
Статья в выпуске: 3 (39), 2022 года.
Бесплатный доступ
Приведены результаты исследований по влиянию изменений климата в арктической и субарктической зонах на здоровье местного населения, на экологическую ситуацию и санитарно-эпидемиологические процессы, наблюдаемые в данных регионах. Систематический обзор включал статьи, представленные в электронных базах данных PubMed (Национальная медицинская библиотека Национальных институтов здравоохранения), Scopus (Единая библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы), WoS (Библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы) и BVS (Виртуальная библиотека здоровья) с учетом статей, опубликованных с 1960 по 2021 г. В обзоре освещены актуальные проблемы экологического, санитарно-гигиенического, социального характера, обозначены приоритетные факторы риска здоровью населения и дикой природе. Показано, что глобальное загрязнение и инфекционные заболевания создают угрозы здоровью коренных народов Арктики, которые, возможно, серьезнее угроз для любой другой популяции, проживающей в иных частях света Климат в Арктике меняется быстрее, чем где бы то ни было на планете. Глобальное загрязнение и инфекционные заболевания создают угрозы здоровью населения, включая здоровье коренных народов, проживающих на территории арктических и субарктических территорий. Необходимо усиление сотрудничества между государствами в целях ослабления воздействия на окружающую среду Арктики и повышения ее устойчивости к внешним воздействиям. Предложены направления решения сложившейся ситуации.
Арктический и субарктический регион, глобальное изменение климата, здоровье населения, факторы риска, санитарно-эпидемиологическая ситуация, экологическая обстановка, локальные и завозные угрозы, потери здоровья
Короткий адрес: https://sciup.org/142236523
IDR: 142236523 | УДК: 613.1, | DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.02
Текст обзорной статьи Современные внешнесредовые угрозы и вызовы здоровью населения арктических и субарктических регионов
Рейс Жак – доктор медицинских наук, доцент (e-mail: ; тел.: +333-68-85-00-00; ORCID: .
Зайцева Нина Владимировна – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-25-34; ORCID: .
Спенсер Питер – профессор (e-mail: ; тел.: +1 503-494-1085; ORCID: .
регионов, но угрожают жизни на всей планете вследствие изменений в вечной мерзлоте. В данном исследовании представлены некоторые географические, демографические и культурные характеристики арктического и субарктического регионов, а также проблемы окружающей среды и формируемые угрозы для здоровья проживающего населения.
Цель исследования – аналитический обзор релевантной научной литературы по вопросам экологических, санитарно-гигиенических, социальных и ряда иных факторов, формирующих риски для здоровья населения в арктических и субарктических регионах для выявления актуальных вызовов и проблем, требующих первоочередного решения.
Материалы и методы. Выполнен поиск и анализ статей, представленных в электронных базах данных PubMed (Национальная медицинская библиотека Национальных институтов здравоохранения), Scopus (Единая библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы), WoS (Библиографическая и реферативная база данных рецензируемой научной литературы) и BVS (Виртуальная библиотека здоровья) с учетом статей и информаций официальных организаций, опубликованных с 1960 по 2021 г. Данный систематический обзор затрагивает текущие проблемы и угрозы, связанные с глобальными изменениями, включая климатические изменения, загрязнение, влияние на здоровье и психологический дискомфорт жителей.
Результаты и их обсуждение . Географический профиль арктического и субарктического регионов. Согласно географическому определению, Арктика – это регион, расположенный к северу от Полярного круга (примерно 66° 34' с.ш.). С позиции экологии это регион в Северном полушарии, где средняя температура самого теплого месяца (июль) не поднимается выше 10 °C (50 °F); северная граница ареала распространения деревьев примерно совпадает с изотермой на границе данного региона. Вне зависимости от того или иного определения, Арктика – уникальный регион среди всех экосистем, существующих на Земле. Она состоит из Северного Ледовитого океана и примыкающих морей, которые почти повсеместно покрыты сезонным морским льдом, и суши, для которой характерно сезонное покрытие разным сочетанием льда и снега. Суша преимущественно является зоной вечной мерзлоты – не тающий слой льда под земной поверхностью. Континентальная часть Арктики принадлежит Канаде, Дании (Гренландия), Финляндии, Исландии,
Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США (Аляска). Эти восемь стран являются участниками Арктического Совета вместе с шестью постоянными участниками, представляющими коренные народы региона. Субарктическая зона Северного полушария включает в себя регионы, расположенные непосредственно к югу от Полярного круга, и регионы, схожие с ними в части климата и условий проживания. Субарктический регион (50° и 70° с.ш.) включает в себя большую часть Аляски (США) и Канады, Исландию, север Скандинавии, Сибирь (Россия), Шетландские острова (Великобритания) и Кернгормские горы (Шотландия) [1].
Арктический и субарктический регионы отличаются крайне низкой плотностью населения. В них постоянно проживает примерно 4 млн человек, из которых 500 тыс. – коренные народы1. Число людей в некоторых городах превышает 100 тыс. человек (например, Анкоридж, Архангельск, Рейкьявик, Мурманск). Население растет на Аляске и в Исландии и уменьшается в арктической зоне Российской Федерации2.
Арктические государства первоначально инициировали научное, а позже – и политическое сотрудничество в конце 80-х гг. прошлого века с целью изучения проблем опасно хрупкой экологической ситуации в регионе, возникшей в результате химического и радиоактивного загрязнения3. Несмотря на все геополитические разногласия между странами-участницами, в 1996 г. был формально основан Арктический Совет, который на сегодня является ведущим межправительственным форумом, поддерживающим сотрудничество, координацию и взаимодействие между арктическими государствами, коренными народами Арктики и прочими обитателями региона. В сфере деятельности Совета – насущные проблемы Арктики, в первую очередь, связанные с устойчивым развитием и защитой окружающей среды. Шесть постоянных членов Совета, представляющих коренные народы Арктики, включают в себя Алеутскую международную ассоциацию, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Инуитский приполярный совет, Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Союз саамов. В качестве наблюдателей в Совет были включены 13 неарктических государств, а также ряд межправительственных, межпарламентских неправительственных ор-ганизаций4.
Климатические изменения как источник проблем в зоне с экстремальным климатом. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC)5 выпустила в 2019 г. специальный отчет, посвященный полярным регионам, океану и криосфере в условиях меняющегося климата. В отчете отмечалось, что глобальное потепление привело к повсеместному уменьшению криосферы (замерзших компонентов системы Земли). Причины: таяние ледяного покрова и ледников ( с очень высокой степенью уверенности ), уменьшение снежного покрова ( с высокой степенью уверенности ), уменьшение площади и толщины ледяных покровов на арктических морях ( с очень высокой степенью уверенности ), а также повышение температуры вечной мерзлоты ( с очень высокой степенью уверенности ). Ранее, в апреле 2006 г., влияние все увеличивающихся потерь арктического льда по причине глобального потепления было наглядно продемонстрировано фотографией белого медведя, застрявшего на маленькой льдине и окруженного водой со всех сторон. Фото было помещено на обложке журнала Time , американского новостного издания, которое читают во всем мире6.
Эта символическая фотография, озаглавленная «Вам стоит тревожиться. Вам стоит ОЧЕНЬ тревожиться», является наглядным изображением экологических проблем, с которыми сталкивается Арктика. «Глобальное потепление уже наносит вред биологическому миру, ставя многие виды на грань вымирания, а другие – превращая в бездомных паразитов. Но худшее еще впереди» 7. Действительно, в 2013 г. K.T. Fitzgerald [2] утверждал, что «если данная тенденция сохранится, и лед продолжит исчезать, последствия для популяции белых медведей будут поистине ужасающими».
Поразительная степень специфической адаптации к жизни на морском льду, которая позволила белым медведям успешно обитать в данном регионе, стала и той причиной, по которой они оказались столь уязвимы к последствиям изменения климата. Если привычная для белых медведей среда (лед на море) и доступ к привычной для них добыче – кольчатым нерпам – исчезнут, у них останется слишком мало вариантов для выживания. Любые предположения о том, что белые медведи смогут приспособиться и перейти на альтернативные источники питания, являются оторванными от реальности. Весной лед на море тает раньше, а осенью – замерзает гораздо позже, и это продлевает период открытой воды, в течение которого белые медведи привязаны к берегу. Если данная тенденция сохранится, и лед продолжит исчезать, последствия для популяции белых медведей могут быть поистине разрушительными.
Однако изменения климата в регионе могут и поспособствовать выживанию белых медведей. Исследования (1990–1997 гг. и 2012–2016 гг.) самой северной популяции белых медведей, проживающей в Kane Basin8, который во время летнего сезона освобождается ото льда, выявили некоторое увеличение ареала обитания медведей, улучшение их физического состояния и стабильное воспроизводство потомства [3, 4]. Однако авторы пришли к выводу, что «длительность благоприятных эффектов неизвестна, поскольку продолжающееся уменьшение площади льдов по причине изменения климата… будет иметь негативные последствия для белых медведей» [4].
Влияние изменения климата на биоразнообразие должно учитывать адаптивность фауны северных наземных экосистем, сформированную историей биотических и абиотических изменений. Со времен плиоцена арктические экосистемы сталкивались с климатическими изменениями (ледниковые периоды и периоды между ними), что привело к циклическому распространению видов животных и циклической изменяемости численности популяции [1]. Один из примеров данного феномена – очевидное развитие бурых медведей, берущих свое происхождение от популяции белых медведей ( Ursus maritimus ), которые, вероятно, оказались отрезаны от моря таянием льда в конце последнего ледникового периода [5]. Древние греки назвали два созвездия в Северном полушарии Ursus Minor и Ursus Major [6] (Большая и Малая медведицы), а само слово «Арктика» происходит от греческого arktikós , что означает «медведь».
Климат Арктики и ее физическая система характеризуются наличием криосферы, определяемой Международной панелью экспертов по изменению климата (IPCC 2019) как «компоненты Системы Земли на поверхности и под поверхностью суши и океана, которые находятся в замерзшем состоянии. Они включают в себя снежный покров, ледники, ледяные поля, шельфовые ледники, айсберги, морской, речной и озерный лед, вечную мерзлоту и замерзающую в определенный сезон почву»9. Крио- сфера, которая составляет 10 % от поверхности Земли играет важную роль в климатической системе вследствие высокой отражательной способности ее поверхности (альбедо). Возросшее таяние льдов и снега вызывает положительную обратную связь, которая, в свою очередь, может приводить к еще большему потеплению. Этот эффект назван снежной или ледяной альбедо-зависимой обратной связью10.
Климатологи проявляют особый интерес к криосфере, поскольку она играет роль исторического архива климатического поведения. Бурение льда и анализ состава льда в Гренландии помогли ученым реконструировать предыдущие периоды климатических изменений [7], эволюцию глобальных температур за последние два миллиона лет, циклы азота, углерода и метана и даже получить информацию о растительности, ранее существовавшей в Гренландии [8].
В Артике Гренландский ледник занимает площадь в 1,7 млн квадратных километров, что составляет 1/6 часть всего ледяного покрова в регионе (12,3 млн км2, за исключением шельфового льда). В Северном Ледовитом океане в конце зимы средняя максимальная площадь ледяного покрова составляет примерно 15 млн км2, в то время как в Антарктике она достигает примерно 19 млн км2, обычно в сентябре. Таким образом, ледяной покров в Артике является важной частью криосферы.
Вечная мерзлота – это термин, описывающий замерзшую почву (песок, почва, камни или отложения); иногда ее толщина достигает сотен метров. Чтобы считаться вечной мерзлотой, почва должна оставаться замерзшей (с сохранением температуры на уровне нуля или ниже нуля) непрерывно в течение как минимум двух лет. Поскольку в арктической вечной мерзлоте хранится примерно 1700 млрд т углерода, она представляет собой важный климатический параметр11. Увеличение глобальных температур, которое в Арктике является более значительным, чем в любом другом регионе мира, приводит к таянию поверхностных слоев вечной мерзлоты12. Это приводит к выбросу парниковых газов (оксид углерода и ме- тан), производимых биоматериалами (например, остатками растительности) в атмосферу, а также значительно меняет ландшафт (оседание грунта)10. Климатологи внимательно наблюдают и моделируют эволюцию вечной мерзлоты, связанную с изменением климата (увеличение или таяние). По оценкам экспертов к 2011 г. до 2/3 вечной мерзлоты могло быть потеряно в результате потепления атмосферы11.
Арктическая криосфера хрупкая и уникальная подвергается воздействию изменения климата. За менее чем полвека (с 1971 по 2019 г.), среднегодовая температура в Артике выросла на 3,1 °C, в то время как в среднем на планете она увеличилась всего на 1°C. Иными словами, климат в Арктике теплеет быстрее, чем где бы то ни было на планете. Этот феномен получил название «Арктическое уси-ление»13. 20 июня 2020 г. в городе Верхоянске (Россия) была зафиксирована температура 38 °C, что было признано Всемирной метеорологической организацией (WMO) новым арктическим температурным рекордом14.
Летом 2019 г. сотни крупных очагов пожаров бушевали в Арктике (Россия, Аляска и Гренландия). За несколько недель огонь захватил территорию, покрытую травой, кустарниками и торфяниками, примерно в 150 км к северо-востоку от Сисимиута, второго по величине города в Гренландии. В Сибири лесные пожары бушевали на площади в 3 млн гектаров, согласно Федеральному лесному агентству РФ. Дым от многочисленных пожаров достиг таких городов, как Кемерово, Томск, Новосибирск, а также распространился до Алтая и даже Северного полюса и Монголии! Эти пожары были вызваны рекордно высокими температурами и ударами молний, а сильные ветра способствовали их распространению. Только в июне 2019 г. многочисленные пожары привели к выбросу опасных загрязнителей, токсичных газов и примерно 50 Мт диоксида углерода в атмосферу15. Летом 2020 г. были установлены новые рекорды по вредным выбросами, когда очаги пожаров в Арктике превысили уровни 2019 г. по выбросам диоксида углерода16.
Пыль и пылевые бури, которые обычно ассоциируются с пустынями, возникают и на более высоких широтах (≥ 50° с.ш. и ≥ 40° ю.ш., включая и Артику ≥ 60° с.ш.). Источники пыли на высоких широтах разнообразны [9]. В Гренландии ее появление связано с перемалыванием ледников и измельчением горных пород, что приводит к возникновению мелкозернистого осадка – ледниковой пыли. На юге пыль сдувается с поверхностных слоев почвы выброса в течение всего года. Частично пыль является следствием деятельности человека по круглогодичной добыче полезных ископаемых и посыпания дорог и тротуаров песком в зимний период. На высоких широтах ветра могут оказаться достаточно сильными, способными донести облака пыли до побережья. Пылевые бури нередко наблюдались в Гренландии, и их возникновение было отмечено 01.10.2020 г. на полуострове Нууссуак спутниками программы «Коперник».
Пыль на высоких широтах вызывает многочисленные климатические и экологические изменения в таких регионах, как Аляска, Канада, Дания, Гренландия, Исландия, Шпицберген, Швеция и Россия, – от формирования облаков до изменения химического состава атмосферы, морской среды, продуктивности экосистем. Эти изменения влияют на качество воздуха и здоровье населения на локальном, региональном и глобальном уровнях через изменение климата, загрязнение воздуха, ухудшение источников питания.
Абсолютно необходимым является холистический подход к последствиям стремительного изменения климата в арктическом и субарктическом регионах. При изучении биофизической системы Арктики J.E. Box et al. [10] предлагают следующий набор показателей: температура воздуха; биомасса тундры; локальная гидрология и таяние вечной мерзлоты; увеличивающееся число пожаров; возросшая биомасса кустарника; временной разрыв между периодом цветения и появлением опылителей; увеличивающаяся уязвимость растений к воздействию насекомых; изменения в ареалах распространения животных и их демографии. Регулярное обновление значений этих показателей может служить инструментом оценки экологических воздействий, связанных с изменением климата.
Отчет IPCC, выпущенный в 2019 г., был посвящен полярным регионам, океану и криосфере в условиях изменения климата. В докладе сделан акцент на изменении арктической экосистемы и на использовании людьми океана и криосферы в условиях изменения климата. Это использование включает в себя получение пищи и воды, возобновляемой энергии, культурные ценности, туризм, торговлю и транспорт. Показано, что негативные последствия для Арктики, вызванные изменением климата, кото- рые уже можно наблюдать сегодня, затрагивают океан (уровень моря, pH воды, температура, распространение бурых водорослей), ландшафт с глубокими физическими изменениями (оседание грунта) и некоторые экосистемы (реки и ручьи). Воздействие на деятельность человека включает в себя положительный эффект для туризма (Аляска и Скандинавия) и повсеместно отрицательный эффект для сельского хозяйства и инфраструктуры. Однако в отчете не содержится никакой информации о воздействии изменения климата на здоровье, особенно на здоровье коренных народов Арктики.
Угрозы, вызванные локальным и трансграничным загрязнением. Помимо потепления климата, проблемой Арктики является и глобальное химическое загрязнение, которое достигает полярных регионов. Это позволило С. Sonne et al. провозгласить Арктику «сточной канавой химикатов» [11]!
Хотя некоторые источники загрязнения являются местными (например, горные разработки или пестициды), большая часть загрязнителей проникает с более низких широт с воздушными или океаническими течениями, реже – наземными маршрутами. Например, ртуть попала в Артику через атмосферу преимущественно из источников, расположенных в Восточной Азии [12]. Переносом на удаленные расстояния определено загрязнение Арктики стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), среди которых промышленные органические хлорсодержащие соединения, полибромированные бифенилы и эфиры дифенила, полифторированные соединения и диоксины [13, 14]. Вопрос воздействия изменения климата на перемещение и судьбу этих загрязнителей возник относительно недавно [11], и интерес к нему был впоследствии подтвержден [14]. Рассеивание загрязнителей, особенно в воздухе и в морской среде, значительно воздействует на экосистему в целом и объясняет биотрансформацию, бионакопление и биоувеличение. Это производит негативные эффекты на фауну Арктики (зоопланктон, морские беспозвоночные, рыба, морские птицы), в особенности, на млекопитающих (тюлени, ездовые собаки, киты, белые медведи). Так, доказано, что СОЗ воздействуют на органы и системы живых организмов, вызывая нейроэндокринные нарушения, подавление иммунитета и снижение минеральной плотности костей [11].
Проблемы здоровья населения арктического и субарктического регионов. В 1950-х гг. на Аля-ске17, а также в Канаде [15] основными инфекционными заболеваниями жителей были туберкулез, полиомиелит и паразитические заболевания (глисты, трихинеллез и эхинококки, вызываемые употреблением в пищу мяса млекопитающих). Также были широко распространены заболевания глаз (конъюнктивит, заболевания роговицы, вызванные воз- действием ультрафиолетового излучения), заболевания, связанные с нарушением питания, наличием вредных привычек (алкоголизм) и укусами насекомых, что вызывало необходимость применения ядохимикатов. Факторами риска для здоровья являлись канализационные сбросы и захоронение отходов в вечную мерзлоту и необходимость выживания в условиях суровых зимних температур (-50 C°).
В конце XX в. Национальная стратегическая программа по устранению внешнесредового воздействия на здоровье, принятая в Швеции [16], обозначила новые вызовы для здравоохранения, связанные с загрязнением окружающей среды такими веществами, как метиловая ртуть, бромированные огнезащитные составы и радионуклиды, выброшенные при Чернобыльской аварии на Украине.
Климат как фактор, влияющий на здоровье человека. Специальный «полярный» выпуск издания «Здоровье человека на краю Земли»18, опубликованный в 2010 г., может считаться основным введением в проблематику охраны здоровья населения Артики с позиции сохранения здоровья населения.
Одним из основных метеорологических факторов, влияющих на организм человека, является температура воздуха. Изменение температуры воздуха вызывает изменение теплообмена человека с окружающей средой. Теплоотдача в основном осуществляется через кожный покров (около 82 %) и органы дыхания (13 %), и зависит от теплоизоляции одеждой. Ветер усиливает теплоотдачи. При значительных отрицательных температурах ветер может привести к переохлаждению организма, а при высоких – усилить кожное испарение19 [17]. Сильный ветер может спровоцировать возникновение гипертонических кризов и нарушение мозгового кровообращения20, а внезапное изменение направления ветра – вариабельность показателей артериального давления21 [18].
Влажность воздуха усиливает влияние температуры воздуха: чем выше влажность воздуха, тем значительнее организм реагирует на влажность как при низких, так и при высоких температурах22. Высокая влажность воздуха при низкой температуре усиливает теплоотдачу и охлаждение тела, а при высокой – способствует перегреванию организма, вплоть до теплового удара [19]. Повышенная влажность воздуха увеличивает вероятность возникновения воздушно-капельных инфекций, вызывает обострение заболеваний органов дыхания и опорнодвигательного аппарата [20].
Атмосферное давление и его изменение могут оказывать влияние на функции организма, вызывая головную боль, нарушение функций сердечнососудистой системы (изменение артериального давления, возникновение сосудистых кризов и внутренних кровоизлияний) и пр. [21–23].
Арктический и субарктический климат характеризуется сочетанным воздействием на организм неблагоприятных погодных факторов, что становится причиной развития у человека «синдрома полярного напряжения» или «северного стресса». Основными составляющими звеньями этого полисиндрома являются: окислительный стресс, недостаточность детоксикационных процессов и барьерных органов, расстройства северного типа метаболизма, северная тканевая гипоксия, иммунная недостаточность, гиперкоагуляция крови, полиэндокринные расстройства, регенераторно-пластическая недостаточность, нарушения электромагнитного гомеостаза, функциональная асимметрия межполушарных взаимоотношений, десинхроноз, психоэмоциональное напряжение, метеопатия. При этом хронический стресс вызывает истощение резервных возможностей организма, что в последующем довольно часто приводит к развитию каскада дезадаптивных расстройств, а позже к возникновению патологических состояний [24]. Существует также понятие «синдром географической широты», заключающийся в росте заболеваемости и смертности населения разных стран мира по мере удаления места проживания от экватора23.
Проживание на территории Арктики и субарктики способно оказывать влияние на органы дыхания, органы зрения, костно-мышечную систему, эндокринную систему, систему кровообращения, мочеполовую систему и органы пищеварения. Так, при сравнении показателей заболеваемости жителей Северного полярного круга (68º северной широты) с заболеваемостью населения, проживающего в средней полосе России (56º северной широты), установлено превышение общей заболеваемости как среди детского (в 1,5 раза), так и среди взрослого населения (в 1,3 раза). Для детского населения характерна более высокая распространённость болезней органов дыхания, глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также болезней эндокринной системы и расстройства питания. У взрослого населения заполярных территорий выше заболеваемость болезнями системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, болезнями глаза и его придаточного аппарата [25]. Кроме того, по результатам сравнения заболеваемости населения муниципальных образований за Полярным кругом (67º с.ш.) и средней полосы России (54° с.ш.) установлено, что среди взрослого населения заполярных территорий выше распространенность болезней костно-мышечной системы (в 2,5–2,6 раза), болезней глаз и его придаточного аппарата (в 2,7–2,0 раза), болезней мочеполовой системы (в 2,6–2,4 раза), болезней органов пищеварения (в 1,5 раза), болезней системы кровообращения (в 1,3–1,6 раза) [26].
Установлено, что распространенность артериальной гипертензии (АГ) в условиях высоких ши-рот24 значительно выше, чем в средних. При этом ее частота нарастает с увеличением времени проживания на приполярных территориях [27–29]. Особенности АГ на территории Арктики и субарктики заключаются не только в ее значительном «омоложении», но и в клинических проявлениях болезни25, в быстром её прогрессировании. В условиях высоких широт АГ характеризуется более тяжелым течением, чаще проявляется гипертоническими кризами со значительным повышением как систолического, так и диастолического давления, резкими нарушениями высшей нервной деятельности, нередко приводящими к инсультам и инфарктам миокарда [30–32]. При этом выделяется особый северный вариант гипертонической болезни с выраженной метеолабильностью, выраженностью кризов по церебральному и кардиальному типам, с инсультами и инфарктами миокарда [29].
В результате исследования О.Н. Поповой [33] подтверждено, что фактор географической широты оказывает влияние на показатели функции внешнего дыхания у лиц, родившихся и проживающих в условиях Крайнего Севера. Выявлены изменения функционального состояния респираторной системы (жизненная емкость легких, величины резервных объемов вдоха и выдоха, достоверно превышающие стандартные величины, увеличение дыхательного объема), которые являются компенсаторно-приспособительными реакциями организма в ответ на воздействие экстремальных природно-климатических факторов. В качестве морфологической основы данного функционального сдвига указывается умеренный отек межальвеолярных перегородок, который у северян был подтвержден электронно-микроскопическим методом.
По данным К.Н. Дубинина [34] влияние широтного фактора на эндокринную систему подтверждается многолетними исследованиями, показывающими, что в условиях высоких широт активизи- руется система «гипофиз – надпочечники», выявляется высокая лабильность тиреоидных гормонов и смещение пределов содержания тиреотропного гормона в сторону меньших величин. Напряжение адаптации у жителей Европейского Севера сочетается с низкими значениями общего трийодтиронина (Т3) при повышении уровня наиболее активного свободного Т3.
В исследованиях Е.В. Типисовой [35] установлено, что у мужчин, проживающих на среднеширотных территориях (59° 13´ с.ш.), выявлена минимальная активность системы «гипофиз – щитовидная железа (трийодтиронин, свободный тироксин)» по сравнению с таковой у жителей заполярных (66° с.ш.) и приполярных территорий (64° с.ш.). Кроме того, у мужчин, проживающих на территории 64–65° с.ш., по сравнению с постоянными жителями Заполярья, на фоне более выраженной активизации системы «гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников» снижаются резервные возможности системы «гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа» при смещении уровня пролактина в сторону снижения и адаптационной роли эстрадиола в регуляции функции системы «гипоталамус – гипофиз – щитовидная железа».
По данным В.Н. Петрова [25], воздействие фактора географической широты на увеличение числа случаев заболеваний органов глаза и его придаточного аппарата среди жителей Заполярья связано с низким содержанием кислорода в воздухе. Как следствие – возрастает недостаточность кислорода в сосудах, кровоснабжающих зрительный нерв и сетчатку глаза, хрусталик. Это уменьшает адаптационные возможности зрительного аппарата, особенно в период полярной ночи. Изменения кровообращения в системе центральной глазничной артерии указывают на сосудистые сдвиги и состояние мозговой гемодинамики.
Влияние полярного дня и полярной ночи, смены дня и ночи на здоровье человека. Отсутствие в течение длительного времени четко выраженной смены дня и ночи, а также наличие полярного дня и полярной ночи (контрастные сезоны световой апериодичности) относятся к специфическим северным факторам, характерным для территорий, расположенных выше 67–68° с.ш. В исследовании А.В. Еникеева с соавт. [36] доказано, что наличие полярной ночи и полярного дня, а также отсутствие в течение длительного времени выраженной смены дня и ночи способны оказывать существенное влияние на здоровье человека, формируя риски для здоровья населения со стороны ор- ганов дыхания, эндокринной системы, системы кровообращения.
В исследовании В.Н. Чеснокова [39] установлено, что для периода полярной ночи также характерно напряжение адаптивных механизмов сердечно-сосудистой системы, выраженное в увеличении вклада сердечного и сосудистого компонентов в обеспечение приспособительных реакций сердечно-сосудистой системы. А в работе В.Н. Пушкиной26 выявлено напряжение в системе кровоснабжения мозга на фоне увеличения тонуса мозговых сосудов.
По данным Ю.Ю. Юрьева и Е.В. Типисова [40], а также A. Kauppila et al. [41], наличие контрастных сезонов световой апериодичности оказывает влияние на эндокринную систему путем изменения содержания гормонов в организме человека. Так, в период увеличения продолжительности светового дня у жителей Севера активизируется система «гипофиз – гонады», что может приводить к различного рода дисбалансам, связанным как с чрезмерным повышением ее активности, так и с истощением резервов.
К.Е. Киприяновой с соавт. [42] установлено, что у жителей Крайнего Севера в период увеличения продолжительности светового дня наблюдаются, как значительные превышения нормативных значений уровней тестостерона и эстрадиола, так и аномально низкие концентрации глобулина, связывающего половые гормоны, общих и свободных фракций тестостерона.
В исследовании Е.В. Типисовой [35] установлено, что адаптационной реакцией мужчин (жителей Европейского Севера) в период уменьшения продолжительности светового дня является повышение уровня инсулина в крови и снижение существующих резервов коры надпочечников с повышением этих резервов в период минимальной продолжительности светового дня; у детей и подростков мужского пола выявлены опережающие адаптивные реакции со стороны эндокринной системы.
К.Н. Дубининым [34] было отмечено, что особенности гипофизарно-тиреоидной системы, а также зависимость уровней гормонов щитовидной железы от фотопериодичности имеют общее адаптационное значение для организма человека в неблагоприятных условиях Европейского Севера.
В исследовании В.Н. Пушкиной20 подтверждено, что в период «биологической полярной ночи» и «белых ночей» наблюдается напряжение психоэмоционального состояния, что проявляется в повышении уровня ситуационной и личностной тревожности, ухудшении самочувствия и снижении активности на фоне выраженного роста агрессивных проявлений [39, 43].
Изменения климата, число травм и несчастных случаев. Растущие температуры нарушили нормальные процессы формирования и вскрытия льда. Это привело к тому, что условия для путешествий стали непредсказуемыми и небезопасными, что, в свою очередь, вызвало рост числа травм и смертей [44]. Эти данные приводятся в отчетах сообществ инуитов в Канаде. Записи о поисковоспасательных операциях за период с 1995 по 2010 г. показали, что годовое число несчастных случаев составило 19 на 1000 человек, кроме того их число было в шесть раз выше среди мужчин, чем среди женщин, а наибольшее число несчастных случаев отмечено среди возрастной группы 26–35 лет. Критическими факторами риска являлись условия внешней среды (погода и состояние льда), особенно для путешествующих по морскому льду в зимний период, а также возраст и пол. В отличие от других исследований, в работе A. Durkalec et al. [45] интоксикация (алкоголь) была отмечена как наименее распространенный фактор, связанный с несчастными случаями. Исследование более чем 4000 случаев утопления, случившихся зимой, в 10 странах Северного полушария выявило экспоненциальный рост в регионах с более теплой зимой (с температурой воздуха около 0°C). Факторами риска являлись условия внешней среды (температуры воздуха в зимний период – от -5°C до 0°C, нестабильный лед), возраст (дети и взрослые не старше 39 лет), обычаи коренного населения и поведение (образ жизни, требующий длительного пребывания на льду) [46].
Инфекционные заболевания в арктическом и субарктическом регионе под влиянием изменения климата. Удивителен тот факт, что интерес к возникновению и распространению инфекционных заболеваний в арктическом и субарктическом регионах возник лишь недавно. C. Hedlund et al. [47] подчеркивали, что в 2014 г. можно было найти лишь несколько исследований, в которых описывались Сибирь и Аляска, и не было доступных исследований по Гренландии или Исландии. Авторы предложили осуществлять систематический надзор и мониторинг экстремальных природных явлений после того, как они изучили их влияние на распространенные инфекционные заболевания. Эти заболевания включают в себя алиментарные инфекции (сальмонеллез и кампи- лобактерии), заболевания, вызываемые грызунами (например эпидемическая нефропатия), воздушнокапельные инфекции (респираторные патогены) и трансмиссивные заболевания (клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), боррелиоз). Спирохета Borrelia burgdorferi вызывает болезнь Лайма, которая является наиболее распространенным трансмиссивным заболеванием среди населения Северного полушария. Количество случаев болезни Лайма в Европе в конце 2000-х гг. составляло примерно 35 тыс. [48].
Инфекционные заболевания, чувствительные к климату и распространенные в северных и арктических регионах, такие как боррелиоз, лептоспироз, КВЭ, вирусная инфекция Пуумала, криптоспоридиоз и Ку-лихорадка, имеют значимые связи с климатическими переменными, связанными с температурами и состоянием пресной воды. В то время как эти инфекции являются все возрастающей угрозой для людей, риск лептоспироза может снижаться в условиях возрастающих температур и влажности. «В условиях всего региона, заболеваемость КВЭ имеет отрицательную взаимосвязь со всеми (гидро-) климатическими переменными, одновременно для заболеваемости боррелиозом эта взаимосвязь является положительной». Это стоит отметить, поскольку у данных заболеваний один и тот же переносчик, а именно иксодовые клещи [49]. Таким образом, один и тот же переносчик может распространять патогенную бактерию ( Borrelia ) и нейротропный вирус Flaviviridae (КВЭ).
Погодные условия, выпадение осадков, влажность (относительная влажность, по меньшей мере 85 %) и температура воздуха влияют на жизненный цикл и ареал обитания иксодовых клещей. Эти факторы вносят определенный вклад в географическую экспансию в связи с изменением ареалов растительности и носителей в дикой природе (олени, птицы и грызуны), которые переносят клещей на новые территории [48, 49]. Например, иксодовый клещ овец Ixodes ricinus распространился на северные регионы Швеции и Норвегии [49]. В дополнение к этой экспансии увеличение числа укусов клещей было связано с повышением годовой температуры. Контакты человека с дикой фауной вследствие урбанизации и появления зеленых зон в городах, а также изменение поведенческих трендов (увеличение числа людей, увлекающихся походами, любителей дикой природы и домашних животных) привели к возникновению повышенного риска экспозиции клещевыми патогенами [48].
Состояние дикой природы оказывает определенное влияние на здоровье человека. Овцебыки и карибу поражены гельминтами (легочный тип), которые быстро распространились на север от их привычного ареала в центральной арктической Канаде. Считается, что данная ситуация вызвана более быстрым потеплением на высоких широтах, что благоприятствует распространению гельминтов и их промежуточных носителей гастроподов [48]. Хотя хро- ническая изнуряющая болезнь (олени, лоси, карибу) и не связана напрямую с изменением климата, она представляет собой одну из самых серьезных проблем в Арктике. Это заболевание, впервые обнаруженное в 1900-х гг. на западе США, к 2012 г. распространилось на 19 штатов в США и две провинции в Канаде [50], а к 2021 г. – на 26 штатов в США и три провинции в Канаде [51]. После 10 лет наблюдения первый случай заболевания был зарегистрирован у северного оленя в Норвегии в 2016 г. С тех пор о новых случаях сообщалось в Норвегии, Швеции и Финляндии. Помимо угрозы популяциям данных животных по всему миру следует изучить и риск данного заболевания для людей (безопасность пищевых продуктов). В рамках перспективы «Единое здоровье» Ruscio et al. подробно изучают историю достижений в данной сфере и предлагают стратегии противодействия угрозе [52].
Таяние вечной мерзлоты вследствие глобального потепления и специфические риски здоровью, связанные с ним. В то время как органическое вещество в тающей вечной мерзлоте подвергается влиянию микробной деятельности с последующим выбросом парниковых газов (диоксид углерода и метан), здоровье человека также может подвергаться определенному риску вследствие дополнительных выбросов химических и радиоактивных материалов из недавних осаждений в вечной мерзлоте [53]. Биологические риски, связанные с таянием вечной мерзлоты, отличаются наиболее высокой степенью неопределенности. Ранее уже подчеркивалась уникальная способность вечной мерзлоты сохранять биологические формы. Это позволило A. Абрамову и соавт. написать в своей работе, что «вечная мерзлота используется как палеологиче-ский архив» [54]. Широко известны случаи обнаружения тел мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте Сибири. Менее известен тот факт, что разнообразные микроорганизмы ( Archaea, Bacteria and Eukarya ), а также вирусы тоже могут быть обнаружены в вечной мерзлоте. Некоторые из них даже удалось культивировать, что говорит о том, насколько хорошо вечная мерзлота сохраняет жизнь [54]. Потенциальное воздействие на здоровье людей в современных условиях, вызванное множеством неизвестных микроорганизмов, которые сохранялись в вечной мерзлоте в течение десятков или даже сотен тысяч лет, является вопросом исключительной важности27.
Обнаружение вируса H1N1, который вызвал глобальную эпидемию гриппа «испанка», хорошо иллюстрирует угрозы, связанные с изолированными микроорганизмами. Пандемия испанки привела к смерти от 20 до 50 млн человек в 1918–1919 гг. Полная история данного события заслуживает особого внимания [55]. Некоторые основные эксперты в данной области, начиная с Johan Hultin в 1951 г., безуспешно пытались выделить вирус 1918 г. из тел жертв пандемии, погребенных в вечной мерзлоте на кладбище Миссии
Brevig. Ученый снова принял участие в исследованиях в 1997 г., в возрасте 72 лет, во время его второго путешествия на кладбище Миссии Brevig (Аляска). Он предоставил образцы ткани легких доктору Jeffery Taubenberger и доктору Ann Reid, которым удалось изолировать РНК. Обладая геномной РНК вируса 1918 г., изолированной из легочных тканей, зафиксированных в формалине после аутопсии, данные ученые смогли наконец-то осуществить секвенирование генома вируса 1918 г. [56]. Микробиолог доктор Peter Palese и его команда создали плазмиды, впоследствии использованные доктором Terrence Tumpey для реконструкции вируса, вызвавшего пандемию в 1918 г. [57].
В отличие от вируса гриппа H1N1, который был реконструирован, некоторые вирусы могут «выживать в неприкосновенности в ледяных участках в течение какого-то периода времени и сохранять заразность» [58]. Это было показано на примере вируса, ассоциированного с фекалиями карибу (aCFV), который, возможно, присутствовал в растительной пище карибу и был выделен из образца фекалий возрастом 700 ± 40 лет [59].
Изучение вирусной жизни в вечной мерзлоте Сибири позволило обнаружить гигантский вирус, названный Pithovirussibericum . Он был изолирован из образца радиоуглерода, чей возраст превышал 30 тыс. лет. Ранее в исследованиях сообщалось об обнаружении геномных структур вируса томатной мозаики tobamovirus в ледниковых льдах возрастом 140 тысяч лет в Гренландии, но жизнеспособность вируса в данном исследовании не изучалась [60].
Риск инфекционных заболеваний млекопитающих, связанный с высвобождением микробов из тающей вечной мерзлоты, реализовался в 2016 г., когда Bacillus anthracis (спора сибирской язвы) убила тысячи оленей и заразила десятки людей на полуострове Ямал в северной части Западной Сибири. После 70 лет, в течение которых сибирская язва не обнаруживалась, данная вспышка приблизилась по тяжести к повторяющимся региональным эпизоотиям начала XX в. Активация спор в 2016 г. была вызвана несколькими факторами, включая шесть лет относительно теплой погоды, за которыми последовали холодные годы, тогда толстый слой снега не дал почве замерзнуть. Волна жары летом 2016 г. ускорила таяние вечной мерзлоты, данную ситуацию дополнительно усугубило незначительное количество осадков в июле того же года (менее 10 % от среднего уровня за 30 лет) [61].
Воздействие загрязнения на продукты питания и питьевую воду. Понимание последствий техногенного загрязнения в северном полушарии привело к созданию фокусной программы исследований в 1997 г. В рамках Программы арктического мониторинга и оценки (АМАР) осуществляется постоянный надзор за загрязнением СОЗ окружающей среды в экосистеме Арктики. В 1998, 2002 и 2009 гг. эксперты Программы опубликовали отчеты о результатах и рисках здоровью населения, проживающего в Арктике [62].
Культурные и поведенческие особенности коренных народов являются ключом к пониманию маршрутов, посредством которых загрязнители могут проникать в организм. Первым примером здесь могут послужить обитатели Фарерских островов, которые употребляют в пищу мясо морских млекопитающих (китов), птиц и прочие морские продукты, а в Гренландии в пищу употребляют даже мясо белого медведя. Ткани этих животных могут быть загрязнены такими опасными веществами, как ртуть, металлы и СОЗ (например, полихлорированные бифенилы, хло-рорганические пестициды), и употребление их мяса в пищу приводит к экспонированию населения загрязнителями с нейротоксическим [63, 64], генотоксическим и репродуктивно-токсическим потенциалом [62, 65]. В плазме обитателей Арктики были обнаружены повышенные уровни хлорорганических соединений. Повышенные средние концентрации ДДЕ, продукта распада ДДТ, были обнаружены в плазме людей, страдающих болезнью Паркинсона. Заболеваемость болезнью Паркинсона с коррекцией на возраст на Фарерских островах (209 случаев на 100 тыс. населения) и в Гренландии (187,5 случая на 100 тыс. населения) выше, чем на Балтийских островах в Дании (98,3 случая на 100 тыс. населения). Пациенты в Гренландии, как правило, были более молодого возраста, и у большей части из них наблюдалось снижение когнитивных функций [63, 64].
Экспозиция метиловой ртутью в мясе морских млекопитающих и других морепродуктах может повлиять на развитие головного мозга человека. У детей сообщества инуитов в Qaanaaq (Гренландия) средняя концентрация ртути в волосах (5 мг/г) была выше, чем у их матерей (1,5 мг/г). При отсутствии каких-либо явных клинических симптомов у детей нейропсихологическое тестирование показало дефицит, возможно, связанный с экспозицией данным веществом. Помимо этого, в совокупности с данными другого исследования (Фарерские острова) было обнаружено, что пиковые задержки в реакции слуховых нервов в мозговом стволе имели тенденцию к увеличению при повышенных уровнях экспозиции [66].
В том же самом исследовании выявлено, что уровень повреждения ДНК в сперме инуитов был существенно ниже. Необходимы дальнейшие исследования для определения, воздействуют ли СОЗ в сыворотке крови на рецепторы гормонов и / или белок, кодируемый у человека геном AHR (англ. Aryl hydrocarbon receptor). «Арктическая дилемма» заключается в том, что наряду с употреблением традиционной гренландской пищи, которая содержит СОЗ, в рационе присутствуют некоторые важные питательные вещества, такие как микроэлементы, антиоксиданты и морские ненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье. Однако в нескольких исследованиях высказывается предположение, что увеличение доли завозных продуктов в рационе может привести к возникновению иных рисков для здоровья, например, метаболическому синдрому и последующему увеличению массы тела, гипертонии, сахарному диабету, ССЗ и раку, включая рак груди.
Для разъяснения данных аспектов требуются дальнейшие исследования, включая те, которые направлены на определение биомаркеров экспозиции и эффекта, эпигенетического контекста и соответствующих полиморфизмов генов. Также необходимы исследования типа «случай – контроль» и исследования с участием разных поколений обитателей Арктики. Наконец, необходима разработка новых биомаркеров для изучения потенциального воздействия СОЗ, которое подавляет иммунную систему и влияет на развитие ЦНС. Хотя традиционная гренландская диета в совокупности с курением обычно ассоциируется с повышенным поступлением СОЗ по сравнению с таковым у европейцев, и у мужчин-инуитов традиционно отмечается более низкий уровень повреждения ДНК в сперматозоидах. Возможным объяснением может быть то, что арктическая диета относительно богата селеном и омега-3-нена-сыщенными жирными кислотами [62]. Однако экспозиция беременных женщин в Гренландии опасными металлами (обнаружено в крови) в концентрациях выше безопасных уровней может «оказать дозозависимое пагубное воздействие на рост и развитие плода». Были обнаружены различные отклонения от нормального развития, включая низкий вес детей при рождении, окружность головы ниже нормы, а также преждевременные роды у женщин [65].
Второй пример культурных традиций многих коренных народов Севера связан с особенностями употребления пищи и воды. Помимо культурных предпочтений, употребление сырой воды (из озер, прудов, рек, растопленного снега) является повсеместным, особенно в процессе охоты, рыбалки, установки ловушек и собирательства [67]. Для коренных народов северозападных регионов Сибири в сезон рыболовства или забоя оленей « такая диета является источником готового набора макро- и микроэлементов, необходимых для выживания в суровых условиях Арктики» [68]. Примером положительного эффекта от употребления традиционной пищи является включение в рацион мяса оленя, которое, как было показано, уменьшает риск развития гипертонии и хронического необструктивного бронхита. Однако в настоящее время, как показали Е. Богданова и соавт. [69], уровень потребления традиционной пищи из мяса оленя упал почти на 50 %, частично по причине экспорта таких продуктов и воздействия изменения климата, которое изменяет сезон рыболовства и нарушает традиционные миграционные маршруты оленей [68]. Безопасность продуктов питания и воды, связанная с уровнями химического и биологического загрязнения, является серьезной проблемой для населения Арктики, как и заболевания, связанные с употреблением некачественной воды.
Самоубийства в Арктике - признак культурного дистресса? Robert Gessain описаны трагические случаи, связанные с самоубийствами среди подростков в Ammassalik-Tasilaq (Гренландия) летом 1994 г.
Французский этнолог Catherine Enel, проживавшая в данном сообществе, объясняла суицидальные наклонности местных подростков и побудила R. Gessain к исследованию судеб инуитов. В 1969 г. он написал: « Ammassalimiut как культура исчезнут с лица Земли, оставив многочисленных потомков. Смерть культуры и взрывной рост населения, этноцид и генетический бум – все это последствия западной экспансии на эти арктические берега» 28. Риски суицидального поведения, включая мысли о самоубийстве, являются одной из важных проблем общественного здоровья и здравоохранения в арктических государствах и их северных регионах [70]. Избыточный риск связан с этнической принадлежностью (коренные народы), возрастом и полом. Число самоубийств в популяции норвежских саами выше среди мужчин в возрасте 15–24 лет. Кроме того, данный показатель среди мужчин почти в два раза превышает таковое среди женщин. Среднее число самоубийств, стандартизованное по возрасту, значительно отличается в разных арктических государствах в период с 2000 по 2009 г. В западных странах (Европа и Америка) средний возраст самоубийства – менее 20 лет, и соответственно, данная проблема затрагивает молодое население. И, наоборот, в РФ, так же, как в Гренландии и Nunavut (Канада), где коренные народы составляют большую часть населения, самоубийство более распространено среди старшего поколения (> 40 лет). T.K. Young et al. [70] предлагают несколько объяснений причин суицидального поведения среди населения арктического региона и делают акцент на предотвращении самоубийств.
Выводы. Население арктического и субарктического регионов является жертвами антропоцентрической эпохи деятельности человека и распространения западного образа жизни, что создало угрозы местным ресурсам и традиционным культурам.
Что можно предпринять? Осуществить более эффективные исследования для ослабления воздействия на окружающую среду и повышения ее устойчивости к внешним воздействиям!
Как этого достичь? Необходимо усиление сотрудничества между государствами, как это было указано Маргаретой Йохансон, научным координатором кафедры физической географии и науки об экосистемах, университет Лунда29. Она закончила свой доклад следующими словами: «Климат не знает национальных границ». Поскольку климат в Арктике меняется быстрее, чем где бы то ни было на планете, глобальное загрязнение и инфекционные заболевания создают угрозы здоровью коренных народов Арктики, которые, возможно, серьезнее угроз для любой другой популяции, проживающей в иных частях света.
Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.
Список литературы Современные внешнесредовые угрозы и вызовы здоровью населения арктических и субарктических регионов
- Northern host-parasite assemblages: history and biogeography on the borderlands of episodic climate and environmental transition / E.P. Hoberg, K.E. Galbreath, J.A. Cook, S.J. Kutz, L. Polley // Adv. Parasitol. - 2012. - Vol. 79. - P. 1-97. DOI: 10.1016/B978-0-12-398457-9.00001-9
- Fitzgerald K.T. Polar bears: the fate of an icon // Top Companion Anim. Med. -2013. - Vol. 28, № 4. - P. 135-142. DOI: 10.1053/j.tcam.2013.09.007
- Range contraction and increasing isolation of a polar bear subpopulation in an era of sea-ice loss / K.L. Laidre, E.W. Born, S.N. Atkinson, 0. Wiig, L.W. Andersen, N.J. Lunn, M. Dyck, E.V. Regehr [et al.] // Ecol. Evol. - 2018. - Vol. 8, № 4. - P. 2062-2075. DOI: 10.1002/ece3.3809
- Transient benefits of climate change for a high-Arctic polar bear (Ursus maritimus) subpopulation / K.L. Laidre, S.N. Atkinson, E.V. Regehr, H.L. Stern, E.W. Born, 0. Wiig, N.J. Lunn, M. Dyck [et al.] // Glob. Chang. Biol. - 2020. - Vol. 26, № 11. - P. 6251-6265. DOI: 10.1111/gcb.15286
- Genomic evidence for island population conversion resolves conflicting theories of polar bear evolution / J.A. Cahill, R.E. Green, T.L. Fulton, M. Stiller, F. Jay, N. Ovsyanikov, R. Salamzade, J. St John [et al.] // PLoS Genet. - 2013. - Vol. 9, № 3. - P. e1003345. DOI: 10.1371/journal.pgen.1003345
- Dodds K., Nuttall M. The Arctic: What Everyone Needs to Know. - Oxford: Oxford University Press, 2019. - 272 p. DOI: 10.1093/wentk/9780190649814.001.0001
- Reconstructing the last interglacial at Summit, Greenland: Insights from GISP2 / A.M. Yau, M.L. Bender, A. Robinson, E.J. Brook // Proc. Natl Acad. Sci. USA. - 2016. - Vol. 113, № 35. - P. 9710-9715. DOI: 10.1073/pnas.1524766113
- A multimillion-year-old record of Greenland vegetation and glacial history preserved in sediment beneath 1.4 km of ice at Camp Century / A.J. Christ, P.R. Bierman, J.M. Schaefer, D. Dahl-Jensen, J.P. Steffensen, L.B. Corbett, D.M. Peteet, E.K. Thomas [et al.] // Proc. Natl Acad. Sci. USA. - 2021. - Vol. 118, № 13. - P. e2021442118. DOI: 10.1073/pnas.2021442118
- Newly identified climatically and environmentally significant high latitude dust sources / O. Meinander, P. Dagsson-Waldhauserova, P. Amosov, E. Aseyeva, C. Atkins, A. Baklanov, C. Baldo, S. Barret [et al.] // Atmos. Chem. Phys. - 2021. -Vol. 22, № 17. - P. 11889-11930. DOI: 10.5194/acp-2021-963
- Key indicators of Arctic climate change: 1971-2017 / J.E. Box, W. Colgan, T. Christensen, N. Schmidt, M. Lund, F. Parmentier, R.D., Brown, U.S. Bhatt [et al.] // Environ. Res. Lett. - 2019. - Vol. 14, № 4. - P. 045010. DOI: 10.1088/1748-9326/aafc1b
- A veterinary perspective on One Health in the Arctic / C. Sonne, R.J. Letcher, B.M. Jenssen, J.-P. Desforges, I. Eulaers, E. Andersen-Ranberg, K. Gustavson, B. Styrishave, R. Dietz // Acta Vet. Scand. - 2017. - Vol. 59, № 1. - P. 84. DOI: 10.1186/s13028-017-0353-5
- Arctic atmospheric mercury: Sources and changes / A. Dastoor, S.J. Wilson, O. Travnikov, A. Ryjkov, H. Angot, J.H. Christensen, F. Steenhuisen, M. Muntean // Sci. Total Environ. - 2022. - Vol. 839. - P. 156213. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.156213
- Sonne C. Health effects from long-range transported contaminants in Arctic top predators: An integrated review based on studies of polar bears and relevant model species // Environ. Int. - 2010. - Vol. 36, № 5. - P. 461-491. DOI: 10.1016/j.envint.2010.03.002
- Legacy and emerging organic contaminants in the polar regions / Z. Xie, P. Zhang, Z. Wu, S. Zhang, L. Wei, L. Mi, A. Kuester, J. Gandrass [et al.] // Sci. Total Environ. - 2022. - Vol. 835. - P. 155376. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155376
- Hildes J.A. Health problems in the Arctic // Can. Med. Assoc. J. - 1960. - Vol. 83, № 24. - P. 1255-1257.
- Setting Priorities for Environmental Health Risks in Sweden / K. Victorin, C. Hogstedt, T. Kyrklund, M. Eriksson; ed. by D.J. Briggs, R. Stern, T.L. Tinker // Environmental Health for All. NATO Science Series. - 1999. - Vol. 49. - P. 35-51. DOI: 10.1007/978-94-011-4740-8_3
- Влияние метеорологических факторов в различные сезоны года на частоту возникновения осложнений гипертонической болезни у жителей Новосибирска / В.И. Хаснулин, В.В. Гафаров, М.И. Воевода, Е.В. Разумов, М.В. Артамонова // Экология человека. - 2015. - № 7. - С. 3-8.
- Влияние краткосрочных изменений погоды на людей с ишемической болезнью сердца в г. Набережные Челны / С.В. Емелина, К.Г. Рубинштейн, В.В. Гурьянов, Ю.П. Переведенцев, А.В. Иванов // Метеорология и гидрология. -2015. - № 12. - С. 86-94.
- Григорьева Е.А. Смертность населения при экстремальных температурах: методика прогноза и результаты оценки // Гигиена и санитария. - 2019. - Т. 98, № 11. - С. 1279-1284. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-11-1279-1284
- Григорьева Е.А. Климатическая дискомфортность Дальнего Востока России и заболеваемость населения // Региональные проблемы. - 2018. - Т. 21, № 2. - С. 105-112. DOI: 10.31433/1605-220X-2018-21-2-105-112
- Беляева В.А. Влияние факторов космической и земной погоды на частоту вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения // Анализ риска здоровью. - 2017. - № 4. - С. 76-82. DOI: 10.21668/health.risk/2017.4.08
- Галичий В.А. Сезонный фактор в проявлениях сердечно-сосудистой патологии // Авиакосмическая и экологическая медицина. - 2017. - Т. 51, № 1. - С. 7-17. DOI: 10.21687/0233-528X-2017-51-1-7-17
- Григорьева Е.А., Кирьянцева Л.П. Кардиореспираторная патология, вызываемая сезонными изменениями погоды, и меры по её профилактике // Здоровье населения и среда обитания (ЗНиСО). - 2016. - № 2 (275). - С. 7-10.
- Хаснулин В.И., Хаснулин П.В. Современные представления о механизмах формирования северного стресса у человека в высоких широтах // Экология человека. - 2012. - № 1. - С. 3-11.
- Петров В.Н. Особенности влияния парциального градиента плотности кислорода в атмосферном воздухе на состояние здоровья населения, проживающего в Арктической зоне РФ // Вестник Кольского научного центра РАН. -2015. - № 3 (22). - С. 82-92.
- Терещенко П.С., Петров В.Н. Вероятная причина заболеваемости населения проживающего в районах Арктики // Труды Кольского научного центра РАН. - 2018. - Т. 9, № 2-13. - С. 145-150. DOI: 10.25702/KSC.2307-5252.2018.9.2.145-150
- Артериальная гипертония в условиях Тюменского Севера. Десинхроноз и гиперреактивность организма как фактор формирования болезни / Л.И. Гапон, Н.П. Шуркевич, А.С. Ветошкин, Д.Г. Губин. - М.: Медицинская книга, 2009. - 208 с.
- Запесочная И.Л., Автандилов А.Г. Особенности течения артериальной гипертонии в северных регионах страны // Клиническая медицина. - 2008. - Т. 86, № 5. - С. 42-44.
- Современный взгляд на проблему артериальной гипертензии в приполярных и арктических регионах. Обзор литературы / В.И. Хаснуллин, М.И. Воевода, П.В. Хаснулин, О.Г. Артамонова // Экология человека. - 2016. - № 3. -С. 43-51. DOI: 10.33396/1728-0869-2016-3-43-51
- Буганов А.А. Вопросы профилактической медицины в Ямальском регионе. - Надым, 2002. - 418 с.
- Ишемическая болезнь сердца, особенности клинического течения в условиях Крайнего Севера / Л. С. Поликарпов, Р.А. Яскевич, Е.В. Деревянных, И.И. Хамнагадаев, Н.Г. Гоголашвили. - Красноярск: КрасГМУ, 2011. - 310 с.
- Кардиометеопатии на Севере / В.И. Хаснулин, А.М. Шургая, А.В. Хаснулина, Е.В. Севостьянова. - Новосибирск: СО РАМН, 2000. - 222 с.
- Попова О.Н., Глебова Н.А., Гудков А.Б. Компенсаторно-приспособительная перестройка системы внешнего дыхания у жителей Крайнего Севера // Экология человека. - 2008. - № 10. - С. 31-33.
- Дубинин К.Н., Типисова Е.В. Роль гормонов системы гипофиз щитовидная железа в обеспечении адаптационного потенциала у женщин Крайнего Севера // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2012. - Т. 14, № 5-2. - С. 330-332.
- Эндокринный профиль мужского населения России в зависимости от географической широты проживания / Е.В. Типисова, А.Э. Елфимова, И.Н. Горенко, В.А. Попкова // Экология человека. - 2016. - № 2. - С. 36-41. DOI: 10.33396/1728-0869-2016-2-36-41
- Сезонные изменения функционального состояния организма детей Кольского Заполярья / А.В. Еникеев, О.И. Шумилов, Е.А. Касаткина, А.О. Карелин, А.Н. Никанов // Экология человека. - 2007. - № 5. - С. 23-28.
- Щербина Ю.Ф., Попова О.Н. Характеристика резервных возможностей и эффективности вентиляции легких у жителей Крайнего Севера в контрастные сезоны года // Экология человека. - 2012. - № 12. - С. 10-15.
- Гудков А.Б., Щербина Ю.Ф., Попова О.Н. Изменения легочных объемов у жителей Крайнего Севера в периоды полярного дня и полярной ночи // Экология человека. - 2013. - № 4. - С. 3-7.
- Чеснокова В.Н. Сезонные особенности организации системной гемодинамики у юношей Северного региона // Вестник Поморского университета. Серия: Естественные науки. - 2009. - № 1. - С. 20-27.
- Юрьев Ю.Ю., Типисова Е.В. Возрастные аспекты эндокринного статуса у мужчин - постоянных и приезжих жителей города Архангельска // Экология человека. - 2009. - № 7. - С. 15-19.
- Inverse Seasonal Relationship Between Melatonin and Ovarian Activity in Humans in a Region With a Strong Seasonal Contrast in Luminosity / A. Kauppila, A. Kivela, A. Pacarinen, O. Vaccuri // J. Clin. Endocrinol. Metab. - 2016. - Vol. 65, № 5. - P. 823-828. DOI: 10.1210/jcem-65-5-823
- Киприянова К.Е., Типисова Е.В., Горенко И.Н. Эндокринные аспекты репродуктивной функции мужчин 22-35 лет - постоянных жителей Крайнего Севера и г. Архангельска // Вестник Томского государственного университета. Биология. - 2017. - № 40. - С. 150-162. DOI: 10.17223/19988591/40/9
- Варенцова И.А., Чеснокова В.Н., Соколова Л.В. Сезонное изменение состояния студентов с разным типом вегетативной регуляции сердечного ритма // Экология человека. - 2011. - № 2. - С. 47-52.
- Responding to climate and environmental change impacts on human health via integrated surveillance in the Circumpolar North: a systematic realist review / A. Sawatzky, A. Cunsolo, A. Jones-Bitton, J. Middleton, S.L. Harper // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2018. - Vol. 15, № 12. - P. 2706. DOI: 10.3390/ijerph15122706
- Investigating environmental determinants of injury and trauma in the Canadian north / A. Durkalec, C. Furgal, M.W. Skinner, T. Sheldon // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2014. - Vol. 11, № 2. - P. 1536-1548. DOI: 10.3390/ijerph110201536
- Increased winter drownings in ice-covered regions with warmer winters / S. Sharma, K. Blagrave, S.R. Watson, C.M. O'Reilly, R. Batt, J.J. Magnuson, T. Clemens, B.A. Denfeld [et al.] // PLoS One. - 2020. - Vol. 15, № 11. - P. e0241222. DOI: 10.1371/journal.pone.0241222
- Hedlund C., Blomstedt Y., Schumann B. Association of climatic factors with infectious diseases in the Arctic and subarctic region - a systematic review // Glob. Health Action. - 2014. - Vol. 7. - P. 24161. DOI: 10.3402/gha.v7.24161
- Caminade C., McIntyre K.M., Jones A.E. Impact of recent and future climate change on vector-borne diseases // Ann. NY Acad. Sci. - 2019. - Vol. 1436, № 1. - P. 157-173. DOI: 10.1111/nyas.13950
- Linking climate and infectious disease trends in the Northern/Arctic Region / Y. Ma, G. Destouni, Z. Kalantari, A. Omazic, B. Evengárd, C. Berggren, T. Thierfelder // Sci. Rep. - 2021. - Vol. 11, № 1. - P. 20678. DOI: 10.1038/s41598-021-00167-z
- The role of genetics in chronic wasting disease of North American cervids / S.J. Robinson, M.D. Samuel, K.I. O'Rourke, C.J. Johnson // Prion. - 2012. - Vol. 6, № 2. - P. 153-162. DOI: 10.4161/pri.19640
- Chronic wasting disease in Europe: new strains on the horizon / M.A. Tranulis, D. Gavier-Widén, J. Váge, M. Nore-mark, S.L. Korpenfelt, M. Hautaniemi, L. Pirisinu, R. Nonno, S.L. Benestad // Acta Vet. Scand. - 2021. - Vol. 63, № 1. - P. 48. DOI: 10.1186/s13028-021-00606-x
- One Health - a strategy for resilience in a changing arctic / B.A. Ruscio, M. Brubaker, J. Glasser, W. Hueston, T.W. Hennessy // Int. J. Circumpolar Health. - 2015. - Vol. 74. - P. 27913. DOI: 10.3402/ijch.v74.27913
- Emergent biogeochemical risks from Arctic permafrost degradation / K.R. Miner, J. D'Andrilli, R. Mackelprang, A. Edwards, M.J. Malaska, M.P. Waldrop, C.E. Miller // Nat. Clim. Chang. - 2021. - Vol. 11. - P. 809-819.
- Abramov A., Vishnivetskaya T., Rivkina E. Are permafrost microorganisms as old as permafrost? // FEMS Microbiol. Ecol. - 2021. - Vol. 97, № 2. - P. fiaa260. DOI: 10.1093/femsec/fiaa260
- Jordan D., Tumpey T., Jester B. The Deadliest Flu: The Complete Story of the Discovery and Reconstruction of the 1918 Pandemic Virus [Электронный ресурс] // CDC. - URL: https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/reconstruction-1918-virus.html (дата обращения: 19.06.2022).
- Initial genetic characterization of the 1918 "Spanish" influenza virus / J.K. Taubenberger, A.H. Reid, A.E. Krafft, K.E. Bijwaard, T.G. Fanning // Science. - 1997. - Vol. 275, № 5307. - P. 1793-1796. DOI: 10.1126/science.275.5307.1793
- Characterization of the reconstructed 1918 Spanish influenza pandemic virus / T.M. Tumpey, C.F. Basler, P.V. Agui-lar, H. Zeng, A. Solórzano, D.E. Swayne, N.J. Cox, J.M. Katz [et al.] // Science. - 2005. - Vol. 310, № 5745. - P. 77-80. DOI: 10.1126/science.1119392
- Holmes E.C. Freezing viruses in time // Proc. Natl Acad. Sci. USA. - 2014. - Vol. 111, № 47. - P. 16643-16644. DOI: 10.1073/pnas.1419827111
- Preservation of viral genomes in 700-y-old caribou feces from a subarctic ice patch / T.F. Ng, L.F. Chen, Y. Zhou, B. Shapiro, M. Stiller, P.D. Heintzman, A. Varsani, N.O. Kondov [et al.] // Proc. Natl Acad. Sci. USA. - 2014. - Vol. 111, № 47. - P. 16842-16847. DOI: 10.1073/pnas.1410429111
- Thirty-thousand-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a pandoravirus morphology / M. Leg-endre, J. Bartoli, L. Shmakova, S. Jeudy, K. Labadie, A. Adrait, M. Lescot, O. Poirot [et al.] // Proc. Natl Acad. Sci. USA. -2014. - Vol. 111, № 11. - P. 4274-4279. DOI: 10.1073/pnas.1320670111
- Climatic Factors Influencing the Anthrax Outbreak of 2016 in Siberia, Russia / E. Ezhova, D. Orlov, E. Suhonen, D. Kaverin, A. Mahura, V. Gennadinik, D. Drozdov, H.K. Lappalainen [et al.] // Ecohealth. - 2021. - Vol. 18, № 2. - P. 217-228. DOI: 10.1007/s10393-021-01549-5
- Bonefeld-Jorgensen E.C. Biomonitoring in Greenland: human biomarkers of exposure and effects - a short review // Rural Remote Health. - 2010. - Vol. 10, № 2. - P. 1362.
- Koldkjaer O.G., Wermuth L., Bjerregaard P. Parkinson's disease among Inuit in Greenland: organochlorines as risk factors // Int. J. Circumpolar Health. - 2004. - Vol. 63, Suppl. 2. - P. 366-368. DOI: 10.3402/ijch.v63i0.17937
- Clinical characteristics of Parkinson's disease among Inuit in Greenland and inhabitants of the Faroe Islands and Als (Denmark) / L. Wermuth, N. Bünger, P. von Weitzel-Mudersback, H. Pakkenberg, B. Jeune // Mov. Disord. - 2004. - Vol. 19, № 7. - P. 821-824. DOI: 10.1002/mds.20058
- Bank-Nielsen P.I., Long M., Bonefeld-J0rgensen E.C. Pregnant Inuit Women's Exposure to Metals and Association with Fetal Growth Outcomes: ACCEPT 2010-2015 // Int. J. Environ. Res. Public Health. - 2019. - Vol. 16, № 7. - P. 1171. DOI: 10.3390/ijerph16071171
- Neurobehavioral performance of Inuit children with increased prenatal exposure to methylmercury / P. Weihe, J.C. Hansen, K. Murata, F. Debes, P.J. J0rgensen, U. Steuerwald, R.F. White, P. Grandjean // Int. J. Circumpolar Health. -2002. - Vol. 61, № 1. - P. 41-49. DOI: 10.3402/ijch.v61i1.17404
- Climate change, water, and human health research in the Arctic / S.L. Harper, C. Wright, S. Masina, S. Coggins // Water Security. - 2020. - Vol. 10. - P. 100062. DOI: 10.1016/j.wasec.2020.100062
- Changing diets and traditional lifestyle of Siberian Arctic Indigenous Peoples and effects on health and well-being / S. Andronov, A. Lobanov, A. Popov, Y. Luo, O. Shaduyko, A. Fesyun, L. Lobanova, E. Bogdanova, I. Kobel'kova // Ambio. -2021. - Vol. 50, № 11. - P. 2060-2071. DOI: 10.1007/s13280-020-01387-9
- The Impact of Climate Change on the Food (In) security of the Siberian Indigenous Peoples in the Arctic: Environmental and Health Risks / E. Bogdanova, S. Andronov, A. Soromotin, G. Detter, O. Sizov, K. Hossain, D. Raheem, A. Lobanov // Sustain-ability. - 2021. - Vol. 13, № 5. - P. 2561. DOI: 10.3390/su13052561
- Young T.K., Revich B., Soininen L. Suicide in circumpolar regions: an introduction and overview // Int. J. Circumpolar Health. - 2015. - Vol. 74. - P. 27349. DOI: 10.3402/ijch.v74.27349