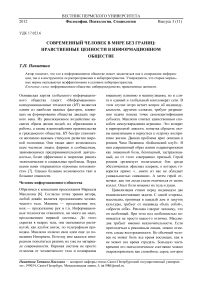Современный человек в мире без границ: нравственные ценности в информационном обществе
Автор: Никитина Татьяна Павловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.
Бесплатный доступ
Автор полагает, что зло в информационном обществе может заключаться как в содержании информации, так и в инструментах ее распространения в киберпространстве. Утверждается, что старые моральные нормы оказываются неэффективными в условиях киберпространства
Информационное общество, киберпространство, нравственные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/147202835
IDR: 147202835 | УДК: 17.023.6
Текст научной статьи Современный человек в мире без границ: нравственные ценности в информационном обществе
Окинавская хартия глобального информационного общества гласит: «Информационнокоммуникационные технологии ( ИТ ) являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия правительства и гражданского общества. ИТ быстро становятся жизненно важным стимулом развития мировой экономики. Они также дают возможность всем частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические и социальные проблемы. Перед всеми нами открываются огромные возможности» [7]. Однако большие возможности таят и большие опасности.
Человек информационного общества
Обратимся к концепции продолжения Маршала Маклюэна [6]. Согласно точке зрения автора, любой девайс является продолжением человеческого тела. Машина — продолжение ног, нож — продолжение рук и т.п. Информационные технологии становятся, ни много ни мало, продолжением нервной системы. До этого скрытая в недрах тела, она оказывается растянутой, как клубок ниток, по телеграфным проводам. Маклюэн излагал свои идеи еще до появления Интернета. Поэтому мне кажется интересным попытаться развить их уже на материале современности. Нервная система не просто отделена от человеческого тела и подвержена внешнему влиянию и манипуляциям, но и слита в единый и глобальный конгломерат сети. В этом случае остро встает вопрос об индивидуальности, другими словами, требует разрешения задача поиска точек самоидентификации субъекта. Маклюэн считает единственным способом самоутверждения агрессию. Это возврат к первородной дикости, попытка сбросить оковы цивилизации и вернуться к острому восприятию жизни. Данная проблема ярко описана в романе Чака Паланика «Бойцовский клуб». В нем современный образ жизни охарактеризован как лишенный боли, безопасный, застрахованный, но от этого совершенно пресный. Герой романа организует нелегальные бои среди обезличенных офисных клерков, о которых говорится прямо: «…никто из вас не обладает уникальностью снежинки». А затем герой отмечает, как эти люди стали отличаться от своих коллег. Опыт боли изменил их тела и души.
Цивилизация ставит перед индивидом две взаимоисключающие задачи. С одной стороны, массмедиа, проникая в каждый дом и закуток культуры, требует от индивида «быть собой», «обрести себя». Реклама говорит человеку, что он особенный. При этом под особенностью понимается не просто какое-то отличие. Массме-диа требует именно исключительности. Если приглядеться к рекламным лицам, можно отметить следы восторженности. Но обычный человек не может быть все время восхищен, как и не может все время страдать. Большую часть времени его психологическое состояние можно охарактеризовать как спокойное, серое, которое
не принимает ни высокая культура с ее идолом сильных чувств, ни массовая, формулирующая требование «жить позитивно». С другой стороны, индивид сталкивается с иным противоречащим требованием культуры — «будь правильным». Начиная с подросткового возраста мы учимся у СМИ тому, как правильно говорить, спать, приглашать на свидание, чтобы быть успешными. Взрослый человек усваивает из журналов и программ ТВ то, как надо жить, делая это в духе буржуазных ценностей. В итоге, индивид неудовлетворен собой. Он либо слишком сер, либо не вписывается в схемы позитивного, продуктивного мышления и поведения. Самым простым способом разрубить гордиев узел противоречивой культуры является насилие и связанная с ним животная агрессия и боль. Вместе они дают ощутить жизнь непосредственно собственным телом.
Другой пласт насилия опаснее. Причины, его побуждающие, носят социальный характер. Это фатическое насилие. Название его происходит от определения фатического действия в коммуникации. Это действие (понимаемое в широком смысле, который подразумевает и понимание слова как перформативного акта), которое направлено исключительно на проверку эффективности канала связи. Оно позволяет ответить на вопросы «Слушают ли меня? Услышат, если я захочу что-то сказать?». В социальной сфере, прибегая к, казалось бы, бессмысленным бунтам, аутсайдеры общества, низведенные до уровня «homo sacer», проверяют то, помнят ли о них. Лишенные политического влияния «homini sacer», окруженные мас-смедиа, лавируют в потоках информации, но не видят в этом зеркале социального бытия самих себя. Именно таким образом Славой Жижек охарактеризовал причины арабских бунтов во Франции [4].
В информационном обществе возникают опасности двух видов: формальные и, воспользуемся логикой Аристотеля, материальные. Материальные были кратко описаны выше. В эту категорию включены в основном негативные элементы содержания СМИ. Можно назвать их идеологией массмедиа. В общем виде это проблема контента, поощряющего потребительское отношение к миру, другим людям и себе самому.
Другой род опасностей, заключенных в СМИ, — это сами СМИ. Новые технологии влияют на человека. Технические нововведения не просто продолжают человека, но меняют его. Маклюэн называет этот феномен «петлей». Старые навыки отмирают, и человек теряет способность самостоятельно делать что-то. Кто из нас теперь способен разжечь костер без спичек? Информационные технологии берут на себя функцию коммуникации индивидов, как следствие, сами индивиды теряют коммуникативные навыки. Человек воспринимается как воплощение своего электронного альтер эго. Неслучаен в связи с этим рост интереса к сетевым блогам и размещенным в них личным фотографиям. Дневники велись всегда. Но почему возникает необходимость их публикации, параллельной событиям жизни? Электронная среда становится более реальной, чем жизненная. В связи с этим возникает проблема преступлений в среде Интернет. Еще совсем недавно было трудно представить, что за оскорбительные слова, публикуемые в блогах, может последовать административное или даже уголовное наказание. Тем не менее, юридическая практика в ряде прецедентов продемонстрировала, что воспринимает виртуальную среду равнозначной реальной. В наши дни произошла самоидентификация живого человека и его электронного двойника. Что не удивительно в свете упомянутой проблемы самоидентификации. Введение фигуры воображаемого себя приводит к симулякру индивидуальности. Многие показатели, такие как анонимность, визуальные и вербальные маски, говорят о том, что альтер эго вовсе не обязательно должно быть неким продолжением оригинала. Они живут в двух параллельных мирах, и, тем не менее, реальный человек заботится о своей виртуальной тени порой больше, чем о себе самом. Еще большую проблему составляет виртуальное пространство игр. Их популярность настолько велика, что можно рассматривать пространство игр RPG как особую страну, а их жителей — как внутренних эмигрантов.
Поскольку в пространстве игр налажена вся необходимая инфраструктура, включая и СМИ, его само можно рассматривать как СМИ. О том, что игровой мир значим, говорит то, что, будучи президентом России, Д.А. Медведев на совместном заседании президиумов Совета по культуре и Совета по науке при призиденте, озвучил предложение создать российский аналог онлайн игры «The World of Warkraft».
Компьютерная игра совсем недавно вошла в жизнь общества, поэтому серьезных исследований на данную тему мало. Следовательно, целесообразным является дать слово молодым ученым-философам, заставшим волну роста популярности компьютерных игр в наиболее впечатлительный период своей жизни — юности. А.Ю. Виников и Ю.В. Новиков в своей статье «Роль элайнмента вселенной в становлении личности» пишут, что в современном мире средством первичной самоидентификации должна выступать компьютерная игра. На примере игры они показывают, что возможность выбора персонажем тех или иных ценностей помогает игроку «выработать способность разграничения субъективных и объективных аспектов мира… и понять существование множества альтернатив» [3, с. 12]. В данном случае важно не то, является ли компьютерная игра действительно воспитателем общества, а то, что и политическая практика, и философский дискурс начинают «воспринимать игру всерьез». СМИ перерастает из простого посредника между событием и индивидом в среду, создающую само событие. СМИ задает тон в манере подачи, структурировании информации, отсеивании ненужной, верификации и прочее. Это позволяет нам назвать СМИ метареальностью, т.е. реальностью реального.
Информация как метареальность
Приведем пример из мультсериала «Симпсоны». Главный герой видит из окна ядерный гриб. Он отходит от окна и обращает внимание на свой телевизор, транслирующий репортаж о взрыве. Герой вскрикивает и только после этого понимает, к чему был столь непривычный вид из окна. Комедийный жанр сериала позволяет массовой культуре посмеяться над подменой реальностей и ценностей. Выглядит это смешно, но суть в том, что мы воспринимаем что-то как произошедшее только после того, как информация о нем была оглашена в СМИ. Информация стала метареальностью, т.е. сверхреальностью, — идеей в платоновском ключе, определяющей субъективную реальность. Уже в XX веке текст перестал выполнять сугубо служебные функции и предстал в каче- стве демиурга субъективности [1, с. 265-267].Мы действуем исходя из собственных представлений. В этом смысле только они и являются для нас реальностью. Но человеческое восприятие ограниченно, поэтому мы стремимся получить объективную информацию, продолжая наше восприятие в СМИ. Индивид забывает, что за той стороной экрана не боги, а такие же люди, предоставляющие не объективную реальность, а мнение о ней. В информационном поле происходит то, что Маклюэн назвал «нарциссическим анабиозом». Внутреннее, т.е. индивидуальное, мнение воспринимается как что-то внешнее, что должно быть сформировано «объективной» информацией, где место объективности уступает всеобщность информации. Отсюда большая возможность манипуляции сознанием, так как теряется различение между собственным мнением и способом подачи информации, а также оценкой событий, представленных СМИ.
На мой взгляд, зло в информационном обществе выражается в нарушении иерархии, которая имеет негативные последствия как в духовной, так и в физической сфере. Ценности в информационном поле утверждаются не рефлексией индивида, а своей распространенностью. Но, во-первых, зачастую распространенными оказываются гедонистические ценности, в своем примитивном виде, культивированном рекламой, а во-вторых, навязанные ценности лишаются жизненного разнообразия, что делает их одномерными, будто заученными, а не прожитыми, что приводит к утрате нравственного поведения и переходу к легальному.
Принцип «не человек для субботы, а суббота для человека» был нарушен. И в современном обществе формулируется принцип «не среда для человека, а человек для среды». Человек превращается в средство утверждения массовой культуры. Жизнь трансформируется в нечто, позволяющее наполнить интернет-контент, что лишает ее самоценности, а СМИ вместо того, чтобы освещать реальность, превращаются в сверхреальность, дезориентируя тем самым индивида.
Проблема среды
Область электронного проявления жизни называют киберпространством. Такое название вовсе не самоочевидно. Существует значительная разница между понятиями «среда» и «пространство». Первое активно влияет на формирование личности, второе лишь является пространством проявления его сил. Вспомним теории среды, начиная от идей просвещения и заканчивая социалистическими взглядами. В Окинавской хартии изложены взгляды, идентичные просветительским. Если в философии наивная вера в разум как облагораживающий человеческую жизнь и определяющий все его деятельность феномен изжила себя, то в информационных технологиях (ИТ) она только набирает силу. Окинавская хартия гласит: «Суть стимулируемой ИТ экономической и социальной трансформации заключается в ее способности содействовать людям и обществу в использовании знаний и идей. Информационное общество, как мы его представляем, позволяет людям шире использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления» [7]. Однако, помимо разумных, существуют и другие, не менее важные стимулы человеческой деятельности. Поэтому немаловажным является понимание того, какие страсти культивирует Интернет и как их видоизменяет. Основным негативным явлением в данном случае является перепроизводство духовных ценностей и, как следствие, их обесценивание и этический плюрализм. Не просто доступ к множеству ценностных картин мира, но параллельное использование противоречащих друг другу дезориентирует индивида.
Бодрияр предлагает следующую картину трансформации ценностей, присущую этике. Первая из них — стадия существования повседневных бытовых норм. Затем идет рыночная стадия, когда ценность выступает инструментом обмена; структурная, для которой характерно существование ценности-символа; и наконец, характерная для современного общества стадия дробления, или фрактальная стадия. Говоря о ней, Бодрияр отмечает, что при «стадии фрактальной, которую мы могли бы так же назвать вирусной или стадией диффузии ценностей, уже не существует соответствия чему бы то ни было. Ценность распространяется во всех направлениях, без какой-либо логики, присутствуя в каждой скважине и щели. На этой стадии не существует более равноценности, присущей другим стадиям, нет больше самого закона ценности; есть лишь нечто, похожее на эпидемию ценности, на разрастание метастазов ценности, на ее распространение и рассеяние, зависящее лишь от воли случая» [2, с. 1]. Другими словами, идеи освобождаются от своих значений, что не мешает им функционировать. В результате идеи смешиваются, что приводит к возникновению трансэстетики, в которой объединяются и исчезают противоположные понятия красоты и безобразия, высокого и низкого, транссексуальности, в которой смешиваются символы мужского и женского, и трансэкономики, в которой взлет и крах неразличимы. Это формирует и человека, про которого философ говорит: «Все мы агностики или трансвеститы от искусства или секса. У нас нет больше ни эстетических, ни сексуальных убеждений. Мы исповедуем все убеждения без исключения» [2, с. 10–11].
Для нас важно то, что ценности и нормы также меняются своими значениями и воплощениями, выражаясь образно, выходят из своих берегов, что важно для адекватного понимания этики.
Человек вплетается в общую сеть, некий глобальный разум. Информация, формирующая взгляды, широко распространена, и любое из лиц, включенных в общество, имеет возможность влиять на его информационное поле. Это новый виток глобализации, опасный стиранием индивидуальности и своеобразия, так как обилие противоречивой информации усложняет выбор необходимой и формирование собственного взгляда на моральные проблемы как индивида, так и культур. Последние утрачивают собственные моральные ориентиры, что приводит либо к пренебрежению прежними нормами, их высмеиванию, что можно проследить на примере 90-х гг. в истории нашей страны, либо, наоборот, к росту фундаменталистских настроений, что можно проследить в арабских странах или на примере движения «мусар» в Израиле. Подлинные нормы подменяются пригодными к тиражированию симулякрами, что стирает их ценностное содержание. Мораль перестает пониматься как нечто незыблемое или как последняя инстанция в оценке поступка.
Новые технологии объединяют людей, дают им новые возможности, но вместе с тем сметают старые оппозиции. И Герберт Маркузе, и Маршал Маклюэн указывают на изменение пространственного мышления современно- го человека, его ощущения ближнего и дальнего. А значит, и механизма аппозиции, противопоставления: между мужским и женским, ближним и дальним, доступным и элитарным. Если присмотреться к рекламе, то мы увидим слоганы в роде: «элитное жилье», «элитный отдых», «элитные влажные салфетки». Тотальность элитарности, доступность высокой культуры уничтожает ее облагораживающее действие и ее саму. Больше нет необходимости совершать над собой усилие, чтобы подняться до ее уровня. Сама так называемая высокая культура переложена на массовые легко усваиваемые полуфабрикаты.
То же уничтожение через массовость переживают этические и философские понятия. Нельзя сказать, что зло стало столь массовым, что потеряло оппозиционность добру. Скорее потерян сам механизм противопоставления. В том числе противопоставления зла добру. «Все во всем», как сказал бы Маклюэн. Все близко и, вместе с тем, теряет перспективу. Старые дихо-томичные понятия, используемые в классической философии, больше не отражают сути вещей.
Маклюэн считает, что новые скорости, ставшие возможными благодаря технологиям, положили конец тому, что он называет человеком Гуттенберга. Для человека печатного слова характерна визуальность, наличие внешних целей. Для человека, живущего в сверхзвуковом мире, ничто не может быть далеко. Из этого положения Маркузе выводит тезис одномерности общественной культуры, а Маклюэн полагает, что человек электроники отказывается от отдаленных целей и энциклопедических программ и предпочитает диалог и немедленную вовлеченность. Это отражается на задаче, которая ставится перед СМИ.
Появляется новая журналистика, ее целью является не передать достоверно события, а передать эффект присутствия. Теряется основная задача журналистики в демократическом обществе. А значит, она становится чисто развлекательным явлением, что лишает индивида возможности адекватно оценивать события и делать свой личный выбор. Новый подход к журналистике еще более проявляется в телевидении. Оно приносит внешний мир в домашнюю жизнь, более того, предлагает частную жизнь на обсуждение публике. Тем самым телевиде- ние лишает индивида личного пространства, стирает само разделение на приватное и публичное. Оно переходит от транслирования речи, требующей затрат по интерпретации, к зрению, передавая картинку с ничтожной затратой энергии. Восприятие телевидения требует от человека столь малого расхода психологических ресурсов, что он может воспринимать грандиозное количество кванторов информации единовременно. Опасность заключается в том, что восприятие минует сознание и воздействует на чувственность, в результате сигнал обходит внутреннюю цензуру.
Поскольку информация стала еще более доступна, чем раньше, благодаря децентрализации источников распространения, стерлась грань между открытой информацией и «позиционными бумагами» — конфиденциальными и секретными документами. Привычной становится глобальная слежка, практика использования технических средств шпионажа в журналистике и бизнесе.
Среди черт информационной революции Маклюэн называет снижение тенденции самоопределения себя через противопоставление другим и эгоистических ориентаций. Это следствие вовлеченности людей в жизнь друг друга и значительного расширения сферы общественных интересов.
Действия каждого человека в акустическом мире влияют на жизнь других. Поэтому становится сложным технически что-то скрыть. К тому же, желание индивида отгородиться от мира вызывает подозрения общества.
Результатом стало снижение нравственности частной жизни и одновременное усиление норм общественной жизни. Индивидуальное, в том числе и нравственная жизнь, уступает место общественному. Общественное мнение, как регулятор нравственности заменило собой совесть.
Сама форма журналистики как элемента СМИ предполагает манипуляцию сознанием масс, что усугубляется заменой информационной функции развлекательной. Парадоксальным образом распространенность информации и обилие каналов связи лишает индивида личного пространства и личной нравственности, а стирание аппозиций лишает его последних точек опоры в моральном и эстетическом сужде- нии. Другими словами, индивид теряет контроль над своей моралью и чувственностью.
Обобщая, можно сказать, что зло в информационном обществе заключается как в самой информации, способе ее подачи и прочее, так и в инструментах ее распространения. Первое составляет проблему контента СМИ, того, насколько он выдерживает нравственную проверку. Вторая проблема сложнее, так как следствия новых технологий в распространении информации не очевидны. Старые ориентиры морали, работающие в условиях доинформацион-ного общества, оказываются недейственными, и сама мораль теряет свое господствующее положение, которое раньше казалось незыблемым. Многие авторитетные исследователи, исходя из социально-экономических и культурных особенностей современной ситуации, делают выводы фатального характера – причем как для общества в целом, так и для себя лично [2, с.8; 8, с.240 - 245], Вернемся ли мы когда-нибудь к гуманистическим идеалам традиционной морали, воссоздавая целостное представление о мире и человеке на каком-то новом уровне [5, с. 7], — покажет только время.
Список литературы Современный человек в мире без границ: нравственные ценности в информационном обществе
- Бодрияр Ж. Прозрачность зла. М: Добросвет, 2000.
- Виникое А.Ю., Новиков Ю.В. Роль элайнмента вселенной в становлении личности//Философия и жизнь: тезисы докладов и выступлений студ. науч. конф. 21 ноября 2009 г. в рамках Дней петербургской философии -2009. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2009.
- Жижек С. О насилии. М: Европа, 2010.
- Коневских Л.А. Культурологические аспекты эзотерической проблематики в современности//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. 2012. №5. С.4-8.
- Маклюэн М. С появлением спутника планета стала глобальным театром, в котором нет зрителей, а есть только актеры/пер. В.П. Терина//Кентавр. М, 1994. №1. С.20-31.
- Окинавская хартия. URL: http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обращения: 03.11.11).