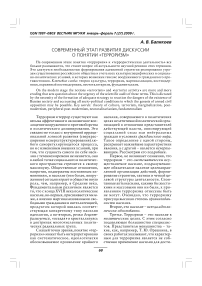Современный этап развития дискуссии о понятии «терроризм»
Автор: Баликоев А.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 1 (27), 2009 года.
Бесплатный доступ
На современном этапе понятия «терроризм» и «террористическая деятельность» все больше размываются, что ставит вопрос об актуальности научной ревизии этих терминов. Это диктуется необходимостью формирования адекватной стратегии реагирования угрозам существования российского общества и учета всех культуроспецифических и социально-политических условий, в которых возможен генезис вооруженного гражданского противостояния.
Теория культуры, терроризм, маргинализация, постмодернизм, окраинный постмодернизм, неототалитаризм, фундаментализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14488739
IDR: 14488739
Текст научной статьи Современный этап развития дискуссии о понятии «терроризм»
С нашей точки зрения, понятие «терроризм» может быть интерпретировано как систематическое, идеологически обосновываемое проявление крайнего насилия, совершаемого в политических целях нелегитимной политической организацией в отношении представителей действующей власти, оппонирующей социальной силы или нейтральных граждан в условиях гражданского мира. Такое определение с одной стороны, раскрывает важнейшие характеристики явления, а с другой – является исчерпывающим. Рассмотрим его подробнее.
Первое, не возникает сомнения, что терроризм – это систематически осуществляемое насилие, подразумевающее обязательное наличие целенаправленной организации действий, формирование стратегии, тактики и четкой целевой структуры деятельности. Спонтанные акты насилия, какими бы жестокими и массовыми они ни были, к проявлениям терроризма отнесены быть не могут. Очевидно, что терроризму присуща высокая степень организованности насилия.
Второе, это насилие – всегда идеологически обоснованно .
Третье. Терроризм – это насилие в политических целях. С этим согласно подавляющее большинство специалистов. Представители меньшинства – такие, как, например, Т. Ю. Орешкина, в своих работах указывают, что характерным для терроризма является не собственно применение насилия для дости- жения политических целей, а направленность этого насилия на невинных жертв (2, с. 4). Однако сути явления это не меняет, поскольку терроризм всегда преследует цель захвата (или, по крайней мере, узурпации или присвоения части) власти в государстве, гражданами которого являются члены террористической организации. Кроме того, распространенным вариантом захвата власти является отделение части территории государства (сепаратизм).
Четвертое. Террористическая организация – нелегитимная сила. Мало того, мы утверждаем, что таковая ни в коем случае не имеет вид постоянного вооруженного формирования (и не является производным такого формирования, как, например, партизанские, подрывные или диверсионные группы). Террористическая организация – это автономная городская подпольная организация . Из нелегитимной сущности терроризма проистекает абсурдность термина «государственный терроризм», который имеет стабильное «хождение» в современной литературе, посвященной данному вопросу.
В связи с этим устанавливается и последнее условие, а именно условие гражданского мира . Оно является принципиально важным, так как не позволяет причислять к террористам повстанцев, партизан и других представителей организованных вооруженных формирований , которые в ходе локальных вооруженных конфликтов могут совершать акты террора или массовые убийства как преступления, совершенные в условиях гражданской войны.
В этом аспекте глубокая теоретическая проработка понятия терроризм , а соответственно, и «смежных» понятий вкупе с их тщательным дифференциальным анализом позволит яснее воспринимать реальную картину террористических и иных угроз национальной безопасности современного государства.
Террор есть, с нашей точки зрения, практика или политика устрашения вообще. Как утверждал Л.Д. Троцкий, устрашение есть могущественное сред- ство политики, и международной, и внутренней. «Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет, по общему правилу, лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю» (3, с. 15). При этом суть указанного устрашения, с нашей точки зрения, заключается в намеренно неоправданном расширении насилия. Иными словами, организующая норма насилия или не соответствует той степени дезорганизации, на которую были направлены действия оппонентов, то есть значительно превышает ее, или же переносится в качестве произвола на иных, заведомо невиновных лиц. Однако в любом случае суть террора есть организующее действие, и, как правило, в этом смысле террор несет в себе предупредительный и оградительный смыслы. По достижении цели, интенсивность террора минимизируется. По мнению специалистов, при терроре, выраженном в физическом насилии над людьми, истребление какой-то части политических противников является не самоцелью, а средством достижения другой, более важной цели – призвать к повиновению остальную часть политических противников и всех прочих граждан (1, с. 20).
Терроризм, в свою очередь, является идеологией и практикой нелегитимных маргинальных общественных групп в достижении политических целей, но только в том случае, когда крайнее насилие направлено на не включенных в общественное противостояние индивидов или же если так называемое адресное насилие носит расширительный характер, то есть направлено на представителей какой-то общественной группы «вообще», а не в силу конкретных действий последних (индивидуальный террор).
В том случае, когда существуют различные способы достижения цели, но политическая группировка применяет действия связанные с крайним насилием, речь должна идти уже не о терроризме, а об экстремизме, как практике применения неадекватных политической ситуации насильственных действий. В этом и состоит сущность экстремизма – при любой, даже самой широкой гамме средств достижения политических целей, использовать преимущественно средства насилия. Иными словами, терроризм направлен на ключевые фигуры или группы, а экстремизм на само по себе насилие. Политический смысл экстремистских действий всегда вторичен.
Массовое убийство как понятие ни в коем случае не должно смешиваться ни с понятием «террор», ни с понятиями «терроризм» и «экстремизм». Так, широко известная «зариновая атака» в токийском метро, проведенная сектой «Аум Синрикё», является ни чем иным, как массовым убийством, совершенным под влиянием исключительно иррациональных мотивов. Никаких значимых политических целей эта акция не преследовала. То же можно утверждать и в отношении всех осуществленных явно или конспиративно актов крайнего насилия с целью провокации общественной паники, насаждения всеобщего страха, в общем – с целью добиться общественного резонанса вне контекста узурпации власти.
Разумеется, ни в коем случае терроризм не является уголовным преступлением, в традиционном понимании этих преступлений, поскольку суть его отрицает аспект личной выгоды, так же как и, с другой стороны, уголовные преступления, к каким бы массовым жертвам они ни приводили, так же не могут быть отнесены к террористическим актам. Поэтому определение терроризма как «криминального инструмента решения политических вопросов» – всего лишь политический же ход с целью приравнять терроризм к уголовным преступлениям, хотя и цели, и предпосылки у этих явлений глубоко различаются. Разумеется, это не означает, что члены террористических организаций не совершают уголовных преступлений с целью добыть деньги или ценности для поддержания своей деятельности на должном уровне и технической организации и эффективности в целом. Однако сам по себе терроризм принципиально не служит сред- ством обогащения. Организованная преступность – феномен качественно иного рода, имеющего иные от терроризма корни и преследующего совсем иные цели. Тождество деяний не предопределяет тождества деятелей.
Исходя из сказанного, можно констатировать, что в большинстве случаев, то, что сейчас специалисты называют террористическими организациями, таковыми на самом деле не являются. По сути дела, речь идет о профессиональных (то есть наемных), но не «узаконенных» вооруженных подрывных и диверсионных формированиях. Если быть совсем точными, то эти формирования можно назвать группами террора различных спецслужб. Их специфика в том, что они сохраняют определенную автономность , поскольку не формируются «на родине» и не забрасываются в ключевые точки, а возникают (или создаются) по «территориальному» признаку в политически нестабильных районах или на территории марионеточных режимов. Кроме того, они являются инструментом политики региональных элит, что отрицает их нелегитимный, террористический характер, но квалифицирует их как подрывные боевые организации.
Еще одной принципиальной и важной особенностью терроризма, в отличие от упомянутой нами подрывной деятельности, является его характеристика как средства «последнего выбора» . Иными словами, терроризм – это метод борьбы малочисленных и слабо организованных политических сил в ситуации, когда для этих сил другие методы борьбы попросту невозможны.
Терроризм зародился на определенном историческом этапе в качественно новой среде, будучи совершенно новым явлением, и развился в о собую культуру , имеющую строго определенные признаки, отделяющие её от внешне сходных явлений в прошлом и таковых же, имеющих место рядом с ней.
Идеология и культура терроризма сформировались в девятнадцатом веке, что, на наш взгляд, связано с двумя фактами – эволюцией структуры западноев- г
ропейского общества и, соответственно, общественных отношений, а также изобретением и распространением применения динамита. Первое породило социальную прослойку, в которой созревали вдохновители и исполнители, формировались идеология и методология новой доктрины. Второе подарило бурно развивающемуся движению универсальное техническое средство, и по сей день являющееся основным в арсенале террористов.
На современном этапе перенаселение и скачок научно-технического прогресса привели к резкому развитию элитаризма и созданию новых форм социального расслоения и эксплуатации, сущность последней приобрела неото-талитарный характер и постмодернистские культурные черты.
Указанный постмодернизм и неототалитаризм воплощаются в двух антагонистических социокультурных и экономических формах – технократической и окраинной. Сущность постмодернистского неототалитаризма заключается в том, что власть в лице экономических и политических элит окончательно дистанцируется от народа, а сам народ как таковой, как «общество», перестает существовать, превращаясь в объект управленческой манипуляции, в максимально гомогенизированную, маргинальную и одновременно фрагментированную массу.
В условиях современного политического противоборства роль маргиналов резко возрастает. В конце XX – начале XXI века основными акторами вооруженной оппозиции становятся не протестные массы и не национально-освободительные движения, а организованные при поддержке внешних агентов заинтересованных политических элит или внутренних подрывных сил маргиналь-но-идеократические группы. Этот процесс обусловливается несколькими факторами.
Во-первых, формирование, поддержка и использование маргинальных групп в качестве вооруженной силы гораздо экономичнее использования регу- лярной вооруженной силы, поскольку не подразумевает удержания и захвата территорий.
Во-вторых, представители маргинальных групп являются гражданами той страны, в которой они ведут партизанско-повстанческую деятельность, а следовательно, против них не могут вестись полномасштабные военные действия.
В-третьих, являясь частью общества и ведя псевдопротестные войны, маргинализованные группы наносят удар по устоям политической системы, «разрывая» общественное мнение, в то время как любое внешнее вторжение немедленно привело бы к его консолидации.
Маргинализованные протестные группы произрастают на национальных окраинах, как правило, экономически стагнированных регионах, заселенных традиционными обществами. На современном этапе эти общества претерпели серьезные изменения. Процесс глобализации, являясь, по сути дела, процессом новой экономической и культурной экспансии, активным образом вторгается в жизнь этих обществ, в которых формируются смешанные гибридные постмодернистские типы культуры. В целом, сохраняя традиционные черты, эти сообщества за очень короткий промежуток времени потеряли свою «окраин-ность» и оказались в совершенно ином культурном, экономическом и информационном пространстве.
Возможно определение «постмодернистские» в его «строгом» значении применительно к упомянутым типам культуры не очень точно отражает суть онтогенеза указанных сообществ, поскольку эти сообщества в большинстве своем не только не прошли стадию модернизма и даже индустриализма, но не знали даже развитых феодальных отношений. Тем не менее, вследствие глобализации, на самые архаичные культурные формы социальной организации немедленно наслоились элементы технократических образцов действий, а сами эти сообщества были объективно инкорпорированы в совершенно новую систе- му экономических, политических и культурных отношений. Тот длинный и насыщенный исторический путь, который проделали традиционные сообщества Средневековья через эпоху феодализма, раннего капитализма в индустриализм и постиндустриальное общество, для исследуемых стагнированных сообществ оказался «стертым». Из эпохи общинного эгалитаризма эти сообщества шагнули сразу в постиндустриальную эпоху по своеобразной «укороченной» культурной схеме, немедленно привнеся в современную эпоху «старые-новые» образцы действий. На современном этапе описанные культуры более не представляют собой классического традиционного (патриархального) общества. Это, разумеется, не означает, что структура социальных отношений внутри таких сообществ претерпела радикальную перестройку, но она утратила свое прежнее содержание и наполнилась новым.
Таким образом, эти черты являют собой не просто воспроизведение «архаичных» культурных паттернов в современных условиях, но – образцы действий, осуществляемых в новых условиях и новыми же, применительно к этим же условиям, способами. Сочетание указанной культурной архаичности и новых технократических образцов действий и образует причудливые формы культурно-политического постмодернизма.
В силу этого экстремистский «андеграунд» чрезвычайно неоднороден. С одной стороны, это обусловлено различными социально-политическими условиями, в которых зарождалось или в которые экспортировалась та или иная доктрина вооруженного сопротивления; с другой стороны, это зависит от культурной специфики общественной системы, в которой разворачивается вооруженная борьба, проявления которой могут самые разные, однако по большей части и по большей же части безосновательно квалифицируются как терроризм.
В этой ситуации окраинный постмо- дернизм эволюционирует (или инволю-ционирует) в сторону «фундаментали-зации» социальной и культурной сферы. Фундаментализация, то есть сведение форм социальной организации к наиболее общим и жестким установкам, происходит, с одной стороны, от неспособности окраинных элит к восприятию и внедрению более сложных форм культуры, с которыми им приходится «сталкиваться» в результате глобализации, с другой стороны, внедрение более сложных форм культуры означает для них банальную потерю власти и влияния. Особенно это касается реакционного исламского духовенства. Разложение традиционных социальных отношений и реорганизация политической и экономической жизни, постепенное и активное включение стран мусульманского Востока в мировой культурный процесс вынуждают окраинные элиты формировать новые фундаменталистские идеок-ратические и, разумеется, террористические доктрины, немедленно находящие свою почву среди все увеличивающихся в результате перенаселения беднейших масс.
Иными словами, фундаментализм есть современная форма окраинного постмодернизма и предпосылка к его следующей форме – теократическому неототалитаризму яркой террористической окрашенности. Теократический неототалитаризм имеет свою почву в наименее социально и экономически развитых и/или перенаселенных регионах, переживающих или переживших определенный этап внешнего и при том неудачного инокультурного вмешательства, колониального или цивилизаторского типа. Однако было бы большой ошибкой считать идейные «ветви» окраинного постмодернизма, как и сам окраинный постмодернизм, выражением какой-то идеологии или теории общественного блага вообще и тем более увязывать его с классовой борьбой или национально-освободительным движением, что склонны приписывать северокавказским псевдопротестным группам.
Окраинный постмодернизм суть форма организации маргинальных этнических и этноконфессиональных элит в борьбе за власть в условиях глобализации. А терроризм есть основной инструмент этой борьбы. Глобализация и все возрастающее «культурное давление» ставит окраинные элиты в ситуацию, когда «старые», архаичные, традиционные механизмы социальной организации и достижения власти оказываются под угрозой разложения, а новые, по уже указанным причинам, не могут быть приняты. В данной ситуации окраинные элиты немедленно мар- гинализуются, мобилизуя и консолидируя социум вокруг абстрактных лозунгов, то есть происходит своего рода мутация социального кода действия, в котором на старую «матрицу целей и действий» наслаиваются новые средства их достижения и воплощения. В переходный период, с ослаблением доминирующего влияния «регионоформирующей» (имперской, по сути) политической силы, окраинные элиты моментально манифестируются в фактор деструктивности и социальной агрессии.