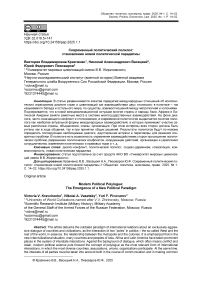Современный политический полилог: становление новой политической парадигмы
Автор: Кравченко В.В., Васецкий Н.А., Пивоваров Ю.Ф.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье развенчивается изжитая парадигма международных отношений об исключительно агрессивном диалоге стран и цивилизаций как взаимодействии двух «полюсов» в политике - так называемого Запада и остального мира, по существу, взаимоотношений между метрополией и колониями. Подчеркивается, что в новой межцивилизационной ситуации многие страны и народы Азии, Африки и Латинской Америки заняли заметные места в системе межгосударственных взаимодействий. На фоне диалога, часто означающего конфликт и столкновение, в современной политологии выдвигается понятие полилога как наиболее актуальной формы международных взаимодействий, в которых принимают участие самые различные страны, объединения, союзы, организации. При этом интересы всех сторон должны быть учтены как в ходе общения, так и при принятии общих решений. Результаты полилогов будут по-новому определять последующие необходимые диалоги, двусторонние встречи и переговоры для решения конкретных проблем. В полилоге есть возможность управления взаимодействием сторон при решении политических проблем, разрешении политических конфликтов, координации действий, организации и укрепления сотрудничества, изменения политических и правовых норм и т. д.
Диалог-конфликт, политический полилог, социал-дарвинизм, коэволюция, коммюнотарность, новая политическая парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/149147671
IDR: 149147671 | УДК: 32.019.5+141 | DOI: 10.24158/pep.2025.1.1
Текст научной статьи Современный политический полилог: становление новой политической парадигмы
Введение . Диалог цивилизаций – уже привычное понятие в политике и международных отношениях. Оно сформировалось на основе развития представлений о взаимодействии двух «полюсов» в политике – так называемого Запада и остального мира, представляемого иногда в качестве коллективного оппонента (в ХХ в. противостояние капиталистических стран и социалистического лагеря, а теперь – «развитых стран» и других: слаборазвитых, недостаточно развитых и т. п.). В рамках диалога-конфронтации по западному типу реализуется установка социал-дар-винизма на поиск и утверждение сильнейшего в процессе естественного отбора в борьбе за существование (по аналогии с внутривидовой борьбой в природе).
Концепция полилога ассоциируется с иной стратегией выживания – «коэволюцией», разработанной в русском естествознании и философском космизме (В.И. Вернадский, П.А. Кропоткин). Коэволюция – это совместная эволюция биологических видов, которые, не обмениваясь генетической информацией, тесно связаны в единой экосистеме, помогая друг другу продвигаться в своем развитии. В результате все участники одновременно получают пользу и выгоду от сотрудничества. В политическом полилоге изначально предполагается «коэволюционное» взаимодействие, направленное не на вечную борьбу, а на совместное выживание и обоюдное эффективное развитие.
В складывающемся межцивилизационном полилоге Россия занимает особое место, имея в своем духовно-философском наследии опыт «коммюнотарности» (Н.А. Бердяев). А в настоящее время она выполняет ведущую роль модератора кардинальных процессов в мировой политике. Нетрудно заметить, что подобные взаимодействия сформировались примерно с XVI–XVIII вв., когда Европа не только «открыла» для себя другие страны и континенты, но и установила над ними свое колониальное господство. До сих пор сохранилось это специфическое общение между ранее европейскими метрополиями и бывшими колониями, т. е. «отсталыми» странами Востока, Юга и Латинской Америки.
Так, диалог Великобритании и Индии после обретения последней независимости в 1947 г. фактически представлял собой сохранявшееся культурное доминирование европейской державы, под авторитетным влиянием которой многотысячелетняя индийская цивилизация проходила «модернизацию» по западному типу. Политическая самоидентификация Индии включала в себя безусловный авторитет Британии не только в экономической и политической, но и культурной сфере. До сих пор, спустя более 70 лет со времени обретения независимости, в Индии английский язык, британский образ жизни и европейская мода считаются у большинства образованных индийцев (кстати, зачастую получивших образование за рубежом) признаками истинной цивилизованности. Однако в новой межцивилизационной ситуации из исторической тени вышли многие страны и народы Азии, Африки и Латинской Америки, заявив свои политические права и заняв заметные места в системе межгосударственных взаимодействий.
Старое понятие диалога теряет смысл. Хотя некоторые лингвисты до сих утверждают, что диалог – это разговор двух и более участников, а понятие «полилог» (от греч. «polilogos» ‒ «речь многих») является лишь синонимом или вариантом диалога. В действительности, в современных направлениях межкультурной коммуникации, социальной психологии и в самой политологии проблема рассмотрения и трактовки полилога становится всё более актуальной.
Древние греки в дипломатических отношениях трактовали термин «диалог» как примирение, начало прекращения военных действий. Современный политический диалог означает политические программы, концепции развития международных отношений, основанных на принципах современной дипломатии. Таким образом, через конструктивный диалог действительно открывается возможность прогнозировать политические действия, разрабатывать и осуществлять совместные политические программы взаимодействующих государств. Однако в западном менталитете, как мы рассмотрели, диалог – это общение одной страны с другой (или группой стран), в первую очередь, с позиции силы, доминирования. А взаимодействие «развитой» страны с другой сильной стороной, в которой признается цивилизация, сводится, по существу, к столкновению, категорическому противостоянию.
Напомним, что Сэмюэл Филлипс Хантингтон, директор Института стратегических исследований при Гарвардском университете, основатель современной концепции цивилизаций, на Западе до сих признается бесспорным теоретиком-политологом. Согласно С.Ф. Хантингтону, цивилизация – это культурная общность наивысшего ранга, самый широкий уровень культурной идентичности. По существу, это большие конгломераты стран, обладающие определяющими признаками – особой культурой, языком, религией, традициями, историей (Хантингтон, 2003).
Современный диалог = столкновение = конфликт цивилизаций, по Хантингтону, стали закономерным продолжением прежних войн:
-
• до 1648 г. – войны правителей;
-
• до 1918 – войны наций;
-
• до 1991 – войны идеологий.
В настоящее время американский политолог усматривает 8 основных цивилизаций, различия между которыми неизбежно приводят к войнам между ними. При этом западная цивилизация должна оставаться мировым гегемоном. По его мнению, «столкновения цивилизаций будут доминировать в мировой политике».
Результаты исследования:
Эпоха, требующая формирования новой политической парадигмы . В настоящее время в решении судеб мира принимают участие самые различные страны, причем их роли могут напрямую не зависеть от величины территории, количества запасов природных богатств, народонаселения и т. п. Более того, в постановке и решении политических проблем принимают активное участие не только отдельные страны, но и их объединения, союзы, создаваемые не по территориальному признаку, а по экономическим, политическим, социокультурным интересам. С развитием гражданского общества и процессов демократизации большой политический вес обретают общественные организации, противостоящие военным объединениям.
Политическая реальность сегодня настолько многофакторна, что при перераспределении «политических зарядов» в напряженном политическом поле решающую роль может играть самый непредсказуемый актор (Кравченко, 2017).
Сегодня человечество создает новую политическую парадигму, ничего общего не имеющую с отжившими «правилами», навязанными Западом и в свое время «закрепленными» посредством мощной колониальной системы (Булавина, Новосельский, 2023). Центральная формула мировой политики была четко определена С. Хантингтоном: «Запад и все остальные» («The West and the Rest»). Эта кардинальная позиция Запада, которая укоренена в западном менталитете, недавно была интерпретирована в известной фразе Жозепа Борреля, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, про Европу как сад, противостоящий другим государствам, символизирующим дикие «джунгли». Фраза евробюрократа возмутила мировое сообщество, но верхушкой европейского политического бомонда она была воспринята как сама собой разумеющаяся.
Политическое лидерство Запада известный британский историк Ниал Фергюсон попытался разъяснить в объемном труде «Цивилизация. Запад и все остальные» (Фергюсон, 2013). Он выявил шесть причин, которые дали возможность Западу возглавить мировой цивилизационный процесс: конкуренция, наука, собственность, медицина, потребление, работа. И главное достижение Британии – это то, что сегодня называют «политическим менеджментом», когда правительственные круги, реализуя выгодные для себя управленческие решения, прямо используют идеологию для оправдания своих, порой неблаговидных действий. Западные идеологи укореняют в сознании своих граждан и в представлениях руководителей других стран те убеждения, что Британия всегда права и не могла поступать иначе, причем не только ради собственного блага, но и в интересах всех стран мира. И здесь можно вспомнить еще один знаменитый британский лозунг, сформулированный премьер-министром Великобритании лордом Генри Палмерстоном: «У Британии нет ни друзей, ни врагов, но есть постоянные интересы».
Сегодня становится очевидным, насколько подобная позиция западных стран расходится с тенденциями современного политического процесса, включающего самые разнообразные культурные и государственные образования, а также весь спектр политических акторов: различные страны, общественные организации, объединения, союзы. Всё в большей степени выявляются ценности и смыслы параллельной дипломатии – деятельности на мировой арене участников международных отношений, не относящихся к сфере официальной дипломатии: народная дипломатия, работа транснациональных корпораций, неправительственных организаций и других (Прокопенко, 2009).
Наблюдается возрастание активности в решении не только глобальных, но и местных проблем. Так, крупные города заявляют о себе как об участниках международных отношений (Са-ямов, 2019). Это чрезвычайно важный и исторически зарекомендовавший себя аспект не только межнациональных, межэтнических, но, в первую очередь, межкультурных и межцивилизационных взаимодействий. Именно города являются оптимальной формой организации культурного поля, сосредоточивая в себе наиболее важные достижения и точки дальнейшего роста культур и цивилизаций. Как известно, древнейшие цивилизации концентрировались именно вокруг крупных городов: в Шумере это были Урук, Ур, Ниппур, Киш и другие; в Древнем Египте – Луксор, Абидос, Асуан; в Хараппе – Мохенджо-Даро, Ракхигархи и т. д. Как правило, центральные города всех цивилизаций находятся на более высокой ступени развития по сравнению с другими территориями, потому их непосредственное взаимодействие во все времена способствовало более эффективному сотрудничеству и взаимообогащению как в материальной, так и в духовной сферах. В настоящее время развиваются международные организации, координирующие работы местных сообществ и городских властей. Так, ООН-Хабитат – Программа по населенным пунктам, являясь ключевым органом в системе ООН по обеспечению международного сотрудничества в области устойчивого городского развития, способствует выработке новых методов решения проблем глобальной урбанизации, а также обмену опытом и распространению новых технологий в области управления и благоустройства населенных пунктов (Суданц, 2022).
Все большую роль играет Всемирная организация объединенных городов и местных властей (ВО ОГМВ), основанная 5 мая 2004 г. (исторически ей предшествовал «Международный союз местных властей», созданный в 1913 г.). Организация способствует взаимодействию мэров, региональных и местных лидеров, осуществлению совместных многосторонних проектов, организации международных семинаров-практикумов по обмену опытом в вопросах местных политик и практик, защите интересов местных и региональных органов власти в ООН. Более 20 лет работает Международная Ассоциация «Объединенные города и местные власти Евразии», объединив «Международный Союз местных властей», «Всемирную федерацию породненных городов» и «Метрополис» в единую организацию. Ассоциация, представляющая интересы евразийского региона в рамках ОГМВ, со штаб-квартирой в городе Казани, столице Татарстана, охватывает около 300 млн человек.
Политический полилог как основа новой парадигмы международных отношений . В условиях формирования новой политической реальности и карты мира необходимо пересмотреть основные понятия, в первую очередь, систему взаимодействий между новыми политическими акторами, а также цивилизациями, даже если их рассматривать в ракурсе концепции Хантингтона.
В современной теории коммуникаций, в межкультурной коммуникации, лингвострановеде-нии и т. д. диалог рассматривается как элементарная форма группового общения. Сегодня на первый план выдвигается понятие «полилога», представляющего собой более сложную структуру общения как по составу участников, так и по межсубъектным отношениям.
Полилог – разговор многих участников, одновременное общение нескольких лиц/субъектов. Отличительные признаки полилога:
-
• не менее трех участников;
-
• единая тема общения;
-
• ситуативная связанность;
-
• нелинейность;
-
• наличие необходимых средств общей контактности (в первую очередь, общий язык, возможность непосредственных высказываний и комментариев).
На наш взгляд, к ситуации полилога вполне применима юридическая аналогия: как и при составлении многосторонних договоров в гражданском праве, стороны политического полилога должны определяться по направленности интересов, а не по количеству участников. Но самое главное, что интересы всех сторон должны быть учтены как в ходе общения, так и при принятии общих решений. Возможно, на этапе становления новой политической парадигмы метод полилога более применим на многосторонних встречах, форумах, заседаниях международных организаций и т. п. Но он будет по-новому определять и последующие необходимые диалоги, двусторонние встречи и переговоры для решения конкретных проблем.
Политический диалог по-прежнему будет способом публичного выражения политических взглядов, мнений, оценок, стилей политического мышления участников диалога (Новосельский и др., 2023) (заметим, что колониальный диалог уже не был единственным видом цивилизационных диалогов, начиная с XIX в.). Однако, скорее всего, по результатам прошедших полилогов, конкретный диалог будет представлять собой не полемику, как резкое противопоставление противоположных мнений по обсуждаемому вопросу, а конструктивную дискуссию, обмен мнениями по политической проблеме и, как правило, поиск консенсуса, т. е. оснований для заключения политического соглашения сторон.
Особенности полилога очевидны: в нем есть возможность управления взаимодействием сторон при решении политических проблем, разрешении политических конфликтов, координации действий, организации и укрепления сотрудничества, изменения политических и правовых норм и т. д. Основное отличие полилога от диалога-столкновения заключается в исходной установке международного и межцивилизационного общения. Для наглядности прояснения этого отличия можно обратиться к фундаментальной идее, которую в западной науке сформулировал знаменитый британский ученый Чарльз Дарвин: выживание биологического вида определяется его способностью к борьбе за существование (которая, как известно, является триединой задачей: борьба с представителями других видов, с окружающими условиями внешней среды и, самая жестокая, – борьба с представителями своего вида) (Дарвин, 2021).
Диалог-конфронтация по западному типу является прямой реализацией этой установки – естественного отбора сильнейшего в его борьбе за существование. Аналогия не столь далекая, как может показаться на первый взгляд, если вспомнить чрезвычайно популярный с конца XIX в. «социал-дарвинизм» (социальный дарвинизм), который закономерности развития человеческого общества сводил к закономерностям биологической эволюции, а принципы естественного отбора и борьбы за существование считал определяющими факторами общественной жизни. Как известно, к представителям этого направления относились многие западные философы, ученые, социологи, например, Г. Спенсер, У. Беджгот, Л. Гумплович, Л. Вольтман и др.1 Так, Людвиг Воль-тман прямо писал, что у людей, в отличие от животных, «вследствие социального унаследования и дифференцирования очень легко могут возникнуть противоречия между органической структурой и социальной и интеллектуальной надстройкой народа; естественные противоречия, которые сглаживаются только после жестокой борьбы и часто – насильственных потрясений, – которые историк называет политическими революциями, – или, если напряжение будет слишком велико, превращаются в опасность для прочности существования народа. Масштаб, который должно прилагать к этим развитиям и взаимодействиям рас и правовых форм, – тот самый, который Дарвин предложил для естественной истории органических видов вообще, включая и человека: это естественный отбор в борьбе за существование» (Вольтман, 2000). Некоторые историки и политологи напрямую связывают социал-дарвинизм с развитием идей расизма, нацизма и фашизма в конце XIX – начале ХХ в. (напомним, что двоюродный брат Ч. Дарвина – Френсис Гальтон был известным антропологом и родоначальником евгеники).
На наш взгляд, дарвиновская идея «естественного отбора» крепко укоренилась в западном менталитете, проявившись в неискоренимых претензиях белых англосаксов и германцев на принадлежность к «высшей расе»; в геополитических прогнозах Ф. Ратцеля и К. Хаусхофера, в колониальной политике и прочих западных проектах. Идея «естественного отбора» легко угадывается и в политологической концепции С. Хантингтона (Запад и остальные), и в историко-политической теории Н. Фергюсона (неукоснительное доминирование западной цивилизации) и пр. Однако стоит вспомнить, что в русском естествознании и космизме гениальный ученый В.И. Вернадский выдвинул иную стратегию выживания человечества – « коэволюцию », которая также имеет место в природе. Как известно, коэволюция – это совместная эволюция биологических видов, которые, не обмениваясь генетической информацией, тесно связаны в единой экосистеме, помогая друг другу продвигаться в своем развитии. Здесь можно вспомнить и известные со школьных занятий примеры симбиоза и мутуализма, когда оба участника взаимодействий одновременно получают пользу и выгоду от сотрудничества. В биологии известны последствия коэволюции: коадаптация, прямая зависимость, например, двух видов – между цветковыми растениями и опыляющими их насекомыми или птицами.
Обычно подчеркивают необходимость коэволюции человечества и биосферы на пути к созданию ноосферы. Действительно, В.И. Вернадский разрабатывал учение о том, что биосфера, как сфера все более активной деятельности человека, должна превращаться в сферу разума ‒ ноосферу. Еще в 1926 г. он писал: «…созданная в течение всего геологического времени, установившаяся в своих равновесиях биосфера начинает всё сильнее и глубже меняться под влиянием научной мысли человечества» (Вернадский, 1988).
В прогнозировании будущей ноосферы В.И. Вернадский рассматривал необходимые предпосылки ее образования, первой из которых он считал тот исторический момент, когда в будущем «человечество стало единым целым».
Тем не менее речь шла не о социальном или политическом единстве всех людей на Земле, а о создании единого коллективного разума. Как справедливо отмечает А.А. Акаев: «В. Вернадский искренне верил в коллективный разум человечества и неизбежность его перехода в ноосферу. Он был убежден в том, что высшая цель человечества состоит в создании новой, управляемой, научно и духовно организованной цивилизации, гармонично взаимодействующей с биосферой Земли» (Вернадский, 1991).
В то же время, по мнению А.А. Акаева, В.И. Вернадский, к сожалению, переоценил возможности биосферы Земли справляться с антропогенной нагрузкой. Более актуальной для современного состояния и человечества, и биосферы А. Акаев считает учение Н.Н. Моисеева о коэволюции человека и биосферы, их гармонизации (Акаев, 2013).
Однако для реализации подобного проекта все равно нужно говорить о необходимости единых усилий всего человечества, об объективном историческом этапе, когда именно человеческая деятельность является условием дальнейшего развития биосферы. В. Вернадский подчеркивал: «Человечество едино, и хотя в подавляющей массе это сознается, но это единство проявляется формами жизни, которые фактически его углубляют и укрепляют незаметно для человека, стихийно, в результате бессознательного к нему устремления. <...> Государственные образования, идейно не признающие равенства и единства всех людей, пытаются, не стесняясь в средствах, остановить их стихийное проявление. [однако] ... создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует проявления человечества как единого целого. Это его неизбежная предпосылка» (Вернадский, 1988).
В настоящий момент, когда человечество в очередной раз стоит на грани самоуничтожения, единство или разобщенность людей - это фактически вопрос жизни или смерти человеческой цивилизации. Идея коэволюции в данном аспекте касается уже не столько разумного взаимодействия человечества и биосферы, сколько сохранения самого человечества как уникального феномена космической и биологической эволюции.
Знаменитый русский философ Петр Кропоткин был также критиком универсальности идеи естественного отбора и социал-дарвинизма, приводя множество примеров того, что в природе и обществе кооперация, взаимопомощь являются более эффективными способами выживания и развития, чем конкуренция и конфронтация.
Проникнувшись идеями профессора Кесслера о том, что дарвиновское учение ограничено, не учитывая, что кроме «взаимной борьбы» в природе существует еще закон «взаимной помощи», П. Кропоткин фактически развивает идею В. Вернадского о том, что единство человечества предуказано в закономерном развитии от биосферы к ноосфере. И неслучайно русский философ первые главы своей работы посвящает проблеме взаимной помощи у животных (от беспозвоночных, муравьев и пчел - до птиц и высших животных: оленей, обезьян и пр.), доказывая, что взаимная помощь - закон природы и главное условие прогрессивного развития . Подробно останавливаясь на взаимопомощи в среде диких племен, П. Кропоткин развенчивает еще одну чрезвычайно укоренившуюся в западном менталитете идею, высказанную английским просветителем Томасом Гоббсом о неизбежной «борьбе всех против всех», являющейся законом жизни дикарей, т. е. людей в «естественном состоянии», живущих в природе (Гоббс, 2021).
П. Кропоткин особо подчеркивает «высокое развитие родовой нравственности» у примитивных племен (эскимосов, даяков и других), которую, конечно, нужно трактовать, исходя из реальных условий жизни «дикарей» и которую невозможно сопоставлять с жизнью западных исследователей. Кстати, Кропоткин нашел в произведениях Дарвина то, что обошли вниманием его западные почитатели. Кропоткин пишет о «дикарях»: «Куда бы мы ни обратились, везде мы находим те же общительные нравы, тот же мирской дух. И когда мы пытаемся проникнуть во мрак былых веков, мы видим в них ту же родовую жизнь и те же, хотя бы и очень первобытные, союзы людей для взаимной поддержки. Поэтому Дарвин был совершенно прав, когда видел в общественных качествах человека главную деятельную силу его дальнейшего развития, а вульгаризаторы Дарвина совершенно не правы, когда утверждают противное» (Кропоткин, 2007). И далее Кропоткин цитировал самого Дарвина: «Сравнительная слабость человека и малая быстрота его движений., а также недостаточность его природного вооружения и т. д., более чем уравновешивались, - во-первых, его умственными способностями; и во-вторых, его общественными качествами , в силу которых он подавал помощь своим собратьям и получал ее от них» (Кропоткин, 2007).
Таким образом, в современном политическом полилоге изначально предполагается «ко-эволюционное» взаимодействие, направленное не на вечную борьбу, а на совместное выживание и обоюдное эффективное развитие. Причем если в природе речь идет, как правило, о коэволюции двух биологических видов (в нашем контексте - положительном диалоге), то в политическом полилоге предполагается создание целостной благоприятной социокультурной эко-куль-туро-сферы, которая предусматривает не только физическое и биологическое выживание участников, что тоже необходимо, но и социокультурное мирное развитие, которое В.И. Вернадский и именовал «ноосферой» (от греч. «ноос/нус» - разум) (Кропоткин, 2007).
Место России в складывающемся межцивилизационном полилоге. Современная Россия, как один из важнейших акторов в современной мировой политике, государство-континент, своей культурой исторически соединяющий Восток и Запад, самим ходом дальнейшего развития целостного человечества предназначена осуществлять синтез мировых достижений. В складывающемся международном полилоге она неслучайно занимает ведущую роль модератора кардинальных процессов в мировой политике. Нельзя согласиться с современными политологами, которые усматривают истоки традиционалистской политической культуры российского общества в ценностях, восходящих исключительно к практикам общинного коллективизма (Мунтян, 2014).
Представляется, что в сложных историко-культурных и политических перипетиях у России сложилось и неизменным сохраняется то «неистребимое онтологическое ядро», которое было выявлено в русской религиозной философии (начиная с творчества Вл. С. Соловьева). Речь идет о «русской идее», предугаданной как активная и творческая роль России в «решении таинственных судеб человечества». В начале ХХ в. Н.А. Бердяев дал современную интерпретацию понятия «соборность» (введенного еще в XIX в. славянофилом А.С. Хомяковым), предложив особый термин «коммюнотарность» (для того, чтобы пояснить иностранцам, какой смысл вкладывают русские в понятие «соборность», которое не имеет аналогов в других языках мира). Коммюно-тарность – это общинность, которая не подразумевает отсталость, авторитарность, бездушный индивидуализм или безличность. Коммюнотарность не есть «коллективизм», хотя может к нему привести. Бердяев писал: «…коммюнотарность всегда сказывалась в русских нравах, в раскры-тости русских домов, в гостеприимстве, в потребности русских людей в общении, в нелюбви к условностям и формальностям общения, в жалостливости и необыкновенной способности к жертвам русского народа» (Бердяев, 1996).
Идея соборности в интерпретации Бердяева – это «соединение принципа личности и свободы с принципом коммюнотарности». Соборность отличается и от религиозного индивидуализма, и от религиозного авторитета; это высшая реальность «духовной коммюнотарности», «коммюно-тарного гуманизма». Русские религиозные мыслители, как «русские европейцы», в своем мировоззрении и деятельности воплотили прообраз будущего единения народов. Н.А. Бердяев был убежден в том, что положительный опыт социальных преобразований в советской России также должен помочь будущему человечеству преодолеть и безличность капиталистической промышленности, и ужасы фашизма, и кризис человеческой личности на современном Западе. Духовное христианское возрождение, по мысли Бердяева, «объединяющее принцип личности и принцип коммюнотарно-сти», начнется в России и спасет весь мир от ненависти, безличности и бесчеловечности. Русская идея, как миссия и судьба России, неизбежно приведет к совершенствованию всего человечества. Безусловно, богатый опыт регулирования взаимоотношений множества субкультур внутри российского государства может также помочь на пути урегулирования взаимоотношений между различными народами, государствами и цивилизациями (Моисеева, 2013).
Выводы . Сегодня можно констатировать, что в современной международной политике выступает значительное число влиятельных ее акторов, среди которых цивилизации занимают ведущую, но не исключительно решающую роль. Характер мирового развития определяется не столкновением цивилизаций, а поиском эффективной модели организации мирового сотрудничества, которым оказывается политический полилог. Его многосторонняя структура, многофакторные цели и, главное, изначальная установка на сотрудничество и кооперацию, отсутствие стремления убедить всех участников в одном, «единственно верном» мнении, исключение агрессии и «двойных стандартов», решение актуальных вопросов с учетом интересов каждого из участников – все эти факторы свидетельствуют о реальных перспективах выстраивания новой парадигмы международной политики, ориентирующейся на всеобщее выживание и развитие.
Список литературы Современный политический полилог: становление новой политической парадигмы
- Акаев А.А. Учение В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева о ноосфере, коэволюции человека и биосферы - императив эпохи // Партнерство цивилизаций. 2013. № 1-2. С. 91-102.
- Бердяев Н.А. Истина и откровение. Пролегомены к критике Откровения. СПб., 1996. 384 с.
- Булавина М.А., Новосельский С.О. Перспективы военной безопасности России в существующей геополитической конъюнктуре // Межгосударственное противоборство в условиях глобализации и его влияние на управление национальной обороной Российской Федерации: сб. тр. конф. М., 2023. С. 105-112. EDN: RQTQDP
- Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. 520 с. EDN: HDSDRA
- Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. 271 с. EDN: KBQMGG