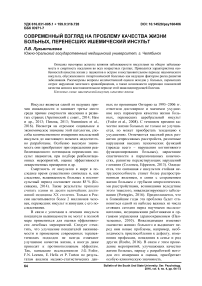Современный взгляд на проблему качества жизни больных, перенесших ишемический инсульт
Автор: Лукьянчикова Лариса Владимировна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Медицинская (клиническая) психология
Статья в выпуске: 4 т.9, 2016 года.
Бесплатный доступ
Описаны некоторые аспекты влияния заболеваемости инсультами на общую заболеваемость и смертность населения во всех возрастных группах. Приводится характеристика особенностей качества жизни у пациентов в остром и восстановительном периоде ишемического инсульта, обусловленного гипертонической болезнью как ведущим фактором риска развития заболевания. Рассмотрены вопросы количественной оценки исходов у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, а также возможности коррекции показателей качества жизни в восстановительном периоде этой инвалидизирующей болезни.
Ишемический инсульт, качество жизни
Короткий адрес: https://sciup.org/147160041
IDR: 147160041 | УДК: 616.831-005.1 | DOI: 10.14529/psy160406
Текст научной статьи Современный взгляд на проблему качества жизни больных, перенесших ишемический инсульт
Инсульт является одной из ведущих причин инвалидности и занимает третье место среди причин смертности населения в развитых странах (Аретинский с соавт., 2014; Нам и др., 2013; Пизова, 2013; Numminen et al., 2016). Несмотря на огромное социальное и экономическое значение этой патологии, способы количественного измерения последствий инсульта до настоящего момента недостаточно разработаны. Особенно высокую значимость они приобретают при определении реабилитационного потенциала перенесших инсульт пациентов, при подборе реабилитационных мероприятий, оценке эффективности лекарственных препаратов и др.
Смертность от инсультов в мире в последнее время существенно снизилась и, как следствие, выживаемость больных в постинсультный период составляет около 85 % (Ко-сивцова, 2014). Такие результаты признано считать одним из десяти величайших достижений медицины ХХ столетия. Только в России насчитывается более 2 миллионов человек, перенесших инсульт и живущих с его последствиями.
В связи с успехами в лечении инсульта показатели выживаемости не могут в полной мере применяться для оценки эффективности лечебных мероприятий. Следует отметить, что улучшение показателей выживаемости и применение современных терапевтических подходов не всегда означают улучшение качества жизни, а иногда даже приводят к противоположным эффектам. Так, канадские исследователи J.G. Fodor, F.N. Leenen, E. Helis et P. Turton по результатам анализа медико-статистических дан- ных по провинции Онтарио за 1995–2006 гг. отметили достоверное и значимое ухудшение всех параметров качества жизни больных, перенесших церебральный инсульт (Fodor et al., 2008). С течением времени качество жизни больных не только не улучшается, но может приобретать тенденцию к ухудшению. Отмечаются высокий риск развития депрессивных расстройств, различные нарушения высших психических функций (прежде всего – нарушения когнитивного функционирования больных), нарастание спастичности в парализованных конечностях, развитие персистирующих нарушений глотания (Солонец, Ефремов, 2013). Ожидается, что связанная с инсультом стойкая нетрудоспособность станет более распространенным явлением, в связи с сохранением жизни больным с грубыми неврологическими расстройствами, возникшими вследствие этого тяжелого, инвалидизирующего заболевания (Portegies, 2016). Предполагается, что в ближайшие годы эта проблема будет становиться одной из наболее важных из числа стоящих сегодня перед научными исследователями, медицинскими работниками и органами управления здравоохранением (Пан-телеенко, 2010). Инвалидизация изменяет «качество жизни» больного и выдвигает перед ним новые проблемы, например, необходимость приспособления к дефекту, изменения профессии, поведения в семье и ряд других (Roche, 2016). В связи с этим проведение мероприятий, улучшающих качество жизни больных, наряду с разработкой методов его измерения и оценки, приобретает особую клиническую значимость.
Качество жизни – многогранное понятие, включающее в себя целый ряд физических и психологических параметров, прямо или косвенно характеризующих функциональные способности человека. Существует определение качества жизни, по версии ВОЗ, которое является слишком «общим», объемным, часто затрудняющим его использование врачами в повседневной практике: «Качество жизни есть индивидуальное восприятие своей позиции в жизни в контексте культурной среды и системы ценностей, в которой проживает индивид, в соответствии с его целями, ожиданиями, стандартами и воззрениями» (цит. по Новик, Ионова, 2007). Четкого и удовлетворяющего потребностям практики определения термина «качество жизни» до настоящего момента не существует. Это, с одной стороны, обуславливает и, с другой стороны, объясняется наличием вариативности в подходах к исследованию этого феномена и количественной оценке его параметров и компонентов (Шкалы, тесты и опросники…, 2002). Так, еще в 1995 году Hughes и соавт. опубликовали обзор литературы, в котором проанализировали 87 различных подходов к анализу качества жизни, базирующихся на 1243 индивидуальных параметрах. Систематизация в рамках проведенного метаанализа проводилась в отношении нескольких таксономических оснований: а) демографических переменных; б) типа исследования; в) методов оценки; г) психометрических свойств используемых оценок; д) общих характеристик измеряемых переменных и частоты их измерения (Hughes et al., 1995).
Следует отличать понятия качества жизни «вообще» и «связанное со здоровьем качество жизни» («Health-Related Quality of Life», HRQOL). Последнее было предложено J.W. Bush et al., (1982) и получило широкое распространение, так как подчеркивает связь между качеством жизни пациента и нарушениями, вызванными имеющейся у него болезнью, что дает возможность измерять HRQOL и использовать его как целевой параметр, особенно при реабилитации больных.
Для оценки результатов клинических исследований требуется разработка методов определения состояний, центральной точкой приложения которых является интегральный показатель качества жизни пациента (КЖ). Качество жизни применительно к состоянию здоровья обычно характеризуют как совокуп- ность физических, психологических и социальных аспектов жизни человека, на которые могут влиять изменения в состоянии здоровья (Пантелеенко, 2010). В любом случае, измерение качества жизни может рассматриваться с двух позиций:
– оценки общего интегрального показателя;
– определения специфических (узких) показателей, характеризующих отдельные функциональные характеристики пациента.
Вместе с тем, методы оценки качества жизни могут быть направлены на решение разных задач, например, задачи дискриминации (разделения групп пациентов в зависимости от степени тяжести нарушения их функционирования) или обсервационной задачи (наблюдения и отслеживания жизнедеятельности пациента с течением времени болезни).
Вне зависимости от характера и особенностей используемых методов измерения, к ним всем также предъявляются определенные стандартные требования, заданные, в частности, принципами Evidence-based medicine (ЕВМ, медицины, основанной на доказательствах). Среди таких требований прежде всего отмечаются специфичность и чувствительность измерительных методик. При этом результирующие показатели по данным методикам должны иметь клиническую значимость и быть удобными для оценки и анализа (Пизова, 2013; Шкалы, тесты и опросники…, 2002).
Снижение качества жизни у перенесших инсульт больных не вызывает сомнения и констатируется всеми исследовательскими коллективами. Однако методология измерения параметра или группы параметров, определяющих конкретные характеристики уровня снижения, и критериальная база их клинической оценки до настоящего времени достаточно слабо разработаны и поэтому представляют актуальную практическую задачу (Pérennou, Piscicelli, 2016).
Решение проблемы оценки показателей качества жизни при инсульте связано с наличием ряда объективных трудностей, в частности:
– дефектами методик, поскольку большинство имеющихся опросников и шкал охватывают далеко не все аспекты жизнедеятельности пациента;
– недостаточными релевантностью и валидностью инструментария, поскольку опросные стимулы могут хорошо соответствовать особенностям проявления какой-либо функции в целом, но могут не соотноситься со спецификой статуса того или иного пациента;
– трудностями обеспечения базовых операционных характеристик использующихся в рамках ЕВМ методов диагностики, например, общие показатели методик могут быть недостаточно специфичными (Sp, specificity) или чувствительными (Se, sensitivity), особенно если клиническая картина характеризуется стертой или слабо выраженной симптоматикой (Новик, Ионова, 2007).
Наиболее часто используемыми методами количественного измерения являются различного рода шкалы, построенные по типу опросников, позволяющие оценить функциональные последствия инсульта применительно к тем или иным функциональным характеристикам жизнедеятельности пациента. Так, широко используется определение индекса Бартела (Barthel Index), шкала SF-36 (Шкалы, тесты, опросники…, 2002), недостатком которых (наряду с их очевидными преимуществами) является неполный охват необходимых сторон функционирования пациента. В силу этого в ряде ситуаций такие методики могут давать нерелевантные результаты. Например, описываемые шкалы не включают оценку речевой функции. Как следствие, пациенты с выраженной афазией могут получить оценку, не соответствующую тяжести их состояния (Ермакова, 2008; Carod-Artal, 2009). Значительно реже применяются некоторые другие шкалы, которые, тем не менее, заслуживают отдельного упоминания, например, методики SIP («Sickness Impact Profile»), «EuroQOL», «Well-being Scale», «Nottingham health profile». Эти шкалы применяются при исследовании как больных с инсультом, так и с другими заболеваниями. Вместе с тем, существуют и более специфичные для этой нозологии методы (Шкалы, тесты и опросники…, 2002; Dayapoglu, Tan, 2010), например: «Niemi’s quality of life scale», «Viitanen life satisfaction interview», адаптированный для инсульта вариант SIP (30 вопросов) «Stroke Impact Scale, version 2.0», «Stroke and Aphasia QLS» (SAQLS-39), «Newcastle stroke-specific quality of life measure», «Stroke-Specific Quality of Life» (SS-QOL) и ряд других.
Наряду с явным преимуществом (прежде всего – большей специфичностью) эти шкалы реже применяются в практике в силу меньшего объема накопленного материала исследо- ваний по ним и, соответственно, меньшей базой контрольных (нормативных) значений для здоровой и клинической популяций. Общей проблемой всех опросников, как правило, является необходимость адекватного (при этом не обязательно лингвистически буквального) перевода и адаптации их стимульного материала, так как практически все они разработаны в англоязычных странах и, следовательно, ориентированы на соответствующую популяцию (Новик, Ионова, 2007).
В последние годы стал широко использоваться показатель отношения количества лет продленной жизни к ее качеству (Quality Adjusted Life Years, QALY). Такой показатель рассматривается в качестве универсальной количественной меры качества жизни и, одновременно, характеристики длительности предстоящей жизни (Tian et al., 2016). Применение показателя QALY основывается на простом предположении: каждый год предстоящей жизни учитывается как сомножитель показателя качества жизни. Например, если инсульт привел к снижению уровня качества жизни до 0,3 условных единиц и пациент прожил 6 лет после этого события, то 6 прожитых лет могут быть засчитаны «с поправкой на качество жизни» как 1,8 года (6 x 0,3 = 1,8). Если негативные последствия инсульта были терапевтически предотвращены и пациент прожил после события в течение 10 лет в полном здоровье и с соответствующим качеством жизни, то в терминах популяционного здоровья был достигнут эффект в размере 10 – 1,8 = 8,2 года.
Качество жизни для расчета показателей QALY обычно определяют одним из трех способов.
Первая группа способов включает различные методы прямой оценки состояния:
– прямая оценка качества жизни пациентом или его окружением по шкале размерностью от 0 до 1, где 0 – приравнивается к смерти, а 1 – к полному здоровью;
– использование визуальной аналоговой шкалы, где респондент должен отметить уровень качества жизни в единицах от 0 до 100 или поставить отметку на оси (в случае использования неградуированной шкалы).
Вторая группа методов основана на непрямой оценке состояния с помощью различных опросников, например, методик «Health Utilities Index», «Quality Well-Being Scale», «SF-36» и ряда других.
Наконец, третьим способом является метод экспертной оценки, при котором уровень качества жизни пациента определяется группой экспертов, оценки которых затем усредняются различными математическими методами.
Некоторые авторы используют порядковую шкалу тяжести инсульта Rankin, где значение «0» присваивается бессимптомному инсульту, а значение «6» – смертельному поражению (Tengs et al., 2001). Поскольку эта шкала является порядковой, она позволила вышеупомянутым авторам рассчитать коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Spearman rank correlation coefficient) между тяжестью состояния и уровнем качества жизни, величина которого указывает на наличие достаточно сильной зависимости между переменными (rs=0,72). Доказано также наличие обратной взаимосвязи между показателями по шкале Rankin и результатами исследования по SF-36, при этом Diaz-Tapia V. et al. (2008) отметили, что наихудшие показатели качества жизни были выявлены у пациентов, перенесших обширные инсульты в бассейне передней мозговой артерии, а также при наличии патологии эмболической этиологии. Отрицательно влияющими на качество жизни факторами являются депрессия и большой объем потери серого вещества подкорковых ядер (Irimia, Van Horn, 2014).
Делались также попытки проанализировать качество жизни в связи с важными социальными параметрами. Например, N. Daya-poglu et M. Tan (2010) по итогам изучения выборки 70 пациентов установили, что качество жизни в постинсультный период у мужчин достоверно выше, чем у женщин. Более высокие показатели наблюдались у пациентов с высоким образовательным цензом, у работающих, у проживающих в городах, что вполне логично объясняется большим развитием у них стратегии копинга, наличием и качеством медицинской страховки, большей доступностью медицинской помощи. Наконец, играют роль также некоторые другие факторы, как, например, уровень образования лица, непосредственно ухаживающего за больным. Вероятно, что люди с медицинским образованием более глубоко понимают потребности пациента и могут более эффективно использовать доступные им медицинские и социальные ресурсы, а также способны обеспечить оптимальную среду для проведения реабилитационных мероприятий (Dayapoglu et Tan, 2010).
Играет роль и локализация патологического процесса: правополушарные инсульты, как правило, оказывают меньшее влияние на качество жизни в последующий период, что обусловлено в большей степени сохранной функцией ведущей правой руки (Ермакова, 2008). В то же время сведения о влиянии локализации ишемического очага на качество жизни малочисленны и не позволяют сделать однозначного вывода.
Сравнительно мало информации имеется также и о долгосрочном влиянии перенесенного инсульта на качество жизни. Так, M.S. Dhamoon et al. (2010) приводят результаты длительного наблюдения группы больных после первого ишемического инсульта. Оценка результатов проводилась с помощью опросника Spitzer QLI, ориентированного на определение 5 аспектов жизнедеятельности: «активность», «обычные повседневные действия», «здоровье», «нуждаемость в помощи», «ощущение окружающей обстановки». Результат представляется оценками по 10балльной шкале. В исследовании использовали расчет индекса Бартела и обследование по шкале MMSE как показателей общего функционального состояния и психического функционирования. В качестве контрольных дат были выбраны временные точки, отдаленные с момента инсульта на 6 месяцев, 1 год, 1,5 года и далее – ежегодно в течение 5 лет. Было показано, что независимо от тяжести состояния и наличия осложнений инсульта, качество жизни постоянно и стабильно снижается, в среднем на 0,1 балла в год. Однако наиболее интересный вывод, сделанный Dhamoon et al., заключается в том, что снижение качества жизни наблюдалось только среди пациентов, имеющих государственную страховку Medicaid или, наоборот, вообще не имеющих таковой. В группе же пациентов, имеющих частную страховку, качество жизни не снижалось, что указывает на значимость доступности реабилитационных услуг как фактора качества жизни.
Отмечается акцентирование внимания исследователей на необходимость отдельного рассмотрения связи между постинсультной депрессией и качеством жизни (Kelly-Hayes, 2010). В краткосрочных срезовых исследованиях в течение года (тестирование пациентов проводилось на сроках 3, 6 и 12 месяцев после перенесенного инсульта) улучшение было незначительным и нестабильным. В качестве метода оценки E.J. Jonkman, A.W. de Weerd, N.L. Vrijens (1998) использовали опросник SIP («Sickness Impact Profile») в адаптированной для исследования больных с инсультом версии SA-SIP30. Кроме того, для измерения когнитивного статуса пациентов применялся тест Векслера («Wechsler Adult Intelligence Scale»). Наиболее важными факторами, отрицательно влияющими на качество жизни, оказались депрессия и степень выраженности парезов. По данным I.H. Suenkeler, М. Howak, В. Misselwitz et al. (2002), интегральный психический компонент теста SF-36, а также показатели PF и SF достоверно снижались в период 6–12 месяцев с момента заболевания на фоне практически полного отсутствия их взаимосвязи с неврологическим статусом пациентов. Благоприятное влияние на качество жизни оказывают отсутствие сахарного диабета и депрессии, а также принадлежность к мужскому полу. При этом гендерные различия наблюдаются в показателях как физического, так и психологического компонентов качества жизни, например, для женщин оказалась характерной более высокая степень тревожности (Солонец, Ефремов, 2013).
Норвежские исследователи О.М. Ronning et K. Stavem (2008), напротив, указывают на то, что у пациентов старше 60 лет в период от 1 до 6 месяцев с момента возникновения инсульта компоненты PCS и MCS прогрессивно улучшаются. Ими были выявлены следующие прогностические предпосылки: у больных с более высокими значениями PCS и MCS на сроке 1 месяц после инсульта было значительно меньше шансов продемонстрировать вероятность хорошего улучшения своего состояния (обеспечить попадание, как минимум, в верхний квартиль результатов выборки) на более поздних сроках восстановления.
Лонгитюдные исследования характера также достаточно редки. Коллектив австралийских исследователей S.L. Paul et al. (2005) приводит собственные результаты по наблюдению группы больных в течение 5 лет. Показатель качества жизни у 23 % больных находится при этом на крайне низком уровне: ниже 0,1. Наилучшие показатели обнаруживаются у пациентов мужского пола, обладающих более высокой степенью независимости в повседневной жизни. Аналогичного рода данные приводят и J.H. Pan et al. (2008).
Опубликованы интегральные исследования, в которых авторы делали попытку свя- зать качество жизни с множеством параметров (в частности, с возрастом, полом, степенью ограничения подвижности, расой и этносом, наличием сопутствующей патологии, сохранностью функции руки). Наличие подтвержденных взаимосвязей указывает на необходимость принимать эти параметры в расчет при разработке индивидуальной программы реабилитации пациента с самого начала заболевания (Аретинский с соавт., 2014; Пан-телеенко, 2010; Kelly-Hayes, 2010; Nichols-Larsen et al., 2005).
Определяющие факторы качества жизни не являются фиксированными и в разные моменты после инсульта отличаются. Так, на сроке 1 год низкие значения физического компонента здоровья могут быть ассоциированы с женским полом больных, наличием сахарного диабета, правополушарной локализацией очага, наличием когнитивных расстройств (Ермакова, 2008; Пантелеенко, 2010). Через 3 года после инсульта плохое физическое состояние ассоциируется с гипертензией, наличием когнитивных расстройств, недержанием мочи. При этом возраст старше 75 лет является фактором более низкого физического здоровья пациентов после перенесенного инсульта (Kelly-Hayes, 2010).
Вопрос коррекции качества жизни, на первый взгляд, кажется очевидным: адекватное лечение должно приводить к повышению (или, по крайней мере, к препятствованию снижения) уровня жизни. Из-за тяжести состояния пациентов часто имеются ограничения по спектру возможных клинических испытаний и исследований. Вероятно, именно поэтому влияние конкретных методов реабилитации и лечения на последующее качество жизни пациентов мало систематизировано.
Проводимое с момента поступления лечение достаточно стандартизовано и оставляет мало возможностей для вариации. Однако имеются различия между пациентами, проходившими курс лечения в обычном отделении неврологического профиля и в специализированном отделении ОНМК. Пациенты специализированных подразделений имели более высокие значения индекса Бартела, лучшие показатели качества жизни, более высокую повседневную активность, что объясняется наличием в таких отделениях более высокого уровня психологической помощи и ухода, проведением обучения членов семьи, осуществляющих впоследствии уход за больным, наличием индивидуального подхода к ведению пациента (Пизова, 2013; Pérennou, Piscicelli, 2016).
Фармакологическая терапия также способна влиять на качество жизни. Назначение препаратов с первых дней заболевания, которое проводится клиническим фармакологом совместно с лечащим неврологом с информированием пациента и родственников о возможных побочных эффектах и последствиях взаимодействия препаратов, подкрепленное визитами лечащего врача к пациенту на дом и коррекцией лечения, приводит к стабилизации показателей. В то же время при стандартном «схемном» подходе к терапии пациентов с инсультом качество их жизни прогрессивно снижается. Такой подход называется «интенсивной фармакотерапией» (Нам с соавт., 2013). Несомненно, эффект связан не только с более качественным лечением основной патологии, но и терапией некоторых заболеваний, также играющих ключевую роль в определении качества жизни: артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперлипидемия.
Таким образом, анализ качества жизни и количественная оценка исходов заболевания у больных в остром и восстановительном периодах ишемического инсульта представляют большой интерес для изучения. Весьма актуальным, на наш взгляд, является оценка эффективности сочетания лечения антидепрессантом в купировании тревожно-депрессивных расстройств, проводимая лечащим врачом и самим пациентом. Представляется важной разработка индивидуальной программы реабилитации для пациентов на различных ее этапах, в т.ч. на амбулаторном этапе, в повышении качества жизни у пациентов в восстановительном периоде ишемического инсульта.
Изучение проблемы качества жизни после инсульта позволит также обеспечить преемственность ведения пациента при переводе его на следующий этап реабилитации, повысить эффективность дальнейшего амбулаторного наблюдения больного специалистами различного профиля (семейными врачами, неврологами, реабилитологами, врачами других специальностей), возможность внедрения новых лечебных программ и оценки их результативности самим больным. Возможность прогнозирования степени восстановления утраченных функций и определение реабилитационного потенциала пациентов может повысить эффективность реабилитации и улучшить исходы заболевания.
Список литературы Современный взгляд на проблему качества жизни больных, перенесших ишемический инсульт
- Аретинский, В.Б. Восстановление двигательной функции кисти у больных с инсультом с использованием системы «HAND TUTOR»/В.Б. Аретинский, Е.В.Телегина, Л.И. Волкова//Уральский медицинский журнал. -2014. -№ 9 (123). -С. 46-49.
- Ермакова, Н.Г. Особенности личности больных с последствиями инсульта в условиях стационарной реабилитации/Н.Г. Ермакова//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Психология. -2008. -№ 68. -С. 32-42.
- Косивцова, О.В. Ведение пациентов в восстановительном периоде инсульта/О.В. Косивцова//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. -2014. -№ 4. -С. 101-105.
- Нам, Г.С. Летальность в отдаленном периоде у пациентов с инсультом неизвестной этиологии/Г.С. Нам, Г.К. Ким, И.Д. Ким//Журнал Национальной ассоциации по борьбе с инсультом/Stroke/Российское издание. -2013. -№ 1 (29). -С. 21-31.
- Новик, А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине/А.А. Новик, Т.И. Ионова; под ред. акад. РАМН Ю.Л. Шевченко. -2-е изд. -М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. -314 с.
- Пантелеенко, Л.В. Качество жизни на протяжении года после ишемического инсульта/Л.В. Пантелеенко//Украинский неврологический журнал. -2010.-№ 3 (16). -С. 73-79.
- Пизова, Н.В. Амбулаторное ведение больных после тяжелого инсульта с деменцией/Н.В. Пизова//Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. -2013. -№ 4. -С. 78-83.
- Солонец, И.Л. Качество жизни как предиктор эффективности реабилитационных мероприятий постинсультных больных/И.Л. Солонец, В.В. Ефремов//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 12-1. -С. 76-80.
- Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации/под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. -М.: Антидор, 2002. -440 с.
- Bush, J.W. "Counterintuitive" preferences in health-related quality-of-life measurement/J.W. Bush, J.P. Anderson, R.M. Kaplan, W.R. Blischke//Med Care. -1982. -May; 20(5) -P. 516-525.
- Carod-Artal, F.J. Quality of life after stroke: the importance of a good recovery/F.J. Carod-Artal, J.A. Egido//Cerebrovasc Dis. -2009. -27 Suppl 1. -P. 204-214.
- Dayapoglu, N. Quality of life in stroke patients/N. Dayapoglu, M. Tan//Neurol. India. -2010. -58(5). -P. 697-701.
- Dhamoon, M.S. Quality of life declines after first ischemic stroke: The Northern Manhattan Study/M.S. Dhamoon, Y.P. Moon, M.C. Paik et al.//Neurology. -2010. -75(4). -P. 328-334.
- Díaz-Tapia, V. Study on the quality of life in patients with ischaemic stroke/V. Díaz-Tapia, J. Gana, M. Sobarzo et al.//Rev Neurol. -2008. -46(11). -P. 652-5.
- Fodor, J.G. Ontario Survey on the Prevalence and Control of Hypertension (ON-BP): rationale and design of a community-based cross-sectional survey/J.G. Fodor, F.H. Leenen, E. Helis, P. Turton//Can. J. Cardiol. -2008. -Jun. 24(6). -P. 503-505.
- Irimia, A. Systematic network lesioning reveals the core white matter scaffold of the human brain/A. Irimia, J.D. Van Horn//Front Hum Neurosci. -2014. -Feb 11; 8. -51.
- Hughes, C. Quality of life in applied research: a review and analysis of empirical measures/С. Hughes, B. Hwang, J.H. Kim et al.//Am. J. Ment Retard. -1995. -May; 99(6). -623-641.
- Jonkman, E.J. Quality of life after a first ischemic stroke. Long-term developments and correlations with changes in neurological deficit, mood and cognitive impairment/E.J. Jonkman, A.W. de Weerd, N.L. Vrijens//Acta Neurol Scand. -1998. -Sep; 98(3). -P. 169-175.
- Kelly-Hayes, M. Influence of age and health behaviors on stroke risk: lessons from longitudinal studies/M. Kelly-Hayes//J. Am. Geriatr. Soc. -2010. -Oct; 58 Suppl. 2. -S. 325-328.
- Nichols-Larsen, D.S. Factors influencing Stroke survivors' quality of life during subacute recovery/D.S. Nichols-Larsen, P.C. Clark, A. Zerin¬gue et al.//Stroke. -2005. -Jul.; 36(7). -P. 1480-4.
- Numminen, S. Factors Influencing Quality of Life Six Months after a First-Ever Ischemic Stroke: Focus on Thrombolyzed Patients/S. Numminen, A.M. Korpijaakko-Huuhka, A.K. Parkkila et al.//Folia Phoniatr Logop. -2016. -Sep 30; 68(2). -P. 86-91.
- Pan, J.H. Longitudinal analysis of quality of life for Stroke survivors using latent curve models./J.H. Pan, X.Y. Song, S.Y. Lee, T. Kwok//Stroke. -2008. -Oct;39(10). -2795-2802. DOI: 10.1161/StrokeAHA.108.515460
- Paul, S.L. Long-term outcome in the North East Melbourne Stroke Incidence Study: predictors of quality of life at 5 years after Stroke/S.L. Paul, J.W. Sturm, H.M. Dewey et al.//Stroke. -2005. -Oct; 36(10). -P. 2082-6.
- Pérennou, D. Visual verticality perception after stroke: A systematic review of methodological approaches and suggestions for standardization/D. Pérennou, C. Piscicelli//Ann Phys Rehabil Med. -2016. -Sep; 59S:e68.
- Portegies, M.L. Cerebrovascular disease/M.L. Portegies, P.J. Koudstaal, M.A. Ikram//Handb Clin Neurol. -2016. -138. -P. 239-261.
- Roche, N. Auto-rehabilitation at home for stroke patients/N. Roche//Ann Phys Rehabil Med. -2016. -Sep; 59S. -e38.
- Ronning, O.M. Determinants of change in quality of life from 1 to 6 months following acute stroke/O.M. Ronning, K. Stavem//Cerebrovascular Diseases. -2008. -25(1-2). -P. 67-73.
- Suenkeler, I.H. Timecourse of health-related quality of life as determined 3, 6 and 12 months after stroke. Relationship to neurological deficit, disability and depression/I.H. Suenkeler, M. Nowak, B.Misselwitz et al.//J. Neurol. -2002. -Sep; 249(9). -P. 1160-7.
- Tengs, T.O. Health-related quality of life after Stroke: a comprehensive review/T.O. Tengs, Yu M, E. Luistro//Stroke. -2001. -32. -P. 964-971.
- Tian, Y. Linked Sensitivity Analysis, Calibration, and Uncertainty Analysis Using a System Dynamics Model for Stroke Comparative Effectiveness Research/Y. Tian, K. Hassmiller Lich, N.D. Osgood et al.//Med Decis Making. -2016. -Nov; 36(8). -P. 1043-1057.