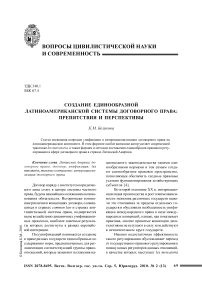Создание единообразной латиноамериканской системы договорного права: препятствия и перспективы
Автор: Беликова К.М.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Вопросы цивилистической науки и современность
Статья в выпуске: 2 (13), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам унификации и интернационализации договорного права на латиноамериканском континенте. В этом формате особое внимание автор уделяет современной трактовке lex mercatoria, а также формам и методам достижения единообразия правового регу- лирования в сфере договорного права в странах Латинской Америки.
Латинская америка, договорное право, договор, унификация, типовые контракты, интернациона- лизация договорного права
Короткий адрес: https://sciup.org/14972733
IDR: 14972733 | УДК: 340.1
Текст научной статьи Создание единообразной латиноамериканской системы договорного права: препятствия и перспективы
Договор наряду с институтом юридического лица стоит в центре системы частного права, будучи важнейшим основанием возникновения обязательств. Исторически возникшие различия в концепциях договора, сложившихся в странах common law и странах континентальной системы права, подвергаются ныне воздействию динамичных унификацион-ных процессов, наиболее заметные результаты которых достигнуты в рамках европейской интеграции.
Под унификацией понимается создание в праве разных государств единообразных по содержанию норм, предназначенных для регламентации соответствующей группы правоотношений, которые заменяют положения на- ционального законодательства такими единообразными нормами и тем самым создают единообразное правовое пространство, позволяющее обеспечить сходные правовые условия функционирования хозяйствующих субъектов [4].
Во второй половине XX в. интернационализация производства и рост взаимозависимости экономик различных государств вывели эти отношения за пределы отдельных государств и обусловили необходимость унификации международного права в виде международных конвенций, однако, как показывает практика, многие принятые конвенции десятилетиями не вступают в силу или действуют в незначительном круге государств.
Именно недостаточная эффективность такого регулирования обусловливает переход от государственно-правового регулирования к поиску новых регуляторов данных отношений, в качестве которых выступает lex mercatoria
(транснациональное торговое право) в его современном понимании – в виде объединения торговых обычаев в своды, не являющиеся юридическими документами, общепринятых правовых норм – в виде так называемого «мягкого права» ( soft law ) 1.
Понятие lex mercatoria (право торговли) не новое в международной торговой практике. Оно было известно как право торговцев, представляющее свод универсальных, сложившихся на практике и применяемых повсеместно правил, не связанных с государствами. По мере развития национального права эти правила были по-разному восприняты национальными правовыми системами, что привело к формированию больших различий. Развитие международной торговли во второй половине XX в. возродило интерес к lex mercatoria на основе: социологической теории Ж. Селля, полагавшего, что отдельные группы внутри общества создают собственные юридические правила, поэтому международное сообщество коммерсантов также стремится создать юридические правила для организации деятельности своей общности и заключаемых ими сделок; теории правового плюрализма Р. Санти, согласно которой правовые системы не являются монолитными, а представляют собой сосуществующие системы и подсистемы; теории естественного права, нашедшей отражение в публикациях Б. Гольдмана. Первоначально он (Гольдман) пояснял теорию lех mercatoria как «спонтанное право», создаваемое участниками международных коммерческих отношений, представляющими из себя предприятия, заключающие контракты, в которых встречаются интересы международной коммерции, частных организаций, осуществляющих торговлю, а также международного коммерческого арбитража. По мнению К. Бергера, lex mercatoria представляет третью правовую систему, отличную и от международного публичного, и от национального права. Е. Ланген относил транснациональное право торговли к рабочему методу формулирования правил поведения, а не к новому правовому порядку. Г. Берман и Ф. Дассер рассматривали lex mercatoria как собрание обычного международного или транснационального права торговли, в котором обобщены все национальные правовые сис- темы, подлежащие применению к международной купле-продаже, и обращение к которому необходимо, когда национальное право содержит правило, противоречащее международному коммерческому обычаю.
В начале 1964 г. Шлезингер и Гундлих высказали идею, что традиционные международные коммерческие контракты, содержащие арбитражную оговорку, при отсутствии выбора сторонами применимого права должны подпадать под общие принципы права, а не под нормы и принципы какой-либо национальной юридической системы.
Позже, с тем чтобы не применять законодательство развивающихся стран в случае, когда такое право оказывалось применимым к договору, в западной теории международного частного права было разработано понятие договоров, заключаемых с целью государственного развития, и доктрина о том, что такие договоры не подпадают под нормы права какого-либо конкретного государства, а подлежат регулированию особой системой правил, не имеющих связи с национальными системами права, в виде международного торгового права как третьей правовой системы, занимающей место между международным публичным и внутринациональным правом; свода новых правил и принципов квази-правового характера, не привязанных к какой-либо национальной системе права.
По мнению К. Хайгет, эти правила включают функциональный эквивалент миниатюрной добровольной правовой системы и предназначены для разрешения споров между частными инвесторами и государствами. В таких контрактах в разделе о применимом праве использовались нетрадиционные отсылки к принципам международного публичного права, общим принципам права, общим принципам, разделяемым всеми, одной или несколькими национальными или региональными системами, ссылки на обычаи и обыкновения международной торговли, транснациональное коммерческое право, или lex mercatoria.
О. Ландо считает, что вместо согласования сторонами международного коммерческого контракта применимого права они могут подчинить его обычаям международной торговли, правилам права, общим для всех или большинства государств, вовлеченных в меж- дународную торговлю, или правилам права государства, связанного со спором. Если такие общие правила права не могут быть определены, арбитр применяет правило или избирает решение, которое представляется ему справедливым и наиболее подходящим. Именно такой процесс вынесения решения, являющийся частично применением юридических норм и частично представляющий селективный и творческий процесс, именуется lex mercatoria в современном понимании [5; 6; 17].
В сложившейся ситуации западные участники международных коммерческих контрактов, международные арбитры и доктрина полагают, что право не является фактором обеспечения надежности и безопасности урегулирования соответствующих отношений, а многообразие правовых систем порождает неуверенность и обусловливает поиск новых средств регулирования в направлении выработки механизмов отделения правового регулирования от национального права. В Европейском союзе подобная потребность обусловлена необходимостью создания единого правового режима на территории внутреннего рынка. То обстоятельство, что в странах Европейского союза национальные системы договорного права обладают заметными различиями, не препятствует утверждению тенденции к созданию единообразной европейской системы договорного права ввиду недостаточности (фрагментарности, рассогласованности) регулирования в сфере договорного права посредством директив, поскольку последние не содержат общих принципов регулирования [9; 11; 18].
Наиболее ярким результатом, отражающим эту тенденцию, выступают разработанные Комиссией по европейскому договорному праву «Принципы Европейского договорного права» [24]. Они преодолевают «недостатки» международных конвенций – обязательный характер документов и фрагментарность, являются механизмом отделения правового регулирования договорных отношений от национального права и устанавливают общие нормы европейского договорного права. Именно поэтому статья 1 Принципов указывает, что они предназначены для применения в качестве общих правил договорного права Европейского союза и что они применимы в случае, если стороны согласились урегулировать договор «общими принципами права», «lex mercatoria» или подобными нормами, либо не избрали какую-либо систему или правила законодательства для урегулирования их договора [7]. Несколько иным результатом не регионального, но международного уровня являются «Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА» [1].
Что касается латиноамериканских стран, то в литературе отмечается [15], что их законодательство располагает единым ядром, которое, безусловно, не является чем-то инородным инициативам по унификации частноправового регулирования в сфере обязательственного права, осуществляемым на международном уровне посредством, например, Венской конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 г., ратифицированной к настоящему моменту Аргентиной, Мексикой, Чили и Эквадором; Принципов международных коммерческих контрактов УНИДРУА 2 и др. Применительно к последним отметим, что основные принципы, закрепляемые этим сводом предписаний, гармонируют с положениями, закрепляемыми национальными правопо-рядками Аргентины (действующий ГК), Парагвая (действующий ГК), Мексики (действующий ГК Федерального округа) в сфере регулирования обязательственных отношений. Так, принцип автономии воли закрепляется в ст. 1.3 Принципов УНИДРУА, ст. 1168 ГК Аргентины, ст. 669 ГК Парагвая, ст. 1839 ГК Мексики; обязательная сила договора в свете действия принципа pacta sunt servanda – в ст. 2.1, 2.11, 2.12 Принципов УНИДРУА, ст. 715 ГК Парагвая, ст. 1796 ГК Мексики; преобладание норм публичного порядка над волей частных лиц – в ст. 1.5 Принципов УНИДРУА, ст. 21 ГК Аргентины, ст. 669 ГК Парагвая, ст. 6 ГК Мексики.
Достижения в сфере гармонизации и частичной унификации частного права в Латинской Америке объясняются исследователями [15] некоторой однородностью обычаев, схожестью затруднений экономического, социального и политического плана и, безусловно, общими правовыми корнями. По этим причинам недостатка в инициативах в пользу унификации права на южноамериканском континенте не было, начиная с Конгресса в Панаме в 1826 г., созванного С. Боливаром [10], до проводимых с 1975 г. по настоящее время специализированных межамериканских конференций по частному праву (Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado – CIDIPs), которые зародились в рамках Организации американских государств. Однако эти инициативы касались вопросов унификации коллизионных норм в странах Латинской Америки [2]; защиты прав человека [22] и др.
Важным стимулом и предпосылкой унификации и гармонизации права вообще и частного права в особенности выступают интеграционные объединения регионального уровня на южноамериканском континенте: интеграция рассматривается не только как насущная необходимость, но и как неизбежная реальность нашей жизни. «Само движение истории ведет нас к выработке и восприятию форм политической и экономической региональной и континентальной интеграции», – говорит В.О. Пас [21]. Некоторые правоведы [19] полагают в этой связи, что региональная интеграция является, безусловно, необходимым шагом на пути более интенсивной унификации права.
Вместе с тем о единообразном, «коммунитарном» латиноамериканском праве, базирующемся на наднациональных предписаниях в сфере гражданского и торгового права, напрямую применяемых национальными судами, говорить можно будет еще не скоро. На вопрос о том, по какой причине это невозможно, а равно почему не подходящи для стран региона в плане унификации частноправового регулирования многочисленные проекты единообразных «модельных», «типовых» законов и кодексов, а также альтернативные средства и способы, рассматриваемые латиноамериканскими правоведами, такие как lex mercatoria; доктрина; типовые контракты и частные кодификации судебных решений, аналогичные североамериканским Restatements of the law, пытались найти ответ правоведы на семинаре «Альтернативы унификации права посредством законодательства» [14]. Так, lex mercatoria в его современном понимании – в виде объединения торговых обычаев в своды, не являющиеся юридическими документами, общепринятых правовых норм – в виде так называемого «мягкого права» (soft law) недостает фиксированности, закрепленности, постоянства, устойчивости, отличающей правовые нормы. Ведь по сути эти предписания не носят нормативный (обязательный) характер.
Типовые контракты (contratos tipo, contratos uniformes), безусловно, способствуют упрощению процедуры заключения однотипных договоров и сокращению времени, затрачиваемого на переговоры; дают предпринимателям возможность создавать удобные им при заключении конкретной сделки специфические правила на основе соблюдения действующих правовых предписаний и с целью уменьшения рисков в процессе передачи товаров (оказания услуг); облегчают заключение договоров для потребителей, которые не всегда обладают достаточным для этого уровнем правовых знаний, но одновременно зачастую содержат несправедливые, злоупотребительные, невыгодные для контрагента условия [8].
Равным образом и доктрина – ненадлежащий путь к достижению унификации права, поскольку в вопросе правоприменения большое значение имеет судейское усмотрение: судья зачастую желает применять право, с которым он знаком, то есть свое национальное право. Кроме того, лишь в немногих латиноамериканских странах суды и иные правоприменительные органы публикуют принимаемые решения в полном объеме и регулярно. Даже будучи опубликованными, эти решения, с учетом стиля их изложения и ввиду отсутствия их анализа, не позволяют в большинстве случаев использовать их в качестве руководств, задающих полезные параметры для выбора направления толкования единообразных текстов.
Что касается предписаний, аналогичных Restatements, то последние, как отмечается, за более чем 70-летний период существования и действия так и не унифицировали североамериканское право.
Одновременно препятствием служит и юридико-культурная, политическая и экономическая реальность. Так, хотя экономическая интеграция и осознается как потребность, уязвимой ее делает зависимость принимаемых решений от политической воли руководства стран-участниц того или иного экономического блока, и от объективной ситуации как в регионе, так и в мире, обусловливаемой экономическими кризисами, спадами и подъемами экономического роста и др. Вместе с тем это создает определенные трудности: недостаточно развитая транспортная инфраструктура и система иных коммуникаций; информационная изолированность, в том числе латиноамериканских юристов, выражающаяся в более глубоком знании положений французской, немецкой, итальянской или североамериканской доктрины по тому или иному вопросу, нежели решения этих вопросов правопорядками соседних с ними стран того же региона. Следствием является принятие законодательства исключительно «в научных целях» без учета его необходимости, практической применимости и экономической эффективности при большом удельном весе судейского усмотрения при толковании в процессе отправления правосудия его положений [16]. Следует отметить в этой связи, что некоторые из этих проблем не являются присущими только странам латиноамериканского региона. Препятствия существуют также и в подходах, отражаемых с позиций «Север – Юг» («Norte – Sur») в вопросах регулирования и охраны окружающей среды, передачи технологий и др. С учетом изложенного наиболее приемлемым вариантом наряду с интенсификацией региональной интеграции латиноамериканским правоведам видится более интенсивное участие латиноамериканских стран на международных форумах, подготавливающих международные конвенции, договоры и соглашения относительно перемещения товаров и услуг, оправдывавшие себя ранее [13].
Иными словами, применительно к латиноамериканским странам можно говорить не столько об унификации правового регулирования договоров, сколько об интернационализации договорного права, подразумевающей сближение нормативного содержания договорного права различных стран, используемого понятийного аппарата и пр., тенденции, представляющей собой юридическое отражение процесса усиления взаимосвязи и взаимозависимости между странами в современный период.