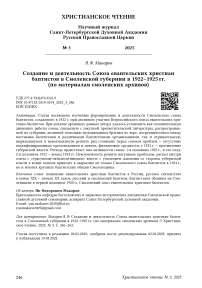Создание и деятельность Союза евангельских христиан баптистов в Смоленской губернии в 1922–1925 гг. (по материалам смоленских архивов)
Автор: Макаров Я.Ф.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению формирования и деятельности Смоленского союза баптистов, созданного в 1922 г. при активном участии Всероссийского союза евангельских христиан баптистов. При анализе архивных данных автору удалось установить как положительную динамику работы союза, связанную с закупкой просветительской литературы, распространяемой по губернии, активной помощью нуждающимся братьям по вере, посредничеством между местными баптистами и различными баптистскими организациями, так и отрицательную, выражавшуюся в невозможности решить ряд стоявших перед союзом проблем — отсутствие квалифицированных проповедников и певчих, финансовые трудности, с 1923 г. — противление губернской власти. Отсюда проистекает пик активности союза: 1‑я половина 1923 г., и его спад: 2‑я половина 1923 — конец 1924 гг. Невозможность решить насущные проблемы, раскол внутри союза с «трясунамипятидесятниками» вместе с усилением давления со стороны губернской власти в конце концов приведет к закрытию не только Смоленского союза баптистов в 1924 г., но и многих крупных баптистских общин Смоленщины.
Появление евангельских христиан баптистов в России, русское сектантство в конце XIX — начале XX веков, русский и смоленский баптизм, баптистские общины на Смоленщине в первой половине 1920‑х, Смоленский союз евангельских христиан баптистов
Короткий адрес: https://sciup.org/140312306
IDR: 140312306 | УДК: 277.4-784(470.332)-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_246
Текст научной статьи Создание и деятельность Союза евангельских христиан баптистов в Смоленской губернии в 1922–1925 гг. (по материалам смоленских архивов)
Начиная с кон. XIX — нач. XX вв. баптистские церкви ввиду определенных притеснений и относительной малочисленности по сравнению с ведущими конфессиями России старались объединяться в «районы» и «союзы». Такие объединения решали множество общинных проблем на местах. Нехватка пастырей и литературы, отсутствие возможности открыть курсы или организовать достойное обучение подрастающего поколения делали такие добровольческие формирования незаменимым инструментом для взаимопомощи, а главное — для развития баптистского движения в целом. Вследствие этого процесса происходил довольно мягкий переход от традиции независимости, конгрегационализма к более упорядоченным идеалам пресвитерианства, который, впрочем, так и не завершился. Движение это особо набирало силу в 1920-1930-е гг. и выражалось как в ряде постановлений Всероссийского союза Евангельских христиан баптистов (ЕХБ), так и в некотором отклике в провинции [Отчет Всероссийского съезда ЕХБ, 1920, 10–11].
Степень разработанности проблемы. Изучение баптистской церкви и созданных ею организаций в 1-й четв. XX в. нашло свое отражение в отечественных работах кон. 20-х и 1-й пол. 30-х гг. и вплоть до развала Советского Союза вызывало живой интерес исследователей. К таким трудам можно отнести работы В. Д. Бонч-Бруевича, Ф. Путинцева [Путинцев, 1928, 131; Путинцев, 1931, 15], И. Я. Элиашевича [Элиашевич, 1928, 73; Элиашевич, 1930, 80], Б. Тихомирова [Тихомиров, 1929, 30], Л. Н. Митрохина [Митрохин, 1966, 262], А. И. Клибанова [Клибанов, 1965, 348; Клибанов, 1974, 257, 263], З. В. Калиничевой [Калиничева, 1972, 141] и др.
Начиная со 2-й пол. 80-х гг. XX в. и вплоть до нач. XXI в. были доступны ранее закрытые государственные архивы, открывались новые источники для научного анализа, что способствовало росту интереса к изучению баптизма. Среди научных работ этого периода можно выделить труды Л. Н. Митрохина, М. Ю. Крапивина, А. Я. Лейкина, А. Г. Далгатова, Т. К. Никольской, Д. Эткинда, С. А. Исаева (введшего термин «баптистская реформация») и др. Знаковым является и появление внутриконфессио-нальных работ представителей самого баптизма, получивших возможность собрать архивные данные и по-новому взглянуть на историю своей церкви [ИЕХБ, 1989, 619; Савинский, 1999, 424].
Отдельный пласт исследователей, преимущественно в 1-й четв. XXI в., отошел от изучения «общероссийского» движения баптизма в сторону региональных исследований, открывающих специфику баптистской истории в отдельных городах и целых районах [Ярыгин, 2004; Нечаев, 2010; Руденко, 2014; Кривицкий, 2023; Руфин, 2019; Белкин, 2007; Корнилов, Погасий, 2007].
Изучение истории сектантства в Смоленской губернии представлено работами А. Ф. Гавриленкова, который исследует различные сектантские толки Смоленщины до 1917 г. Баптизм в исследованиях данного ученого рассматривается как составная часть общего движения сектантов в губернии, экскурсы его имеют обзорный характер, затрагивая появление баптизма и его развитие на первых стадиях [Гавриленков, 2007; Гавриленков, 2018, 172; Гавриленков, 2019; Гавриленков, 2021]. Помимо работ Гавриленкова, существует ряд трудов, посвященных истории Смоленской епархии Русской Православной Церкви, которая в своей миссионерско-просветительской деятельности соприкасалась с сектантством [Каиль, 2009; Ивочкин, 2024, 462]. На данный момент не существует работ, посвященных изучению Смоленского союза баптистов и вообще баптизма Смоленщины в конце 1-й четв. XX в., что и определяет актуальность избранной темы.
В Смоленской губернии до 1922 г. существовал губернский союз ЕХБ. Документов его не сохранилось, за исключением нескольких упоминаний в более поздних протоколах Смоленской общины. Это может свидетельствовать как о кратковременности существовавшего союза, так и о незначительности его влияния на судьбы губернского баптизма (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 23). При учете специфики жизни баптистов в регионе и анализе последующих проблем можно предположить, что развал организации был связан в первую очередь с независимостью каждой отдельной церкви.
Местные общины, привыкшие решать свои внутренние проблемы исключительно своими силами или при посредничестве соседей, были не всегда готовы делиться своей свободой, ресурсами и участвовать в жизни тех братьев по вере, кто не являлся соседями по району, селу или городу и не мог в свою очередь оказать ответной услуги. Получалось так, что пока союз был выгоден и не противоречил чаяниям конкретной общины, в его жизни участвовали, но когда намечалось откровенное противоречие на местах, требовавшее отдачи или перераспределения необходимых сил, общины либо не исполняли предписаний союза, либо выходили из него вовсе. Подобные тенденции станут типичными не только для Смоленщины, но для ряда других губерний, и предопределят развалы первых добровольных организаций баптистов.
В апреле 1922 г. в связи с просьбой общин Смоленщины о присылке проповедников и необходимости помощи в организационных вопросах, по поручению Всероссийского союза евангельских христиан баптистов (ВСБ) из Москвы в Смоленск был отправлен уполномоченный М. И. Евдокимов. В его обязанности входили как должность разъездного проповедника Смоленской губернии, так и полномочия для организации районного союза из прилегающих областей, куда входил и Смоленск. Поэтому сразу по прибытии, 22 апреля, по инициативе Евдокимова был созван Смоленский съезд ЕХБ. Помимо насущных вопросов, съезд поставил «единогласно созвать Губернский и район[ный] и подрайонный съезд в гор. Смоленске на 4–5 мая. Для восстановления губернского союза всех общин и групп» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 23). Однако съезд в указанный срок не состоялся по причине задержки разрешения местных властей на проведение мероприятия. Наконец, получив 1 июня 1922 г. разрешение, уже 4 июня первый съезд ЕХБ Смоленской губернии был открыт. На съезде присутствовали как представили местных общин — Смоленской, Буловиц-кой, Тростянской, Печерской, Котельской, Трисвятской, Вяземской, так и почетные гости и представили от братских общин и союзов: ВСБ, Северного союза баптистов, Петроградской общины ЕХБ.
Выступивший с приветственным словом Евдокимов, как инициатор съезда, рассказал о причинах собрания: по предложению ВСБ для упорядочения жизни Западных баптистских церквей необходимо создать областной союз, куда должны войти Витебская, Смоленская и Минская губернии. Однако нехватка информации об общинах на местах, разрозненность церквей и отсутствие подобных союзов в трех указанных губерниях заставили Евдокимова и членов собрания «с начала созвать губернские союзы, а впоследствии [собрать] таковые в один областной союз». В этой связи «главная цель данного съезда — выработка организованной Евангелизационной работы по губерниям» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 2). По окончании выступления Евдокимова было заслушано еще несколько докладов, касающихся результатов проведенного 30 октября 1921 г. в Москве съезда ВСБ и годовых итогов деятельности губернских общин. Большая часть сообщений включала в себя информацию о взаимодействии ВСБ и Смоленской общины с евангельскими христианами (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 2).
После небольшого перерыва заседание продолжилось. Первым своим решением собравшиеся члены съезда «единогласно постановили организовать Смолгубсоюз1 Ев. Хр. Баптистов и сейчас же войти в таковой, а тем общинам, от которых не имеется представителей на данном съезде, предложить съездом срочно зарегистрироваться в Губсоюзе вместе со своими отделениями и группами» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 3). Затем собрание решило вопросы внутренней организации союза и провело выборы в руководство его органов управления. Сформированный Союз состоял из двух частей — постоянного «президиума» и сменяющегося «совета». При анализе протоколов обращает на себя внимание отсутствие четкого понимания съездом различий двух этих ведомств, и в особенности их обязанностей, функций, задач и сроков занимаемых должностей. Данное обстоятельство наводит на мысль, что первый съезд союза скорее был попыткой запустить длительный процесс слияния в единую организацию разрозненных церквей через внешнего посредника — ВСБ, чтобы со временем местные общины смогли самостоятельно придать более упорядоченную форму (со своей региональной спецификой) вновь созданному союзу. На это указывает и тот факт, что первые собрания и советы возглавляли исключительно представители ВСБ, после некоторого времени заменяемые местными управленцами.
В президиум вошли председатель — избранный делегатами М. И. Евдокимов, товарищ председателя «и он же казначей С. В. Максимов», секретарь А. И. Фролов. Этот орган должен был вести переписку с общинами, организациями и местными властями от имени баптистов губернии, фиксировать экономическую деятельность союза, организовывать собрания, открывать курсы и всячески содействовать делу распространения Евангелия. Впрочем, частью эти полномочия, по крайней мере на ранних этапах, были достаточно условными ввиду того, что многие решения требовали одобрения либо совета, либо всего съезда союза. Подобная громоздкость бюрократического аппарата сделала органы союза более неповоротливыми, но позволяла сохранять независимость общин, без голоса которых союз не мог принять глобальных решений (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 3). Если президиум был органом управления союза, то совет скорее стал человеческим ресурсом для реализации, осуществления контроля и наблюдения за проводимыми союзом мероприятиями, включая проповедническую деятельность. В него вошли 5 человек: «от Смоленской Общины Антоненко, От Тростянской — Коваленков, от Печерской Е. В. Севастьянов, от Вяземской Румянцев и от Буловицкой Шитиков». Первый съезд наделил совет правом: 1) «приглашать всех выдающихся братьев в работе по своему усмотрению с правом решающего голоса»; 2) «взять срочно на учет всех проповедников Евангелия в Смоленской губернии и распределять таковых по мере нужд на местах»; 3) «избрать постоянного разъездного проповедника, который всецело бы находился в распоряжении союза»; 4) «созвать [новый съезд союза] по своему усмотрению и по мере надобности, но не позже чем через год» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 3).
Для содержания союзного аппарата и последующих социально-педагогических программ каждой общине вменялось «ежемесячно делать добровольный паевой взнос по 3 ф. муки и 3 ф2. картофеля» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 3). Продовольственный сбор на Смоленщине был не случаен. Большая часть губернских баптистов — это крестьяне, почти не имевшие наличных денег, но обладавшие продуктами сельского производства, они могли жертвовать только собранное своим трудом. Кроме того, 1922 г. — разгар голода в Поволжье, когда цены на продовольствие росли и продуктовый взнос можно было выгодно продать, получив наличные. На этот факт указывает внутренняя переписка союза, в которой упоминается продажа пожертвованного для получения необходимых средств (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 4. Л. 67). Те же, кто проживал в городе, могли выплачивать сбор денежными средствами, но по высокой рыночной стоимости муки и картофеля, что также было экономически выгодно для кассы союза. В дальнейшем, с понижением цен и окончанием голода, цены упадут и Союз будет просить присылать денежные средства, а не продукты питания.
В ходе заседания, помимо организационных вопросов, связанных сугубо с союзом, решались и смежные: о кандидатах на рукоположение в священники («бр. Морозова» и «бр. Шитикова»); «желание на организацию кооператива трудового товарищества» (порученное Совету союза); о покрытии расходов съезда, организации воскресных школ (назначили А. И. Фролова) и кружков (назначили С. Максимова и А. Фролова) по губернии. Важно также отметить, что на съезде были собраны пожертвования для голодающих губерний, которые затем при контроле совета направились в Москву для дальнейшего распределения. Упоминание впоследствии сборов и переписке с ВСБ указывает на то, что как Смоленская община, так и общины, входящие в союз, в течение всего 1922–1923 г. так или иначе участвовали почти во всех общероссийских сборах баптистов, направленных на искоренение голода, в том числе в г. Самаре (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3 Л. 3; Д. 4. Л. 22, 28, 30, 33).
6 октября 1922 г. в Смоленске состоялось совещание представителей Смоленских общин ЕХБ губернии. Совещание собрало все ранее присутствовавшие на союзном собрании общины, за исключением гостей из Южного общества и Петроградской общины, для исправления недочетов первого съезда союза. Возглавил совещание прибывший из Москвы представитель ВСБ К. П. Гартвич, который проинформировал Смоленские церкви относительно решений, принятых на заседаниях ВСБ 4 сентября 1922 г. В его докладе говорилось, что: а) «слияние между Баптистами и Еван. Христианами считается морально и духовно состоявшимися, технически не могло быть выполнено по независящим от бр. Баптистов причинам», однако ВСБ поручено «окончательное проведение в жизнь слияния» двух общин; б) готовится выпуск сборника духовных песен «Голос Веры»; в) необходимо принять меры к открытию в Петрограде Библейской семинарии для подготовки проповедников; г) состоялось открытие кредитного товарищества «Братская помощь»; д) коллегия совета ВСБ постановила произвести «сбор на дело Божье для содержания 1500 проповедников, устройства музыкальных курсов и пр.»; е) были избраны делегаты в количестве 26 человек на Всемирный конгресс Баптистов в Швецию» (1923). После Гартвича выступили представили губернских общин с докладами о положении дел на местах, закрыв первый день совещания.
Во второй день совещания решались местные вопросы. Они касались главным образом перевыборов в органы правления союза в связи с тем, что «бр. М. И. Евдокимов сложил с себя полномочия председателя Смол. Губ. Союза, мотивируя это тем, что у него нет достаточного времени, так как брат М. И. Евдокимов назначен коллегией В.С.Б. благовестником3 на всей губернии, при этом в настоящее время состоит председателем Витебского губернского союза» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6).
Хотя Витебская губерния прилегала к Смоленской, сама географическая широта территорий, вместе с разбросанностью общин, не позволяла Евдокимову полноценно возглавлять два союза, при этом параллельно исполняя возложенное ВСБ послушание разъездного проповедника, и это объяснимо. Но со сменой Евдокимова переизбрание коснулось не только должности председателя, но и всего руководства союза, что говорит о том, что существовала иная причина для таких крупных изменений. Все общины, как уже неоднократно упоминалось, были независимы от внешних решений любых организаций «сверху». Само наличие человека от ВСБ, как столичного руководителя над местными союзами, могло вызывать недовольство, создавая ощущение централизации власти. Местные церкви и так неохотно отзывались на совместные собрания, не желая тратить свои ресурсы и исполнять совместно принятые предписания под «прямым» руководством «Москвы», подпитывая страх потерять свою независимость. Такое положение явно усиливалось непропорциональным избранием совета и президиума. Два этих органа, объединившие в своем составе представителей самых крупных общин Смоленщины, в перерывах между съездами могли принимать решения относительно всех входящих в союз церквей. Такая расстановка сил должна была явно не устраивать другие, менее значимые по численности группы, представители которых не вошли в руководство. Вероятно, в связи с этим перевыборы касались не только руководителя, но и всего аппарата союза, расширявшегося и отныне включавшего представителей даже небольших губернских ячеек. Так, «открытым голосованием единогласно были избраны председателем Союза С. А. Максимов, тов. предс. и казн. Л. Д. Антоненков и секретарем А. И. Фролов. В совет союза избранными оказались как прежние его участники: от «Вяземской — Румянцев; Тростянской — Шитиков и Коваленков Григорий; Печерской Севастьянов Филипп; Смоленской — Е. Оме-ленков», так и новые, от «Клюксовской общины Харченков… Зеньковской группы Коваленков Федор; Липовской группы Черненков Ульян; Трисвятской Общины И. Степанович, И. М. Евдокимов» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6).
Следующим решением было принято постановление о назначении разъездных проповедников (они же «благовестники») (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6). Хотя на первом заседании Смоленского губернского союза евангельских христиан баптистов (СГСЕХБ) аналогичное решение уже было принято, оно «грубо» игнорировалось. Подразумевалось, что «совет» возьмет всех губернских проповедников и распределит их по мере нужд в регионе. Но на практике распределения не было, а многие церкви и группы все так же оставались без вестников Евангелия. Это может объясняться тем, что местные общины ввиду кадрового голода отказывались отпускать своих пасторов и проповедников для помощи отдаленных общинам, где чаще всего они были необходимы. Об этом также свидетельствует решение Смоленской общины о запрете своим пасторам отлучаться за пределы г. Смоленска для проповеди в регионе (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 22). Следовательно, вопрос, связанный с проповедью в губернии, продолжал оставаться насущным и нерешенным. Несмотря на то что И. М. Евдокимов в связи с назначением ВСБ исполнял обязанности разъездного пастора, этого явно не хватало, а найти нового, который был бы подотчетен союзу, не представлялось возможным по ряду причин. Большинство местных баптистов, будучи крестьянами, находились в заложниках своего происхождения и рода деятельности. С одной стороны, баптисты-крестьяне, оставаясь в обособленном положении деревни, были не грамотными и не могли достойно проповедовать (о чем свидетельствуют анкеты баптистских общин, где вместо члена церкви расписывался пастор, с упоминанием «не грамотный» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 1. Л. 5, 8-13, 16-18)), а с другой — отказались от проповеднической деятельности ввиду необходимости вести сельское хозяйство и зарабатывать на жизнь в трудные годы начавшегося во время и после Гражданской войны экономического спада. Поэтому на призывы прошлого съезда ко «всем братьям и сестрам не ограничиваться избранными проповедниками, а самим везде и всюду нести свет Евангельского учения» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 3) откликались немногие. Кроме того, в баптистских общинах очень трепетно относились к выбору пасторов и благовест-ников, одним из критериев избрания должна была стать нравственная жизнь не только кандидата, но и его семьи, что, несомненно, сужало количество потенциально возможных благовестников (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 3).
Изучив положение губернских баптистов, И. М. Евдокимов и приехавший К. П. Гарт-вич отметили, что местные общины «очень низкого духовного воспитания и для поднятия на должную высоту в общинах необходим разъездной благовестник» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6). Брат Шитиков и брат Степанович ответили на этот призыв и пожелали безвозмездно возложить на себя работу разъездных проповедников сроком на три месяца. Причем бр. Степанович поставил условием проповедовать в «Бельском уезде». Однако временные проповедники, по сути, не решали глобальной проблемы кадров. Поэтому президиуму и совету союза собравшиеся предоставили право, «если найдется постоянный разъездной благовестник, иметь такового на средства союза» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6). Предыдущие постановления упускали упоминание заработной платы. Получалось, что большая община, имевшая своего проповедника, должна была не только его отпускать для благовестия в нуждающиеся церкви, но и полностью оплачивать его расходы. Предложение содержать отдельного проповедника на собственные средства союза решило проблему нежелания общин делиться своими церковнослужителями и затрачивать необходимые для этого ресурсы, а самого благо-вестника мотивировало экономически. В бухгалтерских сводках союза не сохранились сведения о предложенной сумме для проповедников. Если учесть нехватку денежных средств, постоянные призывы союза о денежной помощи и задолженности общин по «добровольному сбору» на содержание организации, можно заключить, что заработная плата благовестника должна была быть чисто символической, покрывающей его минимальные затраты. Отсюда, возможно, также проистекает отсутствие желающих кандидатов на постоянное служение. Впрочем, через полгода большая часть Смоленской общины, как главной и многочисленной, составляющей костяк союза, периодически будет разъезжать по губернии для «проповеди Евангелия». Анализ разрешительных удостоверений, данных проповедникам с целью «доказательства» их полномочий «нести борьбу с народным суеверием и невежеством путем проповеди чистого Евангелия и распространения печатных проповедей духовно-нравственного содержания», дает возможность предположить, что в Смоленской общине в какой-то момент появилась «череда» прихожан для несения проповеди. Об этом может говорить и то обстоятельство, что в течение 1922-1923гг. «послушание» разъездного проповедника исполняли многие видные члены Смоленской церкви, восполняя недостаток кадров (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 1. Л. 41, 43, 44, 45–48, 50, 65, 72).
Далее совещание подтвердило решение 1-го съезда СГСЕХБ, что должно было свидетельствовать о согласии принять постановление на местах («и убедительно просить Общины в наикратчайший срок привести его в жизнь»); указало, ввиду принятия постановления ВСБ, на то, что избирать кандидатов для рукоположения необходимо не в союзах, а в местных общинах (здесь явно подчеркивалась независимость общин и децентрализация власти); сообщило общинам, что союз может «оказать некоторую материальную помощь» тем, кто не имеет пропитания вследствие голода; считая, что воскресный день принадлежит Господу, постановило «никакие работы братьям и сестрам в этот день не производить»; «сделать добровольный сбор» для покрытия расходов совещания (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6).
Несколько последующих решений требуют пристального внимания. Это вопросы, связанные с «перерегистрацией союза» и «притеснением со стороны властей». 3 августа 1922 г. вышло постановление ВЦИК и СНК4 «о порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке надзора за ними». Этот закон в первую очередь относился к церковным структурам и общественным организациям и требовал, «чтобы ни одно религиозное общество, какого бы то ни было культа» не могло «открыть свои действия без регистрации в Отделе Управления Губ. или Облисполкома5» [Гидулянов, 1924, 39]. Если изначально, в 1920–1921 гг., советская власть регистрировала общины и группы как сам факт их наличия на территории РСФСР, то новый закон существенно изменил данную концепцию, которая отныне переходила от законодательно-учетной к разрешительной [Каиль, 2010, 75]. ЕХБ, как и прочие «сектантские» церкви, в первые годы правления большевиков пользовалась определенной свободой действий. Тем не менее, в связи с чередой военных конфликтов на территории России и за ее пределами в политике государства наметилась милитаристская направленность, которая всячески подавляла пацифистские тенденции, проповедуемые сектантами. Начавшееся недовольство большевиков различными протестантскими деноминациями постепенно усиливались нежеланием последних признавать некоторые идеологические постулаты власти, что, в свою очередь, привело к конфликту и развороту идеологической машины от узконаправленной борьбы против Русской Православной Церкви в сторону расширения агитационного поля против всякой религиозной мысли и деятельности в целом6. Для нас важно заметить точку отсчета — выход постановления и начало процесса перерегистрации, который на первом этапе в 1922 г. прошел на Смоленщине для баптистов без существенных проблем. Однако повторные перерегистрации 1923 и 1924 г. вызовут противление и в конечном итоге приведут к закрытию не только губернского союза ЕХБ, но и главной его опоры — Смоленской общины, о чем будет сказано в дальнейшем.
Второй вопрос — «о притеснении со стороны советской власти», перекликается с предыдущим. При его обсуждении союз подчеркнул, что «стеснения со стороны местной власти в Смол. Губ. в настоящее время не отмечается» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6). Это упоминание должно было исходить из требования самой местной власти и являлось очередной вехой в признании большевиков церковными организациями в провинции. Однако в силу того, что в это время шла «агрессивная» компания против Русской Православной Церкви, и сознавая вероятность, что религиозная борьба против конкретной религиозной деноминации может перекинуться и на другие, союз также постановил «о всех могущих произойти стеснениях со стороны Сов. власти обращаться в Юридический отдел коллегии Союза Баптистов» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 6).
Последующие информационные послания Смоленского союза, разосланные по общинам после совещания, указывают на основные проблемы организации конца 1922 г., связанные со слабой активностью участия членов в ее жизни. Проблемы можно свести к следующим положениям: 1) незначительная финансовая и (или) продуктовая помощь со стороны членов; 2) плохо налаженная переписка с общинами (которая игнорировалась на местах); 3) отсутствие проповедников для служения в губернии; 4) слабый численный отклик в заседаниях союза (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 7–8). Подобные обстоятельства можно связать с бедственным положением местных баптистов, которые не могли выделять дополнительные средства для поддержки союза в трудные годы Гражданской войны, польской кампании и других общероссийских и местных проблем. Невозможность в должной мере содержать управленческий аппарат союза, в свою очередь, не позволяла выделять средства для укрепления штата, достойной заработной платы для привлечения проповедника и более значимых расходов, сковывая инициативу. Отдельной статьей расходов, поглощавших и без того скудные ресурсы союза, также были средства, собранные для отправки в ВСБ в качестве добровольных взносов на развитие миссии, искоренения голода и других социальных мероприятий, что в конце концов к апрелю 1924 г. приведет к банкротству союза и Смоленской общины как главного донора его кадров и финансовой активности7.
Недостаток средств определит и слабую активность членов на съездах организации. Большие общины могли отправлять несколько и более человек, оплачивая расходы на содержание делегатов, приобретая тем самым лишний голос в принятии решений. Небольшие, отдаленные группы, напротив, не имели такой возможности и отправляли одного члена, часто игнорируя совещания, но присутствуя на более значимых заседаниях союза. Однако по мере развития деятельности объединения, которое в это время всё чаще обеспечивало закупку необходимой литературы, включая заграничную — прежде всего Библий и баптистской периодики, — а также оказывало помощь общинам и отдельным баптистам ввиду голода, тюремного заключения за отказ от военной службы и нехватки проповедников, значимость союза как необходимого посредника между коммерческим сектором, провинциальными общинами и государством постепенно повышалась. Получалась так, что, с одной стороны, в первый год своего существования союз топтался на месте, не в силах решить накопившиеся трудности (наладить работу союза, найти постоянного проповедника), с другой — становился важным звеном между ВСБ, общинами и торговыми предприятиями (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 47–48; Д. 4. Л. 14, 23, 25, 27, 31–32, 44, 47; Д. 2. Л. 64).
-
5 июля 1922 г. было созвано очередное заседание совета союза; за ним последовал 6–7 октября того же года 2-й Смоленский губернский съезд. Протоколов заседаний не сохранилось, но упоминание в циркулярах частично восполняет пробелы. Заседание собиралось для решения проблемы с благовестниками. Союз в течение всего прошедшего со дня 1-го губернского съезда времени не смог найти желающего стать губернским проповедником. Чтобы решить проблему, заседание было вынуждено призвать членов совета или, в их отсутствие, глав общин «посетить соседнюю общину до предстоящего 2-го Смоленского Губ. Съезда». На самом съезде предлагалось рукоположить несколько человек в священники и благовестники (диаконы) и ответить на насущные вопросы, собранные в общинах. После съезда планировалось открыть регентские (ввиду плохого пения) и библейские проповеднические курсы (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 7–9).
-
2 декабря 1922 г. совет союза постановил утвердить «вопрос об устройстве в Смоленске кратковременных библейских проповеднических курсов продолжительностью около одного или немного более месяца», куда могли вступить «братья и сестры не моложе 18 лет от роду, грамотные, т. е. умеющие читать и писать» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 14). Одновременно при Витебской общине открыли регентские курсы (ввиду невозможности открытия таковых в Смоленске), куда приглашались «братья и сестры», которые «должны запастись всем необходимым для прожития, продуктами, и… иметь музыкальный инструмент (скрипку)» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 14). Однако 31 января 1923 г., после подачи ходатайства в губернский Отдел народного образования, в открытии курсов было отказано (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 14).
Отказ властей для союза стал явной неожиданностью. С момента решения совета союза подготовка курсов закончилась, рассылались письма для отбора и зачисления на предстоящее обучение. Так как до этого губернские власти не отказывали в инициативе баптистским общинам и довольно терпимо относились к их деятельности, было бы правильно полагать, что и здесь не будет никаких юридических проволочек. Но лидеры союза ошибались, в связи с чем Смоленский союз обратился «за разрешением в Москву через Коллегию Всероссийского Союза Баптистов», что, впрочем, не дало результатов. В это же время в деревне Сорокино Холмовской волости Бельского уезда был арестован баптист Иван Евсеев, якобы говоривший «ложные проповеди» против советской власти, хотя, по мнению местных жителей, «ни один из граждан нашей деревни ни на одной сходке не слышал от Ивана Евсеева» ничего подобного (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 50). 27 сентября Гжатской общине запретили молитвенные собрания, т.к. она не оповещала каждый раз органы местной власти о времени и месте своего собрания (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 2. Л. 63). 7 октября Жил. Зем. Отдел8 потребовал от Смоленской общины незамедлительно освободить занимаемое помещение, где заседал союз, для «открытия кооперативной лавки в районе Покровской горы» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 80). К этому добавлялись проблемы с перерегистрацией общин, которым либо отказывали в перерегистрации, либо затягивали этот процесс.
Здесь мы можем четко проследить начало давления местной власти на баптистов Смоленщины. До 1923 г. нет ни одного документально зафиксированного упоминания, за исключением судов в связи с отказом некоторых отдельных баптистов от военной службы, которое указывало бы на притеснения губернских общин. С 1923 г.
мы видим нарастание давления со стороны укрепившейся после победы в Гражданской войне советской власти, стремившейся склонить религиозные общины в необходимое для себя прогосударственное русло. К 3-му съезду союза ЕХБ и аресту главы союза (в документах нет упоминаний, по какой причине и на каком основании был арест) это будет особенно заметно, что вызовет тревогу среди верхушки союза9.
24 ноября 1923 г. в Смоленске состоялся 3-й губернский съезд союза ЕХБ. Помимо постоянных членов союза, в нем приняли участие представители Витебского союза баптистов и члены баптистских общин Волынской губернии. Первым с докладом о деятельности за отчетный период времени выступил глава союза — пресвитер Смоленской общины С. А. Максимов, отметивший, что «работа в Союзе… не могла быть выполнена полностью по многим причинам как из вне так и из внутри»10. К таковым причинам были отнесены: 1) невозможность Максимову, как пресвитеру Смоленской общины, «часто и на продолжительное время отлучаться из Смоленска» для посещения губернских общин (хотя все общины были им хотя бы раз посещены); 2) «некоторых переживаний» в общине в связи с переменой помещений; 3) отказа в открытии библейских курсов; 4) после консультации во ВСБ о сложившемся положении — «при посещении на обратном пути Вяземской общ.» Максимов «был арестован местною властью» на два месяца; 5) «в связи с переживанием тяжелого материального положения союза секретарю А. И. Фролову пришлось поступить на службу, что оторвало его от прямых работ в союзе и этим самим дало более работы председателю»; 6) дополнительные трудности, вызванные повторной перерегистраций общин и союза в государственных органах (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 22).
Последующие доклады съезда о положении баптистов на местах, однако, подчеркнули, что, несмотря на нужду в проповедниках и встретившиеся препятствия со стороны местных властей, наблюдался духовный рост и увеличение числа членов общин. Хотя никаких точных данных по миссионерской и просветительской работе нет, некоторые свидетельства указывают на небезосновательность подобных заключений, связанных — в первую очередь — с деятельностью союза. Бухгалтерская отчетность союза, как и переплетенная с ней касса Смоленской общины за 1923–1924 гг., указывает на покупку баптистской литературы различной направленности, включающей катехизаторские брошюры, просветительские листки, научно-религиозные журналы (объясняющие открытия науки с точки зрения веры) и с десяток других узконаправленных изданий, распространяемых по губернии (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 4. Л. 23, 25, 31–32). А налаженные контакты с баптистскими центрами европейской части России позволяли призывать проповедников из других районов или просить помощи от лидеров местных общин, которые хотя и не могли удовлетворять потребности в проповеди Евангелия на местах, но, во всяком случае, помогали поддерживать общины и даже заниматься миссионерством. Кроме того, тяжелое материальное положение в союзе11, как и в отдельных общинах, иногда восполнялось как перераспределением кассы союза, так и внешней помощью, исходящей от ВСБ и из-за границы12. Взаимовыручка станет признаком сектантства в целом и баптизма в частности, и тем самым — притягательной силой для достаточно бедных слоев населения, преимущественно крестьянства, которое в это время активно вступало в местные общины13. Прирост в общинах станет настолько значителен, что к 1925 г. сформированный в Смоленске «Союз безбожников» отметит этот факт и будет требовать уделять особое внимание борьбе с сектантством, и непосредственно с баптизмом как одной из самых больших религиозных групп губернии (ГАНИСО. Ф. 2814. Оп. 1. Д. 103. Кор. № 24. Л. 55, 60).
После докладов был прослушан отчет кассы. В нем говорилось о плачевном финансовом положении Смоленского союза. Причем данная тема подымалась почти во всех циркулярных посланиях, как до заседания, так и на всем его протяжения. С самого начала своего существования, как уже отмечалось, организация испытывала финансовые трудности, которые только усиливались. Если до 1923 г. касса союза подпитывалась добровольными взносами и периодически, с разрешения ВСБ, оставляла себе часть добровольных сборов, которые должны были быть отправлены в Москву (чем обеспечивалось выживание союза), то к 3-му съезду касса полностью истощилась и союз фактически остался без средств. Поэтому без санкции ВСБ «президиуму пришлось взять на нужды Союза взаимообразно от ВСБ добровольного сбора в количестве 40 п. ржи (сорока пудов)», а съезду — «произвести в общинах сборы добровольных пожертвований, в которых просит всех членов принять горячее участие» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 22–23). На самом же съезде было постановлено произвести сбор на покрытие организационных расходов, позволивших организации продолжить свою деятельность. Закрыв, впрочем, первичные потребности в средствах, союз решил финансовые проблемы момента, но ничего не смог предпринять для сокращения денежного дефицита. Поэтому следующие годы существования союза стали пиком падения финансовой активности ее членов, неспособных в силу послевоенных тягот увеличить число пожертвований, а ВСБ, помогавший ранее, к этому времени сам испытывал финансовую нужду, сократив или вовсе отказав в помощи своему «младшему брату». К апрелю 1924 г. союз окажется банкротом с большими долгами и его руководители станут выискивать средства или посредников для отправки корреспонденции ввиду того, что в кассе не будет средств для оплаты даже марок (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 1. Л. 107)!
Отдельным постановлением были проведены выборы руководителей союза, которые по итогам голосования остались в старом составе. Подобное решение могло свидетельствовать как о доверии к органам управления союза, так, вероятно, и о том, что трудности работы в союзе и дополнительная нагрузка, возложенная на ее руководителей, сокращали количество лиц, желавших посвятить свое время работе в нем (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 23).
Далее был поднят вопрос «о деле благовестия». По этому вопросу кардинальных изменений не было, и съезд вновь возложил полномочия благовестников на членов президиума, прося посещать общины друг друга «ввиду неимения в данное время средств на содержание постоянного проповедника в союзе и не имения свободного в настоящее время брата для этой цели» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 23). Не найдя в своих рядах возможного проповедника, однако, съезд обратился к временно находящемуся в Смоленске проповеднику Витебского союза И. Зайцеву, приглашая «на время его пребывания в Смоленске работать в Смоленском губ союзе, на что и было надо согласие» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 23). С учетом того, что Смоленская община находилась в довольно тесных отношениях с Витебской, вряд ли Смоленский союз мог без разрешения Витебского союза призвать Зайцева исполнять обязанности проповедника, что наводит на мысль о том, что Зайцев находился в Смоленске не случайно и имел определенное согласие на свою деятельность на данной территории14.
Затем съезд избрал делегата на всероссийский съезд ВСБ, прошедший 30 ноября 1923 г. в Москве, — главу союза С. А. Максимова (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 23).
С 1919 г. можно проследить активную переписку Смоленских общин баптистов с ВСБ. С 1920 г. в протоколах заседаний ВСБ фиксируется участие представителей Смоленщины, где обсуждались проблемы губернии. При содействии и руководстве делегатов ВСБ формируется сам Смоленский союз. Но важно подчеркнуть, что до 1923 г., несмотря на активное участие в жизни ВСБ, СГСЕХБ никогда официально не был его членом. С одной стороны, вероятно, Смоленский союз был не согласен с некоторыми решениями ВСБ, которые без вступления в союз мог игнорировать, с другой — участие в заседаниях ВСБ не требовало самого акта вступления, позволяя сохранять во всяком случае видимость независимости. К 1923 г., с началом давления со стороны местной власти, СГСЕХБ вступает в ВСБ и всячески старается акцентировать на этом внимание. В архивных документах сохранились копии регистрационных листов, удостоверяющих вступление в ВСБ Смоленского союза (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 51). Ассоциация СГСЕХБ с более крупной ВСБ, имеющей связи с международными баптистскими организациями, в условиях, когда советское руководство продолжало попытки утвердиться на международной арене, должна была оградить местных баптистов или как минимум снизить градус давления на них в регионе. Поэтому участие главы Смоленского союза Максимова в съезде ВСБ было в тот момент времени важным событием для сохранения статус-кво смоленского баптизма (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 23).
Последним обсуждавшимся на съезде стал вопрос «о помощи братьям заключенным и нуждающимся». С начала Первой мировой войны многие баптисты отказывались служить в армии, что приводило к показательным судам и следствиям. С приходом большевиков положение баптистов улучшилось: им позволялось заменять военную службу альтернативной. Но с течением времени появилось множество людей, пытавшихся разными путями отказаться от воинской повинности, в том числе и вступая в секты. Это довольно быстро было обнаружено, и через ряд законодательных нововведений устранено путем ужесточения системы проверки религиозной принадлежности (см об этом: [Протасова, 2021, 51]). На Смоленщине сохранились судебные документы 1919 г. по делам над «отказниками»-баптиста-ми, которые в большинстве своем решались положительно в сторону ответчиков (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 4). С ужесточением законов, однако, и с началом притеснений со стороны государственного аппарата все чаще отказ от военной службы воспринимался губернскими властями как пассивный акт сопротивления большевизму и наказывался по закону. Некоторые из баптистов осуждались по несколько раз (как правило, на 3 года), а их дела рассматривались публично (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 15–17). С увеличением числа осужденных встал вопрос о необходимости систематической помощи. Кроме того, в условиях голода и последствий Гражданской войны значительное число баптистов России переселялось с места на место. Нарушались коммуникативные связи, и родственники обращались к братским общинам за помощью в поиске своих пропавших. В Смоленский союз приходили запросы от других общин о поиске или помощи братьям, запросы удовлетворялись (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 81; ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 48–49). Это требовало отдельной статьи расходов. Поэтому «съезд единогласно принимает положение о помощи братьям заключенным и нуждающимся и постановляет произвести особый сбор добровольных пожертвований, сбор продуктами и одеждой для указанной цели и собранное направить в союз для дальнейшего использования по назначению» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 23).
Завершившийся в 1923 г. 3-й губернский съезд был, по всей видимости, последним: в документах союза и переписке с общинами нет никаких упоминаний, за исключением небольших собраний президиума, которые говорили бы нам о проведении подобных съездов. Причиной могли послужить как отсутствие средств для организации глобальных мероприятий, так и «измельчение» обсуждаемых проблем, не требовавших собрания всех представителей организации. К этому времени можно констатировать определенный кризис союза, не сумевшего решить за годы своего существования вопросы финансирования и укрепления межобщинных связей, что заметно подтачивало возможности для его развития. А последующие события 1924 г. окончательно ударили по союзу и привели к его закрытию.
К лету 1924 г. были выявлены факты уклонения членов общин баптистов в секту «трясунов»-пятидесятников, тайком вербовавших в свои ряды неофитов. О том, как происходил процесс их обнаружения, точных данных нет, но исходя из протоколов об исключении можно уверенно предположить, что все началось с братьев, которые говорили, что в баптизме «нет св. Духа» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 25). В ходе дознания адепты «трясунства» признавались в своем искаженном понимании веры и указывали на товарищей, ставших для них проповедниками к «истине». Количество скрытых адептов «трясунов» было незначительным для организации сколь-либо масштабного церковного суда: к началу июля их было три человека (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 72; Д. 1. Л. 111), однако обнаруживалась связь главных «вербовщиков» секты с высокопоставленными руководителями союза, что делало положение для сохранения чистоты баптизма в Смоленске опасным. Поэтому 7 декабря 1924 г. состоялось экстренное совещание совета союза под председательством зам. главы А. Антоненкова. Заседание было организовано по единственной причине: для смещения глав союза, связанных с «трясунами», и избрания взамен новых членов в органы управления. Смещенными со своих постов и фактически исключенными из числа баптистских общин стали как глава союза баптистов пресвитер Максимов, так и члены президиума — Бруев, Румянцев, Омельянюк и др. Вместо указанных лиц были назначены: главой губернского союза — И. И. Барташевич, секретарем проповедника Витебской общины, задержавшегося в Смоленске, — И. М. Зайцев, а в президиум — Ф. Королькова. По случаю тяжелого материального положения был назначен денежный сбор, а новому руководству — фиксированная заработная плата: главе 25 руб. в месяц, секретарю 15 руб. (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 3. Л. 27).
В скором времени после исключения первых выявленных «трясунов» в июле 1924 г., они, не дождавшись последующих решений со стороны Смоленского союза, основали в Смоленске группу «Евангельской веры» под председательством И. А. Бруева и подали 22 июля 1924 г. документы (устав, списки, заявления) для официальной государственной регистрации (ГАСО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1853. Л. 265). Всего в их группу вошли 8 исключенных, они сформировали костяк нового религиозного объедения на началах баптистской и пятидесятнической веры (ГАСО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 1853. Л. 266). Целью группы была заявлена возможность «проповедовать и осуществлять в жизни членов своих учение, возвещенное Иисусом Христом» (ГАСО. Фр. 161. Оп. 1. Д. 1853. Л. 267). Группа была узаконена и стала не только «конкурентом» Смоленской общины баптистов, но и, по сути, первой официально зарегистрированной общиной пятидесятников в губернии (ГАСО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2190. Л. 3).
Потеря руководителей ударила по всему союзу, обезглавив его. На Максимове и Бруеве в какой-то момент, ввиду их авторитета, была сконцентрирована вся основная деятельность союза: внешняя переписка, взаимоотношения с государством, экономическая жизнь и даже проповедническая. Поэтому в отсутствие новых кадров и при невозможности для многих баптистов участвовать в работе союза исключение «трясунов» делало положение союза неустойчивым и малопродуктивным, а доверие к самой организации — подорванным. В это время начинаются очередные показательные суды над баптистами, уклонявшимися от армии, куда члены союза приглашались в качестве экспертов. Оказание юридической и материальной помощи пострадавшим оттянет все остаточные ресурсы союза, ограничив возможности развития местных ячеек баптизма и парализовав все другие направления его деятельности.
2 октября 1924 г. в газете «Рабочий пусть» на основании «циркуляра НКВД от 10 июня с. г. за № 284 и постановления Президиума Смоленского Губисполкома15 от 12 сентября с. г. за № 34» было опубликовано постановление о необходимости не позже 15 октября зарегистрироваться на территории губернии всем религиозным группам. В перечень необходимых документов входили: заявление о регистрации, устав, списки членов в трех экземплярах [Рабочий путь, 1924, 4]. 15 октября все необходимые документы были посланы Смоленским союзом и Смоленской общиной баптистов (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 10. Л. 7, 9). В тот же день административный отдел губисполкома отказал в регистрации, потребовав в течение трех дней исправить устав, в противном случае союз с общиной распускались. Пункты, предписанные для исправления в уставе, в архивных документах нам обнаружить не удалось, что затрудняет последующий анализ.
В связи отказом в регистрации Смоленский союз отправил срочную телеграмму в Москву, описав сложившиеся обстоятельства. 4 ноября 1924 г. из коллегии ВСБ пришел ответ, где говорилось, что в НКВД был сделан запрос «с письменным заявлением и личным объяснениям по Вашему делу. В НКВД нам дали заверение, что в течение ближайшей недели вопрос будет рассмотрен, и Смоленскому Губисполкому будут даны соответствующие указания, при чем все незаконные его требования будут отменены» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 9. Л. 10). Последующий ход событий в должной мере не известен. Исходя из переписки руководителей союза и губернских постановлений за 1925 г. итогом административной волокиты стало «подвешенное» состояние союза. Союз не получил государственную регистрацию, но при этом спокойно существовал — пока «исправлял» необходимые пункты устава. Так продолжалось вплоть до весны 1925 г., пока административный отдел вновь не потребовал регистрации общины. Документы были поданы.
18 мая 1925 г. административный отдел в очередной раз отказал в регистрации ввиду «отсутствия устава» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 10. Л. 23). 17 июня ГубАдмин-отдел16 просил начальника 2-го отделения милиции поставить в известность Смоленский губернский союз и Смоленскую общину баптистов, о требовании предоставить не позже 1 августа все необходимые документы для регистрации (устав, списки членов и т. д.), «в противном же случае таковые будут считаться распущенными». В это же время Смоленский союз разослал срочное послание: «Сим сообщаем Вам [братья и сестры] не весьма радостное явление, по регистрации общины и Губернского союза встречаются весьма большие препятствия со стороны Смоленского Губернского Административного отдела каковыя препятствия могут лишь разрешиться в центре… [поэтому] необходимы срочные личные переговоры представителя от нашего Губернского союза. Но для поездки нужны средства каковых нет в союзной кассе, каковая не только пуста, но и в долгу… Прошу Вашего содействия путем присылки Ваших сборов иначе мы рискуем закрытию наших общин и союза» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 5. Л. 105). Необходимые средства были собраны, и, вероятно, представитель союза отправился в Москву, но на этот раз никаких результатов достигнуто не было.
20 августа 1925 г. датируется секретная депеша, где говорилось о необходимости роспуска союза и Смоленской общины (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 10. Л. 24). 3 сентября административный отдел направил начальнику 2-го отделения милиции секретное постановление № 2194: «Смоленская община баптистов… и Смоленский губернский Союз баптистов ликвидированы, вследствие чего считаются распущенными, без права устройства каких бы то ни было собраний и проявления своей деятельности. При желании дальнейшего существования Губсоюза баптистов и Смол. Общины баптистов, им надлежит представить ГАО регистрационный материал, согласно существующих распоряжений, как вновь организующимся религиозным организациям… Кроме того предлагается изъять от Губсоюза баптистов и Смолобщины баптистов все дела, печати и штампы приставить ГАО, а также установить наблюдение за выше указанными организациями по выполнения выше изложенного» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 11. Л. 26). 4 сентября произошло изъятие всей документации и печатей союза (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 11. Л. 28). В тот же день в справке о положении общины и союза предстоятель смоленских баптистов Антоненков написал: «Смол. Губерн. Союза баптистов и Смол. Общины баптистов на Лестровке (место регистрации союза. — Я. М. ) не имеется, а таковые ликвидировались сами по себе, а имеется только группа баптистов, которая и производит моление в доме № 6…» (ГАНИСО. Ф. 3204. Оп. 1. Д. 11. Л. 27). Аналогичной процедуре подверглись и другие общины, такие как Вяземская, подавшая в органы милиции 11 ноября 1925 г. жалобу с требованием пересмотра их дела и открытия общины (ГАСО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2614. Л. 29-30). Последующая документация, вплоть до 1927 г., указывает на то, что Смоленская община к этому времени так и не смогла получить регистрацию и находилась на положении религиозной группы (ГАСО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 2841. Л. 27).
Вывод
Формирование в 1922 г. Смоленского союза баптистов было частью общероссийского процесса унификации баптистских общин и организаций, проводимого при участии ВСБ. Созданный союз должен был объединить местные общины для более упорядоченной миссионерской, социальной, просветительской и экономической деятельности в условиях социально-политических катаклизмов времени, собрав под свое ведение все местные ячейки баптистов. На первых порах входившие в союз члены, привыкшие к значительной автономии, игнорировали взносы, необходимые для работы организации, не отвечали на переписку с ее органами управления и крайне пассивно реагировали на исходившую инициативу. К нач. 1923 г. положение постепенно меняется по причине роста значимости союза. Союз начинает активно закупать литературу, помогать нуждающимся братьям, посещать общины, организовывать совместные встречи и выступать важным посредником между губернскими баптистами и ВСБ. В то же самое время проявились основные проблемы союза, которые так и не были решены: 1) финансовая нестабильность, приведшая к 1924 г. к банкротству союза, связанная в первую очередь с трудностями, последовавшими за Гражданской войной, и крестьянским большинством среди членов СГСЕХБ, не имевшим возможности в условиях экономического спада 1920-х содержать союз в должной мере; 2) невозможность найти постоянных проповедников и певчих для поддержания местных общин и развития широкой миссионерской деятельности; 3) начавшееся в 1923 г. противодействие государства экспансии баптизма.
К кон. 1923–1-й пол. 1924 гг. стал виден кризис губернского союза, деятельность его угасает. Симптомами спада могут считаться раскол баптистов-«трясунов», в который уклонились преимущественно видные руководители союза, многочисленные финансовые долги организации и сокращение числа совместных собраний. Этот этап совпал с переходом советских местных властей от терпимости к баптизму к борьбе с ним. Начавшись в 1923 г., противление нарастало до кон. 1924 г., о чем свидетельствуют отказ в регистрации курсов, созданных союзом, показательные суды над губернскими баптистами, включая двухмесячный арест главы союза Максимова, а также закрытие в 1924 г. самого союза и Смоленской общины, завершившее существование самой крупной организацией баптистов Смоленщины.