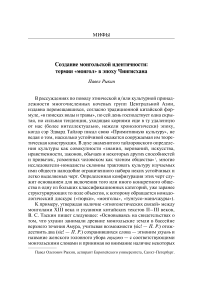Создание монгольской идентичности: термин «монгол» в эпоху Чингисхана
Автор: Рыкин Павел Олегович
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Мифы
Статья в выпуске: 1, 2002 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911787
IDR: 14911787
Текст статьи Создание монгольской идентичности: термин «монгол» в эпоху Чингисхана
характерных обычаев, общих для монголов и ухуаней, можно предполагать, что ухуани относились к монголам и были первым монгольским племенем, о котором сообщают китайские источники» 2. А Л. Л. Викторова, посвятив немалую часть своей монографии выделению и характеристике якобы специфичных для монголов признаков (особенности пищи, одежды, жилища, «духовной культуры», языка), заявляет: «Такие черты бытовой культуры являются индексами, позволяющими установить генетическое родство между монголами и их этническими предшественниками» 3. Количество аналогичных примеров легко можно умножить.
Я не намерен здесь разбирать ни логическую связность аргументации названных авторов, ни тот язык, на котором она ведется, хотя это и было бы занятием интересным (чего стоит одно использование биологических метафор типа «генетическое родство», выдающее склонность мыслить такую социальную конструкцию, как родство, на манер биологически обусловленной сущности sui generis — врожденной, «естественной» и мистически неизменной 4). Отмечу лишь, что доказательность этой аргументации базируется на принятии двух ключевых положений: 1) о тождестве культуры и языка и 2) о тождестве культуры (и, опять же, языка) и этничности. В результате получается, что на монгольском языке могут говорить лишь носители «монгольской» культуры и, конечно, всякий носитель такой культуры непременно должен быть «монголом». Даже те исследователи, которые подчеркивали гетерогенный характер кочевых образований 5, допускали принадлежность их компонентных единиц исключительно к вышеупомянутой триаде «тюрки — монголы — тунгусо-маньчжуры», ассоциируя с этими рубриками лингвистической классификации вполне определенные культурные комплексы .
Основной порок рассматриваемой тенденции заключается даже не в том, что люди, ей следующие, принимают за реальность схемы, предназначенные для объяснения реальности, тем самым «внося в предмет принципы собственного отношения к нему» (П. Бурдьё). Гораздо более серьезно другое. Следуя сложившейся научной практике навешивания ярлыков в целях уничижения оппонентов, давайте называть этих людей объективистами, а для пущего эффекта наивными — не в смысле «глупыми», а в том смысле, что они как правило не осознают, что говорят с определенной теоретической позиции (для них это единственный способ рассуждать о тех вещах, о которых они рассуждают). Так вот, наивные объективисты превращают культуру в некую трансцендентную человеку сущность,
«данность», с которой он рождается и «носителем» которой он обречен оставаться до конца дней своих. Культура абстрагируется от социальной практики, а значит, от реальной жизни группы; даже взаимные контакты описываются как происходящие словно бы не между реальными общностями людей, а между генерализованными культурными ансамблями, которые могут обмениваться между собой своими составными элементами, сохраняя тем не менее структурную целостность и способность к само(!)воспроизводству.
Альтернатива обозначенному выше подходу была предложена более 30 лет назад норвежцем Ф. Бартом и его коллегами, выпустившими сборник статей, который стал своего рода манифестом теории этничности. Барт предложил переместить фокус исследований с «культурного содержания» этнической группы на процессы установления и поддержания этнических границ, в которые это содержание заключено. Этнические границы устанавливаются в ходе социального взаимодействия группы с окружающими ее «другими» и подлежат переопределению при каждом изменении социальной ситуации. Как культурный материал, так и этнические границы являются функцией от социального взаимодействия, а вовсе не даны человеку «как воздух». Более того: по словам Барта, «этнические группы суть категории приписывания и идентификации со стороны самих акторов, и тем самым они обладают свойством организации взаимодействия между людьми» 6. А значит, напрасно пытаться диагностировать этническую принадлежность группы на основании разделяемых ею культурных черт; об этнической идентичности можно говорить лишь там и тогда, где и когда она осознается в качестве таковой составляющими группу агентами и ассоциируется ими с определенным именем и некоторыми элементами культуры, которые служат не более чем маркерами этой идентичности. При этом «учитываемые признаки — вовсе не сумма “объективных” различий, но лишь те, которые сами агенты рассматривают как значимые» 7. Контрастные черты могут изобретаться там, где с «объективной» (то есть объективистской) точки зрения на них нет и намека; и наоборот, группа может игнорировать «объективную» разнородность своего культурного содержания, коль скоро подобная «невнимательность» способствует ее сохранению в качестве группы. Соотношение культуры и этничности «один к одному», столь дорогое для наивного объективиста, разрушается, а производство и поддержание этнической идентичности оказывается определенного рода стратегией, реализуемой в социальной практике группы.
Другое дело, что Барт заходил слишком далеко — рассматривал группу наподобие коллективного рационального субъекта, свободно и осознанно осуществляющего выбор собственной идентичности. Не стоит забывать, что «каждая культура имеет своих теоретиков» 8, то есть лиц, обладающих легитимным правом на занятие «символической деятельностью» по поддержанию идентичности от имени большинства членов группы, которые рефлексии по поводу теоретических условий своего существования предпочитают наслаждение опытом «просто жить». А эти теоретики (как правило, они занимают доминирующую позицию в поле властных отношений) естественным образом навязывают продукты своего теоретизирования тем, для и за кого они его осуществляют. Вырабатываемые ими «внешние» определения (внешние с точки зрения объектов категоризации, которые, вопреки бартовской модели, не совпадают с ее субъектами) способствуют формированию групповой идентичности определяемых не в меньшей степени, чем если бы они рождались в среде самих определяемых 9.
Обслуживая конкретные властные интересы, официальные классификации, включая этнические, являются эффективным орудием господства. Ибо внедренные в сознание категоризуемых, они способствуют установлению того гармоничного соответствия между теорией, идеологией и практикой, к которому стремится любая власть вне зависимости от локальных форм своего осуществления. Эта «власть номинации» тем более характерна для обществ, именуемых, в соответствии с антропологической конвенцией, «традиционными»: в них властные инстанции, не имея возможности прибегать к открытому физическому насилию в отношении рядовых членов групп (поскольку вся их легитимность зиждется на лояльности «доминируемых»), вынуждены активно задействовать разнообразные формы символического принуждения 10. Одна из них — та форма, которую Барт в своей работе называл «категориальным приписыванием» 11.
Приведенные здесь соображения, по необходимости абстрактные и лишенные всяких иллюстраций, имеют единственной целью показать беспочвенность и неправомерность попыток рассматривать этническую принадлежность каких бы то ни было групп в терминах привычных теоретических схем. Антропология показывает огромное разнообразие форм этнической идентичности и факторов ее образования; они настолько локальны и ситуативно обусловлены, что создать по их поводу какую-то общую теорию типа той, которая до сих пор негласно признается «единственно верной» в кругах исследователей центральноазиатских кочевых обществ, вряд ли будет когда-либо возможно (да и не нужно). Я сознательно изложил здесь некоторые принципы разделяемой мною теоретической позиции (всего лишь одной из возможных), чтобы как-то дистанцироваться от господствующей в номадистике парадигмы и, если угодно, оправдать себя за то, что в нижеследующем изложении я буду рассматривать историю названия, а не тех групп, к которым, в разное время по-разному, это название относилось. Да простят меня объективисты!
I
Считается, что впервые термин mong ª ol 12 появляется на страницах двух китайских хроник: в «Цзю Тан шу» («Старая история [династии] Тан», закончена в 945 году) в форме мэнъу (* mung-nguet ) и в «Синь Тан шу» («Новая история [династии] Тан», закончена в 1060 году) в форме мэнва (* mung-ngwa ). Там им обозначается одно из девяти (в первом источнике) или двадцати (во втором) «племен» ши-вэй — обширной конфедерации этнических групп, проживавших на территории современной Маньчжурии 13. На основании изучения географических реалий, упомянутых в китайских текстах, исследователи установили, что предположительным местом обитания мэнъу ( мэнва ) шивэй нужно считать либо район к югу от среднего течения р. Амур западнее от впадения в него р. Сунгари и восточнее Малого Хингана, либо зону вдоль южного берега нижнего течения р. Аргунь и верхнего течения Амура (в последнем случае неясно, идет ли речь о территории к востоку или к западу от Большого Хингана) 14. Реконструированные среднекитайские формы указанного названия позволяют предполагать, что мэнъу передает оригинальное * mong ª ut или * mong ª ul , а мэнва служит транскрипцией * mong ª a 15. И. де Рахевильц высказывает обоснованную гипотезу, что вторая транскрипция — фонетический вариант первой с утратой конечного консонанта (* mong ª a(l) ), а * mong ª ut стоит в форме древнего множественного числа от слова *mong ª ul , которое к XIII веку под действием закона прогрессивной ассимиляции в большинстве монгольских диалектов дало форму mong ª ol 16.
На страницах ряда других китайских источников при описании событий XI–XII веков (до появления Чингисхана) мы встречаем еще несколько транскрипций, в которых с большей или меньшей вероятностью можно признать искажения какого-нибудь из вариан- тов слова mongª ol 17. В «Сунмо цзивэнь» («Воспоминаниях о Сунмо») Хун Хао (1090–1155) отмечен некий народ мангуцзы; о нем сообщается, что его «кидани в своих записях событий называли Мэнгу го» 18. Е Лунли в «Цидань го чжи» («Истории государства киданей», 1180 год) упоминает о некоем «племени» мэнгу и владении Мэнгули, на юге от которого, «на расстоянии более четырех тысяч ли», находится Верхняя столица киданей 19. В «Ляо ши» под 1084 годом помещено известие о визите к императорскому двору посольства от «владения Мэнгу» 20. Сунский ученый Ли Синьчуань в сочинении «Цзяньянь илай чаое цзацзи» («Различные официальные и неофициальные записи о [событиях] периода правления Цзяньянь») писал: «Есть еще государство, которое [именуется] Мэнгу, находится к северо-востоку от чжурчжэней. При Тан их называли племена мэнъу, а также называют их и мэнгу. [Эти] люди не готовят себе пищу на огне и могут видеть ночью. [Они] делают доспехи из кожи акулы, способные отражать удары стрел. С годов правления Шао-син (1131–1162) они начали возмущаться. Главнокомандующий войсками Цзун-би (Вачо, или Учжу — 4-й сын Агуды) несколько раз подряд высылал против них войска, но [эти войска] не смогли их покорить. Тогда он разделил войска, которые заняли и стали удерживать стратегически наиболее важные пункты... С другой стороны, им были даны щедрые подкупы. Их государства [государь] также назвался цзуюань хуан-ди — “император — основоположник династии”. И если [им] дарили юношей и девушек, яшму и парчу, то враги, вспомнив о своих домашних делах, возвращали войска обратно» 21. В «Мэнда бэйлу» («Полном описании мон[голо]-та[тар]») Чжао Хуна, 1221 год) сказано: «В старину существовало государство Монгус. В незаконный [период правления] цзиньцев Тянь-хуй (1123–1134) [монгус] также тревожили цзиньских разбойников и причиняли [им] зло. Цзинь-ские разбойники воевали с ними. Впоследствии же [цзиньские разбойники] дали [им] много золота и шелковых тканей и помирились с ними» 22. Кроме того, китайские источники сообщают о двенадцатилетней (1135–1147 годы) войне между «монголами» (мэнгусы, мэнгу) и Цзинь, в результате которой цзиньцы вынуждены были уступить своим противникам 27 укреплений к северу от р. Сипинхэ (не поддается идентификации) и согласиться на ежегодную выплату им дани оленями, овцами, рисом, бобами и шелковыми тканями, а правитель «варваров» Аоло-боцзиле был признан «государем государства Мэнфу» (мэнфу го чжу). Не удовольствовавшись этим, он присвоил себе титул цзуюань хуанди и даже объявил свой девиз правления — Тяньсин («Подъем, [дарованный] Небом») 23. Данным сообщением, впрочем, сведения о нем и исчерпываются.
Указанные случаи употребления mong ª ol не позволяют говорить не только о наличии у обозначаемых им групп этничности в бартов-ском смысле слова (как «категории приписывания и идентификации со стороны самих акторов»), но и о существовании какой-либо связи между всеми носителями этого наименования. Нельзя даже быть уверенным, один и тот же референт имеют, к примеру, мангуцзы «Сунмо цзивэнь» и монгус «Мэнда бэйлу», или нет. Связь всех называемых «монголами» групп друг с другом и с мэнгу шивэй устанавливается чисто гипотетически, на основании сообщений о том, что «владение Мэнгули» находится к северу от киданьской Верхней столицы «на расстоянии более четырех тысяч ли» 24, а «государство Мэнгу» расположено «к северо-востоку от чжурчжэней» 25, что приблизительно соответствует предполагаемому региону проживания мэнгу и мэнва 26. Но как быть с «монголами» Чингисхана, чьи кочевья на территории нынешней Монголии находились гораздо западнее, чем ареал расселения одноименных им шивэй? Эта проблема волновала уже самих китайских авторов. Тот же Ли Синьчуань, живший в эпоху Чингисхана и знавший о существовании его державы, недоумевал, какое отношение современные ему «монголы» имеют к тем «монголам», которые воевали с цзиньцами и доставили им массу неприятностей. Свое недоумение он выразил в следующих словах: «Однако два государства жили на востоке и на западе [соответственно], и обе стороны глядели друг на друга на расстоянии нескольких тысяч ли. Не знаем, по какой причине [их] объединяют и [они] получили единое наименование» 27.
Однако для современных историков проблема, которую не мог разрешить Ли Синьчуань, не существует. Чтобы согласовать между собой разноречивые показания китайских источников «домонгольской» поры и текстов «монгольской» эпохи, Тамура Дзицудзо и Луи Амбис разработали теорию миграции. Согласно ей, «монголы»-шивэй из области своего первоначального расселения на северо-востоке Маньчжурии постепенно стали продвигаться к западу и к середине XI (по другой версии, к началу XII) века заселили степные пространства Монголии, в значительной мере обезлюдевшие после отхода уйгуров на запад и юг после разгрома их каганата кыргызами в 840 году; попутно наши герои якобы сменили господствующий тип хозяйства с охоты и свиноводства на пастушеское скотоводст- во 28. Теория нашла своих горячих сторонников среди отечественных ученых, которые стали активно выступать в ее защиту 29. Теперь она уже не подвергается критической рефлексии и тиражируется на страницах большого количества работ, поскольку считается чуть ли не официальной версией «ранней истории монголов». Между тем критика тут не только возможна, но и необходима, ибо теория миграции, базирующаяся на постулате тождества всех референтов термина «монгол», не имеет под собой ничего, кроме сомнительного ряда отождествлений. Лишь привычка смотреть на этничность как на некую «объективную» характеристику группы побуждает исследователей видеть «этногенетическую преемственность» там, где в лучшем случае усматривается общность названий.
Выше я несколько раз употребил выражение «монголы Чингисхана», и может создаться впечатление, что, Бог с ними, с мэнгу, мон-гус и прочими им подобными, — где-где, а уж в хорошо документированную эпоху Чингисхана можно будет выбраться из трясины не поддающихся проверке гипотез на твердую почву фактов и нащупать, наконец, «этнические коннотации» термина mongª ol. Однако и здесь не все так просто. Китайские источники сообщают, что название да мэнгу го (владение великих монголов) было принято для обозначения державы Чингисхана в 1211 году, перед его походом на Цзинь. Уже знакомый нам Ли Синьчуань пишет: «Когда монголы (мэн-жэнь) вторглись в государство Цзинь, [они] назвали себя великим монгольским государством (да мэн-гу го). Поэтому пограничные чиновники прозвали их Монголией (Мэн-гу)» 30. Другой сунский автор Хуан Дунфа добавляет интересные подробности: «Существовало еще какое-то монгольское государство (мэн-гу го). [Оно] находилось к северо-востоку от чжурчжэней. Во времена цзиньского Ляна (1150–1161) [оно] вместе с татарами причиняло зло на границах. Только в четвертом году нашего [периода правления] Цзя-дин [17.I.1211—4.I.1212] татары присвоили их имя и стали называться Великим монгольским государством» 31. То есть подвластные Чинги-су группы, по китайской традиции «татары», заимствовали название «монголы» у тех «монголов» цзиньской эпохи, о которых речь шла выше. И не более того! Ни о какой преемственности или «генетической связи» двух образований речь не идет. А южносунский посол Чжао Хун, ездивший в Пекин для переговоров с наместником Чингисхана в Северном Китае Мухали, называет и непосредственных авторов идеи окрестить недавно возникшую кочевую империю давно известным термином: «Еще [татары] восхищаются монголами как воинственным народом и поэтому обозначают название династии как «великое монгольское государство». [Этому] также научили их бежавшие чжурчжэньские чиновники» 32.
Термины да мэнгу го и просто да мэнгу встречаются в сочинениях и позднейших китайских авторов. Так, еще один сунский посол к «монголам» Пэн Дая пишет о том, что «государство черных татар (т. е. северного шаньюя) называется Великой Монголией ( да мэнгу. — П. Р. )» 33. Считается, что монгольским эквивалентом китайскому да мэнгу го служит выражение yeke mong ª ol ulus , впервые засвидетельствованное в тексте надписи на печати Г й к-хана (1246) 34. В среднемонгольских текстах оно использовалось для обозначения державы Чингисхана и его преемников (встречается в китайско-монгольских надписях 1335, 1338, 1346 и 1362 годов) 35.Однако в данном случае мы имеем дело с политонимом, к тому же понимаемым чрезвычайно широко (см. ниже); ни о каком «этническом субстрате», которому бы он соответствовал, говорить не приходится.
Конечно, китайские авторы могли и ошибаться, утверждая, что название «монгол» стало обозначать подданных империи Чингисхана только с 1211 года. Не вправе ли мы предположить, что у этого политонима был свой «этнический» предок в лице, скажем, названия одной из кочевых групп предчингисовой эпохи? Так представляет себе суть дела С. Г. Кляшторный, говоря о превращении в имперскую эпоху этнонима «монгол» в политоним 36. Аналогичную трактовку разделяют даже те ученые, которые не заявляют о своей принадлежности к числу сторонников теории миграции и не пытаются напрямую связать «монголов» Чингисхана с «монголами»-шивэй. Вот что пишет, например, Г. Дёрфер: «В монгольском “Сокровенном сказании” (XIII в.) “монголами” именуется небольшое племя (из которого, кстати, вышел Чингисхан), т. е. там это этноним» 37. В том же духе высказывается Дж. Флетчер: «монголы» доимперского периода — это «просто племя, доминирующее в одной из племенных конфедераций, населявших монгольские степи» 38. Оставим в стороне «колониальную» терминологию процитированных авторов (иначе я не могу рассматривать слово «племя») 39 и отметим лишь, что они придают термину mongªol некое «этническое содержание» (Дж. Флетчер прямо пишет об «этнических монголах» 40). Поскольку они ссылаются на текст «Тайной истории монголов» (далее ТИМ) — уникального монголоязычного источника, в котором освещается происхождение и деяния Чингисхана и отчасти его первого преемника г дэя (составлен предположительно в середине — второй по- ловине XIII века), — к этому источнику мы и обратимся с целью проверить валидность их утверждений.
II
Термин mongqol употребляется в ТИМ 38 раз (§§ 52, 57, 108, 126, 142, 174, 189, 190, 193-196, 202, 216, 248, 265–266, 272). Кроме того, дважды (§§ 3 и 202) встречается форма mongqoljin , образованная от mongqol при помощи аффикса = ¡ jin . Ни в одном из контекстов термин не выступает в качестве самоназвания какой бы то ни было группы, да и вообще в качестве обозначения, даже со стороны «других», этнической идентичности. Чтобы определить референцию слова mongqol в тексте ТИМ, разберем некоторые примеры его употребления, начав с тех, где эта референция наиболее прозрачна.
Получив известие о провозглашении Чингиса ханом, То’орил-хан кэрэитский (будущий Онг-хан) отправил ответное послание со словами: tem jin k n-i minu qan bolqaqu nai j b mongqol (здесь и далее выделено мной. — П. Р. ) qa ge n ker aqun (§ 126) 41 ‘Очень верно, что сделали ханом Тэм джина, моего сына 42. Как монголам быть без ка[ана]?’. Под «монголами» То’орил имеет здесь в виду тех, кто провозгласил ханом будущего Завоевателя мира. Событие это произошло после разрыва Чингисхана (в то время еще Тэм джина) со своим побратимом Джамукой. Тогда под его знаменами собрались представители следующих групп: джалайиров, таркутов, чан-ши’утов и байаутов, баруласов, манкутов, арулатов, урийанканов, бэс тов, сулдусов, конкотанов, нэ’ сов, олкунутов, короласов, д рбэнов, икирэсов, нойакинов, оронаров, ба’аринов (§ 120), а также гэнигэсов, джадаранов, нджин-сакайитов, дж ркинов и несколько «куреней» ( g re en ), названных по именам своих предводителей (§ 122). Эту-то конфедерацию, «сделавшую ханом» Чингиса, и именует «монголами» То’орил. Все перечисленные группы или части групп имели своих собственных лидеров, а главное — свои названия 43. Однако ТИМ применяет к ним коллективное наименование mongqol , как бы создавая тем самым видимость некой общности интересов этого разнородного объединения в борьбе с Джамукой. Ни о какой этнической группе «монголы» здесь не может быть и речи.
Тот же самый вывод действителен и в отношении противоположной стороны конфликта — конфедерации, возглавляемой Джаму- кой. В § 142 ТИМ сообщается о том, как войска Чингиса захватили «языка» и узнали, что jamuqa-yin manglan mongqol-aca a ucu-ba atur naiman-u buyiru[q]-qan merkid- n toqto a-beki-yin k n qutu oyirad-un quduqa-beki ede d rben jamuqa-yin manglan yabuju ui (§ 142) ‘в авангарде у Джамуки шли: от монголов — А’учу-ба’атур, найманский Буйиру[к]-хан, сын мэркитского Токто’а-бэки Куту, ойратский Кудука-бэки — эти четверо [шли] в авангарде у Джаму-ки’. Мы видим, что, в данном случае слово «монголы» относится не ко всему объединению, а лишь к его части. В § 141 ТИМ названы те группы, которые возвели Джамуку в достоинство гурхана (gr qa): кадагины, салджи’уты, д рбэн-татары, д рбэны, икирэсы, онгираты, короласы, найманы, мэркиты, ойраты, тайчи’уты. Если исключить найманов, мэркитов и ойратов, мы получим перечень групп, обозначенных в ТИМ как «монголы», притом что лишь часть этого списка совпадает с перечнем членов прочингисовской коалиции (д рбэны, икирэсы, короласы). Примечательно, что идущим в авангарде от «монголов» назван А’учу-ба’атур, который в других местах упомянут как тайчи’ут (§ 141: tayici ud-un...a ucu-ba atur-tan tayici ut; § 144: tayici ud-un a ucu-ba atur). Именно об этих этнических группах 44 (за вычетом д рбэн-татар, которые, согласно ТИМ, были разгромлены и вырезаны Чингисханом в 1201 году 45), перешедших вместе с Джа-мукой к Онг-хану после того, как последний также вступил во враждебные отношения с Чингисом, приближенный Онг-хана Ачик-Ширун говорит: mongqol-un olonkin jamuqa-lu a altan qucar lua bidan-tur bui tem jin-l e dayijiju qaruqsan mongqol qa a otqun tede (§ 174) ‘Большинство монголов с Джамукой, с Алтаном и Куча-ром здесь, у нас. А монголы, которые возмутились и выступили с Тэ-м джином — куда они уйдут!’. После разгрома Онг-хана Джамука перешел к найманам; и вот совокупность приведенных им людей вновь называется «монголами» в речи сына найманского Тайан-ха-на Г ч л ка: mongqol-un olon qa aca irej i mongqol-un olongkin jamuqa-lu a ende bidan-tur bui (§ 194) ‘Откуда взялось это множество монголов (имеются в виду «монголы» Чингисхана. — П. Р.)? Большинство монголов с Джамукой здесь, у нас’. Финал странствий «монголов» Джамуки излагается в § 196: после разгрома найманов и бегства самого Джамуки jamuqa-lu a aqsat jadaran qatagin salji ut d rben tayyici ut onggirat kiet tende-g oroba (§ 196) ‘бывшие с Джа-мукой джадараны, катагины, салджи’уты, д рбэны, тайчи’уты, он-гираты и прочие там же подчинились’. Так две группировки «монголов» были соединены в одну, во главе которой отныне стоял
Чингисхан. И именно из этого, уже объединенного, «монгольского народа» ( mongqol ulus ) он назначил девяносто пять тысячников ( min-qad-un noyad ) сразу после того, как вторично был провозглашен ханом в 1206 году; при этом каждый из назначенных принадлежал к какой-то особой этнической группе 46.
Примечательно, что коалиция Джамуки в ТИМ не получает общего наименования, подобного тому, которое применяется к образованию, сложившемуся вокруг Чингиса. Легитимность этой коалиции ставится под сомнение даже на концептуальном уровне: ей отказано в коллективном имени, ибо большинство ее членов — это те же «монголы», единственным законным правителем которых ТИМ старается изобразить Чингисхана. Неудивительно, что в конце концов они присоединяются к «собратьям» по названию. Интересно, однако, что в рядах воинства Джамуки под отдельными именами названы найманы, мэркиты и ойраты. Предположительное объяснение этой странной дихотомии — «монголы» versus «не-монголы») я попытаюсь дать ниже; пока же стоит отметить, что в ТИМ наблюдается общая тенденция ставить mongqol в своего рода оппозитивные пары с какими-нибудь другими коллективными названиями. Перечислим эти оппозиции в порядке их появления в ТИМ.
«Монголы» vs кэрэиты
-
§ 126. Онг-хан кэрэитский говорит о «монголах»: ta ene eye-ben bu ebdetk n ‘ Вы не нарушайте это свое согласие (относительно избрания ханом Чингиса. — П. Р. )’.
-
§ 174. Из речи кэрэитского Ачик-Шируна: mongqol -un olonkin... bidan-tur bui ‘Большинство монголов... у нас ’.
«Монголы» vs найманы
-
§ 189. Tayang-qan g ler n... bida otcu tedeket mongqol-i abci-raya... tede mongqol-tur otcu qor anu maqa abciraya ‘Тайан-хан (найманский. — П. Р. ) сказал: « Мы пойдем и приведем этих монголов ... Пойдем на этих монголов и, может быть, принесем их колчаны»’.
-
§ 190. Torbi-ta neret elci... glej ilrn... tedeket mongqol-un qor anu abuya ‘[Тайан-хан] отправил... посла по имени Торби-Таш... со словами: «...Захватим их, этих монголов, колчаны»’.
-
§ 193. Naiman-u qara ul... gleldrn mongqol-un aqtas turuqat ajuu ‘ Найманские караульные... сказали друг другу: «Мерины у монголов тощие»’.
§ 194. Tayang-qan... gclk-qan k n-d r-iyen kelelej ilrn mongqol-un aqtas turuqat aju ui... mongqol olon aju ui... ed e bida... qamtudun bara asu qara nid n-iyen hirmes l kikn tede qacar-iyan qatquldu asu qara cisn qaru asu qaltaril gei qatanggin mongqol-tur qamtudu asu bolqu-yß... bidan-u aqtas tarqut bui... mongqol-un aqtas biqarda ulun niur de ere anu asqaya bida ‘Тайан-хан... послал сказать своему сыну Г ч л к-хану: «Мерины у монголов тощие... Монголов много... Теперь, если мы ... сцепимся [с ними] всерьез, они и глазом не моргнут; если [мы] сцепимся с суровыми монголами , не отступающими, [даже] если им пронзить щеку, [даже] если течет [их] черная кровь, будет ли [от этого что-нибудь]?... Наши мерины жирны... Мы изнурим монгольских меринов и ударим им в лицо»’.
§ 195. Из речи Джамуки: naimannkt mongqol-i jees esige-yin qodu l hle lk i-ece bleei ‘Друзья- найманы только и [говорили, что] если [они] увидят монголов , то не оставят [им] и кожи с ноги козленка’ 47.
«Монголы» vs «лесные народы»
§ 202. Завершающая список назначенных Чингисом тысячников фраза: hoy-yin irgen-ece anggida mongqol ulus-un minqad-un noyad-i cinggis-qahan-nu nereyid ksen yeren tabun minqad-un noyat bolba ‘[Они] стали девяносто пятью тысячниками, которых Чингис-ка’ан назначил тысячниками монгольского народа , за исключением лесных народов ’. Перечень этих «лесных народов» приведен в § 239: sibir, kesdim, bayit, tuqas, tenlek, t eles, tas, bajigid . Они были покорены сыном Чингиса Джочи во время военной кампании 1207 года.
«Монголы» vs китайцы
§ 248. Из речи цзиньского вельможи Онгин-чинсана: mongqol masi gctei-e irej bidan-u erek n omoqun qara-kitad-un j rced- n j yin- erkit ceri d-i daruju b reltele kiduju ui... ede bida basa cer-i t jasaju qarqa asu basa mongqol-a daruqda asu... ‘ Монголы , придя в большой силе, разбили наши отважные отборные войска jyin из кара-киданей и чжурчжэней и вырезали [их] до последнего... Теперь, если мы снова снарядим и выведем войска и если [они] снова будут разбиты монголами ...’.
§ 266. ˙ inggis-qahan jarliq bolurun... kitat irgen- altan-qan-nu itegelten ina ut mongqol-un eb ges eciges-i baraqsan qara-kitat jyin irgen aju ui ‘Чингис-ка’ан соизволил сказать: «...Доверенные любимцы китайского Алтан-хана — [это] кара-киданьские люди j yin, губившие предков (букв. ‘дедов и отцов’) монголов »’.
§ 272. Tolui-k n... g ler n... qahan aqa minu j [b] ese bolu asu olon mongqol ulus necirek n kitat irgen kibqangqun ‘Царевич То-луй... сказал: «...Если ка’ана, моего старшего брата, не станет, много монгольских людей осиротеет, а китайские люди будут очень довольны»’.
«Монголы» vs тангуты
§ 265. Тангутский Аша-гамбу говорит: ed e ber b es ta mongqol qatquldu a surcu qatquldusu keees ... ‘А сейчас, если вы, монголы , привычные к бою, скажете: «Сразимся!»...’.
Таким образом, анализ текста ТИМ приводит к выводу, что никаких «этнических» или «собственно монголов», о которых любят рассуждать объективистски настроенные авторы 48, просто не существовало. Термин mongqol во всех релевантных контекстах играет там роль не этнонима, а своего рода классификационной категории, куда включаются группы, провозгласившие Чингиса ханом или добровольно перешедшие на его сторону, как в случае с членами коалиции Джамуки. Однако полученные результаты ставят перед нами ряд вопросов.
-
1. Какое значение имеет противопоставление «монголов», с одной стороны, и кэрэитов, найманов, «лесных народов», китайцев, тангутов, ойратов и мэркитов, с другой?
-
2. Как согласовать между собой сведения китайских источников об официальном принятии названия mong ª ol в качестве обозначения державы Чингисхана в 1211 году и употребление этого термина в ТИМ применительно к более раннему периоду?
-
3. Почему в § 266 упоминаются какие-то «предки монголов» ( eb ges eciges ), хотя последние были явно разнородным образованием?
-
4. Что скрывается за термином qamuq mongqol ‘все монголы’ из §§ 52 и 57, где речь идет о временах якобы предков Чингисхана — Кабула и Амбакая?
Я хотел бы предложить экспликативную схему, которая, на мой взгляд, поможет найти ответы на данные вопросы, поместив свои выводы в некоторый более общий теоретический контекст.
III
Критикуя Ф. Барта за чрезмерное акцентирование внутригруппового аспекта этнической идентичности, Р. Дженкинс указывал на то, что эта идентичность может формироваться двояко — как изнутри, так и извне соответствующего сообщества. Внешнее определение, навязываемое группе некими более могущественными другими, может подвергаться интернализации и становиться столь же «реальным» компонентом групповой идентичности, как и разработанный самой группой образ себя. В этой связи Дженкинс предлагал аналитически различать собственно группы, которые являются, если использовать термин Барта, продуктом «самоприписывания», и категории, объем и природа которых определяются извне 49.
Правители многочисленных политических образований Центральной и Восточной Азии не опирались на теории символического господства, но прекрасно понимали, что «заставить принять свои обозначения — это весьма важный акт социальной власти» 50. Поэтому, например, китайцы, стремясь хотя бы концептуально нивелировать различия между разнообразными «варварами» и заставить их подчиниться некоему единому наименованию, распространили название этнической группы татар 51, кочевавшей поблизости от границ Поднебесной, на все кочевое население современной Монголии 52. И вполне в этом преуспели: официальная классификация, внедряемая в практику чиновниками Срединной империи, в глазах кочевников издавна обладавшей легитимным правом на присвоение названий, стала престижной для самих категоризуемых, которые в конце концов ее благополучно и усвоили. По словам Рашид ад-Дина, «из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами. И те различные роды полагали свое величие и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны под их именем» 53. С. Г. Кляштор-ный писал о «татарской эпохе» в истории Центральной Азии 54; этот термин соответствует сути дела только в том случае, если не забывать, что данная «эпоха» получила название от определенной китай- ской категории, которая со временем превратилась в имя размытой и аморфной кочевой идентичности 55.
Еще более серьезно проблема символической унификации стояла перед руководством новообразованной империи Чингисхана, населенной «народами девяти языков» ( yis n keleten irgen ) 56, неустойчивое объединение которых держалось только на лояльности харизматической фигуре Чингиса. Необходимо было внушить всей этой разношерстной совокупности этнических групп чувство естественности объединения под знаменами Завоевателя мира, и первым шагом в указанном направлении стало принятое по совету цзиньских перебежчиков решение окрестить недавно возникшую политию старым и хорошо известным китайцам термином mong ª ol . Какими соображениями руководствовались Чингис и его окружение, заимствуя этот термин у «монголов» XI–XII веков, сказать сложно. Видимо, решающим фактором здесь послужило то обстоятельство, что прежние «монголы» тоже воевали с Цзинь , а значит, установив фиктивную связь с ними, можно было представить нападение на чжурчжэньскую империю, которое произошло в том же 1211 году, как освященное авторитетом прошлого предприятие — якобы месть за погубленных цзиньцами «предков» ( eb ges eciges ) 57. К тому же требовалось покончить с официальной классификацией цзиньцев, объединявших все степные народы под рубрикой «татары», путем демонстративного переименования их в «монголов» и разработки эффективных способов сделать новую номинальную идентичность значимой для тех, кому она была приписана. Номинация же «татары» подлежала ликвидации хотя бы потому, что она безусловно ассоциировалась с подчиненным и зависимым по отношению к Китаю положением разделявших ее групп. На это недвусмысленно указывает Рашид ад-Дин: «В то время татарские племена были весьма многочисленны и могущественны, однако постоянно выказывали покорность государям Хитая и Джурджэ» 58. Знаки этой покорности, какой бы символической она ни была, и хотел стереть Чингисхан: он не мог допустить, чтобы его держава, претендовавшая на мировое господство, сохранив название «татары», тем самым сохранила бы и видимый след прежней вассальной зависимости своего населения от ненавистных цзинь-ских властей.
Но смена официальных классификаций и замена одних легитимных обозначений на другие — затяжной процесс. Прежняя цзинь-ская классификация была твердо усвоена. Сунский чиновник Чжао
Хун, посетивший «монголов» в 1221 году, то есть через 10 лет после их «изобретения», с удивлением отмечал: «[Я], Хун, лично замечал, как их временно замещающий императора (Чингиса. — П. Р. ) го-ван Мо-хоу (Мукали. — П. Р. ) каждый раз сам называл себя «мы, татары»; все их сановники и командующие [также] называли себя «мы...» <Подозреваю, что [после этого слова] пропущено три иероглифа: «да-да жэнь».> Они даже не знают, являются ли они монголами и что это за название (sic! — П. Р. ), что такое название династии и что такое название годов правления» 59. Чуть выше он пишет: «Нынешние татары очень примитивны и дики и почти не имеют никакой системы управления. [Я], Хун, часто расспрашивал их [об их прошлом] и узнал, что монголы уже давно истреблены и исчезли» 60. На основании этих сообщений Ж.-Ф. Желэ делал закономерный вывод: «В 20-х гг. XIII в. слово mong ª ol на уровне ментальностей еще не воспринимается как этноним и не рассматривается как политоним; оно еще не является основой социально-политической идентификации разных кочевых групп» 61.
Основу предстояло создать. Имперская идеология внедряет идею о естественности и предопределенности вхождения этих «разных кочевых групп» в состав державы Чингисхана. В ТИМ сам основатель империи заявляет о наличии у них общих «предков» ( kitat irgen-altan-qan-nu itegelten ina ut mongqol-un eb ges ecigesi-baraqsan qara-kitat jyin irgen aju ui (§ 266) ‘Доверенные любимцы китайского Алтан-хана — [это] кара-киданьские люди j yin , губившие предков (букв. ‘дедов и отцов’) монголов ’). А также о наличии общих обычаев ( mongqol-un t r noyan mr beki bolqui yosun ajuui (§ 216) ‘ Принцип монголов — [это] обычай , по которому путь нойана [заключается в том, чтобы] становиться бэки’). А в § 194 в речи найманского Тайан-хана рисуется образ монголов-воинов, «не отступающих, [даже] если им пронзить щеку, [даже] если течет [их] черная кровь» ( qacar-iyan qatquldu asu qara cisn qaru asu qaltaril gei ). Это один из способов создания позитивного образа «монгольской» идентичности в глазах ее носителей.
Другой стратегией конструирования монгольской идентичности, применявшейся имперской правящей элитой, была манипуляция идеей ее «общего происхождения» с подвластным ей населением. Южносунский посол Сюй Тин, посетивший Монголию в 1235–1236 годах, сообщает: «[Татарский правитель] обычно называет татар “своей костью”» 62. Переводчик китайского текста Н. Ц. Мункуев замечает, что выражение «своя кость» является эквивалентом мон- гольского ber- n yasun 63. Слово yasun ‘кость’ издревле служило в Центральной Азии для обозначения патрилинейного родства и с такими коннотациями сохранилось у монголоязычных народов вплоть до наших дней 64. Подобного рода факты дали основание Л. Крэйдеру писать о наличии у средневековых монголов «кровнородственного государства», где «император и подданный могли быть кузенами десятой или двенадцатой степени по мужской линии» 65. Я бы предпочел говорить об «идеологии родства», поскольку понятия «государство» и «кровное родство» были в равной степени чужды сознанию тех, кого называли «монголами» и кто в конце концов стал называть себя так сам. Ведь только «император» мог обращаться к какому-нибудь подданному как к «кузену» с целью мобилизовать его на выполнение одной из имперских повинностей, но не наоборот. Сконструированный из-за потребностей настоящего, принцип «общего происхождения» стал переноситься в прошлое: так, Рашид ад-Дин, писавший в начале XIV века, повествуя о временах Кабул-хана, «прадеда» Чингиса, сообщал, что монголы «все были его родственниками и были с ним заодно» 66.
В этой связи нельзя обойти вниманием очевидную генеалогическую манипуляцию, которая при внимательном рассмотрении обнаруживается в ТИМ. В линию предков Чингисхана включены некий персонаж по имени borjigidai mergen и его жена mongqoljin-qo’a (§ 3). Эта супружеская пара была бы ничем не примечательной среди перечня десятков мнимых линейных или коллатеральных родственников основателя империи, потомков божественной первоче-ты Б ртэ-Чин и Ко’ай-Марал, если бы не вопиюще прозрачная морфологическая структура имен указанных супругов. В обоих случаях она абсолютно гомологична: коллективное название (borji-gin или mongqol) + аффикс групповой принадлежности (=dai для лиц мужского пола, =jin — женского). Внутренняя форма рассматриваемых имен говорит сама за себя: она предполагает существование тех групп, от названия которых они образованы, с седой генеалогической древности. Однако мы видели, что в случае с группой, обозначаемой термином mongqol, это очевидно не так, о чем весьма красноречиво свидетельствует сама ТИМ (не будем забывать, что «монголы» вообще выведены там в качестве обобщающей категории, а не группы). Сомнения в глубокой хронологической укорененности возникают и по поводу borjigin. ТИМ противоречит сама себе, когда называет реальным основателем этой социальной общности Бодончара, отде- ленного от Борджигидай-мэргэна расстоянием в два поколения по нисходящей линии 67. Это второй и последний раз, когда борджиги-ны — а их историографическая традиция принимает за «клан» Чингисхана — встречаются в тексте нашего памятника. В то же время, потомки Бодончара, согласно той же генеалогии ТИМ, образовывали 19 отдельных групп, каждая со своим особым названием, и нет никаких следов того, чтобы у этих групп когда-либо существовала общая идентичность borjigin. Более правдоподобным выглядит утверждение Рашид ад-Дина: название борджигин впервые стало использоваться применительно к потомству Йис гэй-ба’атура, отца Чингисхана 68. Таким образом, в «генеалогической» части ТИМ мы имеем дело с намеренной архаизацией обоих рассматриваемых названий — борджигин и монгол — и символическим отображением через брак носящих их индивидов реалий имперской поры, когда ка’ан из линии борджигинов осуществлял власть над «монгольским народом» (mongqol ulus). Единственной функцией этого «алхимического брака», своего рода иерогамии (термин М. Элиаде), было оправдание и натурализация сложившегося в начале XIII века социального порядка посредством камуфлирования политических отношений господства — подчинения под отношения матримониальные (в которых роль подчиненной стороны отводилась именно представительнице монголов).
Монгольская держава возникла как бы из ничего, на пустом месте, сшитая из этнических лоскутов Чингисханом и его сторонниками 69. Она не имела прошлого, которое является излюбленным объектом манипуляций всевозможных «дискурсов идентичности». «Интерпретации истории весьма значимы для идеологий, оправдывающих, усиливающих и поддерживающих определенные этнические идентичности» 70. Но если истории нет, ее следует изобрести. И она была изобретена. Термин «монгол» в ТИМ мы впервые встречаем в § 52, который гласит: qamuq mongqol-i qabul qahan meden aba qabul qahan-nu qoyina qabul-qahan-nu ge-ber dolo an k diyen b etele sengg m-bilge-yin k n ambaqai qahan qamuq mongqol-i meden aba ‘ Всеми монголами ведал Кабул-ка’ан. После Кабул-ка’ана, по слову Кабул-ка’ана, хотя [у него] были свои семь сыновей, всеми монголами ведал Амбакай-ка’ан, сын Сэнг м-Бил-гэ’. Данный параграф занимает важное положение в тексте ТИМ: он завершает собой «генеалогическую» часть сочинения, где излагается, порой только в виде простого перечисления имен, родословная
«предков» Чингисхана от Б ртэ-Чин и Ко’ай-Марал, рожденных «с судьбой от Вышнего Неба» ( de ere-tenggeri-ece jayaatu 71), до поколения его «прадеда» Кабул-ка’ана; он же открывает собственно «повествовательную» часть, посвященную деяниям ближайших «предков» Чингисхана и событиям его жизни. Что же скрывается за дважды упомянутым в этом важном параграфе термином qamuq mongqol ? Он встречается в ТИМ еще раз ниже, в § 57, где говорится об избрании Кутулы в ка’аны после гибели Амбакая в плену у цзинь-цев: ambaqai-qahan-nu qada an qutula qoyar-i nereyitc ilkseer qamuq mongqo[l] tayici ut onan-nu qorqonaq-jubur quraju qutula-yi qahan bolqaba mongqol-un jirqalang de[b]sen qurimlan jirqaqu blee qutula-yi qa erg et qorqonaq-un saqlaqar-modun horcin qabirqa-ta ha ulqa (?) ebdk-te lkek boltala debseba ‘Поскольку Амбакай-ка’ан назначил Када’ана и Кутулу, все монголы -тайчи’уты 72 собрались в ононском Корконак-джубуре и сделали Кутулу ка’аном. Радость у монголов была в том, чтобы радоваться пирами и плясками. Возведя Кутулу в ка[аны], [они] плясали вокруг развесистого дерева на Корконаке до того, что выбоины образовались до ребер, а пыль [поднялась] до колен’. Потом Када’ан и Куту-ла пытаются — хотя и не очень удачно — отомстить татарам за выдачу теми Амбакая цзиньскому двору.
На мой взгляд, под «всеми монголами» в приведенных пассажах имеется в виду то образование, которое известно китайским источникам XI–XII веков главным образом из-за его войн с Цзинь и которое, строго говоря, никакого отношения к «монголам» Чингисхана не имеет. К началу XIII века, когда Чингис завершил устроение своей кочевой державы и приступил к «усмирению» народов оседлого мира, от былого могущества грозных мэнгу~мэнгусы не осталось и следа, а сами они исчезают со страниц китайских хроник. По-види-мому, славное «владение мэнгу» постигла обычная участь «варварских царств» на границах Поднебесной — гибель отчасти под ударами внешних врагов (татар — непонятно, в смысле группы или категории — в союзе все с теми же цзиньцами), а отчасти из-за внутренних неурядиц 73. Однако потребность в удревнении недолгой истории «монгольского народа» в том значении, которое придавали этому выражению Чингисхан и его хитроумные китайские советники, побудила прибегнуть к элементарной исторической фальсификации. И вот уже ТИМ изображает лидеров канувшего в Лету политического образования как предков Чингисхана, а самого Чингисха- на — восстановителем той державы, якобы носившей название «все монголы», которой эти «предки» управляли. О таком «ретроспективном» употреблении термина mongqol свидетельствует само его лексическое окружение: и детерминатив «все», который не мог употребляться в паре с названным термином раньше, чем Чингисхан объявил себя единственным легитимным правителем «монголов» 74, и примененный к Амбакаю титул qamuq-un qahan ‘ка’ан всех’ (§ 53), отражающий универсалистское восприятие Монгольской империи ее лидерами в XIII–XIV веках (сам титул qahan был «пожалован» этим «предкам» Чингисхана и ему самому задним числом, ибо официальное принятие его в качестве обозначения лидера империи относится к 1229 году 75). У нас нет серьезных доказательств в пользу того, что между Амбакаем и Кутулой, с одной стороны, и Чингисханом, с другой, существовала реальная родственная связь 76.
Идентичность мало создать; чтобы она обрела силу мощного социального ресурса, требуется ее подтверждение со стороны «значимых других». «Если какая-либо группа решит представить себя особой этнической общностью с уникальной культурой и общим происхождением, то для представления ее этнической категорией необходимо признание ее таковой окружающими» 77. Но на худой конец можно сконструировать себе как этих «окружающих», так и то признание, которое «мы-идентичность» получает от них. Желание провести такого рода «воображаемую дихотомию», на мой взгляд, объясняет серию оппозиций между «монголами» и некоторыми «настоящими» (возьмем это слово все же в кавычки) этническими группами в ТИМ. Кэрэиты, найманы, мэркиты, ойраты, найманы, «лесные народы», китайцы и тангуты были реальными сообществами, осознающими себя в качестве таковых; не то с «монголами». Но раз «настоящие» этнические группы оказываются противопоставленными «воображаемой», последняя уравнивается с ними в своей реальности. Конечно, в пору юности Чингисхана указанные группы не могли употреблять термин mong ª ol и противопоставлять себя его носителям просто потому, что ни термина, ни «монголов» не существовало. Но ретроспективно «настоящих» заставляют это делать — возможно, еще и в наказание за то, что в свое время они оказали упорное сопротивление Чингисхану (в отличие от «монголов» ТИМ). Рашид ад-Дин прямо писал, что «тюрки-монголы» (он помещал «монголов» в более общую категорию «тюрков») «не особенно уважают» некоторые из «племен» за то, что «род Чингиз-хана, [члены]
которого суть государи монголов, силою всевышнего бога покорил и ниспроверг их» 78.
Для эпохи расцвета державы Чингисидов, когда составлялась ТИМ, подобное противопоставление было уже абсолютно нерелевантным: прежние заклятые враги благополучно пребывали в лоне громадной империи наравне со своими победителями и даже активно претендовали на то, чтобы именоваться «монголами». «В настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, поскольку они суть монголы, — [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангу-там и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, — все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени. Их теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов (sic! — П. Р. ) и именуются [этим] именем, — а это не так, ибо в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен» 79. С именем «монгольской» идентичности произошла занимательная трансформация: став обозначением обширной державы, раскинувшейся «от восхода солнца до его захода», термин mong ª ol приобрел престижные коннотации и превратился в нечто вроде статусного индикатора, обладание которым давало право на пользование определенными «корпоративными привилегиями».
Несколько слов о роли, которую играла в создании монгольской идентичности письменность. Заимствованный в начале XIII века уйгурский алфавит стал официальной письменностью империи и оставался ею на всем протяжении существования последней, хотя несколько раз предпринимались попытки заменить его более совершенной системой письма. Он не отражал в полной мере фонетическую реальность ни одного из существовавших тогда диалектов монгольского языка и вместе с тем годился для письменной коммуникации между носителями каждого из них 80. Объединительная функция уйгурского письма была очевидной, поэтому оно преврти-лось в обязательный компонент образования в школах на территории империи. Так, Сюй Тин, проезжая через захваченный «монголами» Северный Китай, отмечал: «В яньцзинских городских школах в большинстве случаев преподают уйгурскую письменность, а также перевод с языка татар» 81. Более того: предпринимались попытки переименовать «уйгурское» письмо в «монгольское» и тем самым согласовать название официальной письменности с именем офици- альной идентичности. Плано Карпини, ездивший в Монголию в 1245–1247 годах, писал: «Татары приняли их (уйгуров. — П. Р.) грамоту, ибо прежде не имели никаких письмен; теперь же эту грамоту именуют монгальскою» 82.
По словам Р. Дженкинса, «по-видимому, не имеет смысла говорить об этничности, если последняя так или иначе не осознает себя как таковую» 83. Как следует из слов Чжао Хуна, «сановники» Чинги-са еще в 1221 году не знали, «являются ли они монголами», поэтому мы тоже не вправе использовать слова «этничность», «этноним» и прочую однокоренную лексику в рассуждениях о значении термина mong ª ol до указанного времени. Но в результате политики конструирования идентичности, проводившейся властями империи, ситуация мало-помалу изменилась. О способах, которыми творцы монгольской идентичности сумели сделать изобретенную ими категорию значимой для социального опыта категоризуемых, нам остается только догадываться, хотя факт в том, что интернализация все-таки произошла. Позволю себе одну небезынтересную аналогию, возможно, проливающую свет на то, как транслировалась идеология идентичности. Армянский хронист Киракос Гандзакеци приводит следующие сведения, касающиеся передачи легенды о «небесном происхождении» Чингисхана в среде наконец-то осознавших себя «монголов»: «Но обычно они рассказывают вот что: государь их — родственник бога, взявшего себе в удел небо и отдавшего землю хакану . Говорили, якобы Чингис-хан, отец хакана , родился не от семени мужчины, а просто из невидимости появился свет и, проникнув через отверстие в кровле дома, сказал матери [Чингиса]: «Ты зачнешь и родишь сына, владыку земли» 84. Говорят, так он и родился. Эту [легенду] рассказал нам ишхан Григор, сын Марзпана, брат Асланбега, Саргиса и Амира из рода Мамиконянов, который сам слышал ее как-то от одного знатного человека, по имени Хутун-ноин, из [татарской] высшей знати, когда тот поучал молодежь» 85. Вероятно, посредством такого «поучения» «монголам» и внушили мысль, что они монголы.
Если наместник Чингисхана в Северном Китае еще называл себя при обращении к Чжао Хуну «Мы, татары...», то Гильому де Рубру-ку, в 1253–1255 годах совершившему поездку в центр империи, довелось воочию узреть эффект «натурализованной идентичности». Когда он как-то назвал Сартака, сына Бату-хана, «христианином», ему был сделан выговор: «Прежде чем нам удалиться от Сартака, вышеупомянутый Койяк (приближенный Сартака. — П. Р.) вместе со многими другими писцами двора сказал нам: “Не говорите, что наш господин — христианин, он не христианин, а моал” 86, так как название “христианство” представляется им названием какого-то народа. Они превознеслись до такой великой гордости, что хотя, может быть, сколько-нибудь веруют во Христа, однако не желают именоваться христианами, желая свое название, т. е. моал, превознести выше всякого имени; не желают они называться и татарами» 87. Показательны как устойчивая идентификация «монголов» со своим названием, так и решительный отпор попытке неосознанной «альтернативной категоризации» со стороны Рубрука. По-видимому, более ранний этап интернализации монгольской идентичности отражает сложная форма «мугал-татары», которую использовал в своем труде уже упоминавшийся Киракос Гандзакеци, чьи первые контакты с монголами состоялись в конце 1230-х годов 88. То время, судя по всему, характеризовалось существованием «смешанной идентичности», когда старая китайская категория «татары» еще не полностью была изжита новой, «туземной» идентичностью «монголы». Однако вскоре официальная классификация одержала верх, и тот же Рубрук не преминул отметить: «Отсюда упомянутые моалы ныне хотят уничтожить это название (татары. — П. Р.) и возвысить свое» 89.
В соответствии с логикой присущего той эпохе образа мышления символическая аннигиляция социальной категории не могла восприниматься иначе, как физическая аннигиляция входивших в нее людей. Будоражащие душу истории об истреблении татар Чингисханом, приведенные в ТИМ и у Рашид ад-Дина90, носят, на мой взгляд, подобного рода аллегорический характер. Показательно, что, живописав «всеобщее избиение татар» грозным монгольским правителем, Рашид ад-Дин тут же отмечает: «Однако в начале державы Чингиз-хана и потом каждое из монгольских и немонгольских племен [брали у татар] себе и для своего рода девушек, а им давали [своих]» 91. Очевидное противоречие между этими двумя фактами, видимо, смущало самого великого персидского историка, который попытался дать ему логическое объяснение: мол, «некоторое количество» татар осталось и после уничтожения основной массы татарского «племени», и эти-то счастливцы якобы и дали начало позднейшим, пост-чингисовым татарам 92. Такое рационализированное толкование, быть может, позволяет уяснить факт существования татар после чудовищной расправы над ними, но уж никак не их довольно престижный статус брачных партнеров линии Чингисхана, выражавшийся, в частности, в том, что «в каждой орде и в каждом улусе [из них] появлялись великие эмиры» 93. Однако указанное противоречие исчезает, если не принимать циркулировавшее среди кочевников предание о поголовной резне татар за исторически достоверное событие, а рассматривать его как некую нарративную форму, в которой они пытались доступным им образом выразить факт ликвидации официальной идентичности «татары». Татары были уничтожены как общая категория, а не как локальная группа; в этом последнем статусе они продолжали существовать после смерти своего мнимого палача так же, как существовали до нее.
Дальше — больше. Как мы уже имели возможность видеть, термин mong ª ol , благодаря своему престижному статусу, очень скоро стал предметом домогательств и притязаний со стороны тех, кого ранние формы официальной классификации решительно исключали из сферы охвата этим именем имперской идентичности. По сообщению Рашид ад-Дина, «ныне дошло до того, что монголами называют народы Хитая и Джурджэ, нангясов (жителей Южного Китая. — П. Р. ), уйгуров, кипчаков, туркмен, карлуков, калачей, всех пленных и таджикские (иранские. — П. Р. ) народности, которые выросли в среде монголов. И эта совокупность народов для своего величия и достоинства признает полезным называть себя монголами» 94. Чисто номинальный («называть себя») и инструментальный («признает полезным») характер такой идентичности вполне устраивал этих неофитов, получавших от своего обращения в монголы ощутимые символические, а быть может, и материальные блага («для своего величия и достоинства»).
Пример того, какого рода «пользу» можно было извлечь из обладания «монгольской» идентичностью, приводится в записках Сюй Тина, где говорится, что «такие важные дела, как походы, война и другие» решались лично ка’аном после совещания «со своей родней», «татарами», которых он называл «своей костью», притом что «китайцы и другие люди» к этим совещаниям не подпускались 95. Таким образом, статус «монголов» (Сюй Тин по старой привычке называет их «татарами») давал право, пусть даже большей частью номинальное, на участие в обсуждении важных государственных дел, в управлении империей, а «китайцам и другим людям» была уготована незавидная участь вечно занимать доминируемую позицию в имперском политическом пространстве. Сами китайцы прекрасно это понимали и всеми возможными способами старались избавиться от наиболее негативных для себя последствий подобной категоризации; дело доходило до того, что многие из них, движимые желанием получить зарезервированные за «монголами» административные посты, усиленно выдавали себя за тех, кого еще недавно презрительно именовали «варварами». И даже перенимали внешние атрибуты «монгольскости» (которые, впрочем, в другом контексте могли не иметь значения для определения кого-нибудь как «монгола») — язык, имена, одежду и пресловутые «обычаи». Эти маленькие хитрости вполне удавались, и новоиспеченные «монголы» добивались желанных должностей 96.
Помимо сугубо прагматических соображений, важную роль при такой смене идентичности играло желание быть допущенным в ряды «избранного народа», на которого Небо возложило миссию покорения всего мира, и соответственно быть оцениваемым по критериям, по которым оцениваются доминирующие. «Быть монголом» означало принадлежать к некому корпоративному сообществу, этакому, по выражению Б. Андерсона, «горизонтальному товариществу» 97, членам которого Плано Карпини посвятил замечательные строки: «Один достаточно чтит другого, и все они достаточно дружны между собою; и хотя у них мало пищи, однако они вполне охотно делятся ею между собою... Взаимной зависти, кажется, у них нет; среди них нет почти никаких тяжебных ссор; никто не презирает другого, но помогает и поддерживает насколько может, по средствам» 98. Настоящая идиллия социальной солидарности; однако за пределами этого сообщества действовали совсем иные поведенческие стандарты: «Они весьма горды по сравнению с другими людьми и всех презирают, мало того, считают их, так сказать, ни за что, будь ли то знатные или незнатные» 99.
Cама имперская идеология, впрочем, вполне допускала расширенное понимание «монгольской» идентичности. Дело в том, что выражение yeke mongªol ulus ‘народ великих монголов’ характеризовало все население империи безотносительно к его этнической или иной принадлежности. Становясь подданными ка’ана, индивиды или группы автоматически переводились в разряд «великих монголов», главой которых ка’ан и считался. Более того, на идеологическом уровне монгольская держава осмыслялась как в пределе совпадающая со всем миром. Недаром уже в ТИМ встречается такое выражение, как qamuq-un qahan ‘ка’ан всех’ (см. выше), а некоторые среднемонгольские тексты содержат примеры употребления термина delekei ulus ‘вселенский народ’ применительно к империи Чингиси-дов (китайско-монгольские надписи 1335 и 1346 годов) 100. Правители империи вообще слабо различали реальных и потенциальных подданных, считая свою власть универсальной 101. Поэтому bulªa irgen ‘мятежными людьми’ именовались те народы, которые еще не входили в орбиту этой власти, а значит, строго говоря, не могли быть и «мятежными» 102. Название «великие монголы» в таком универсальном значении выступало оператором политической мобилизации — позволяло соединять в рядах имперских армий людей самых разных языков и культур (в объективистском понимании этого последнего термина). Но наряду с таким «глобальным» вариантом официальной идентичности существовали более «дискриминационные» ее разновидности; с их помощью внутри «вселенского народа» так или иначе проводилась серия классификационных членений, «истинно монгольские» овны отделялись от прочей разношерстной массы козлищ («других людей» Плано Карпини). Одна из классификаций второго рода как раз и нашла отражение в ТИМ 103. Плюс к тому, номинация «монголы» вовсе не отменяла локальных этнических идентичностей — всех этих «племен» Рашид ад-Дина (точнее, его европейских переводчиков), которые существовали до Чингисхана и благополучно пережили его. Образовывавшие их люди, по-видимому, идентифицировали себя двояко: как «монголы» (в публичных ситуациях) и как члены соответствующих «общностей лицом к лицу» (при внутригрупповой интеракции). На существование такой двухуровневой идентичности указывает как употребление термина mongqo[l] tayici ut ‘монголо-тайчи’уты’ в § 57 ТИМ, так и тот факт, что в «Юань ши» («Истории [династии] Юань») слово мэнгу присоединяется в качестве определения к ряду «этнических» названий, к примеру, баргутов, конгиратов, татар, кэрэитов 104. В зависимости от обстоятельств артикулировался тот или иной уровень идентичности, а коллективная категория «мы» то сокращалась до размеров локального сообщества, то принимала поистине вселенские масштабы.
Любопытный пример сильно генерализованной категориальной дихотомизации можно обнаружить в грамоте М нкэ-ка’ана Людовику Святому. Ее латинский перевод имеется в сочинении Рубрука: «Вот слово, которое вам сказано от всех нас, которые являемся моа-лами, найманами, меркитами, мустелеманами... Во имя вечной силы Божией, во имя великого народа моалов это да будет заповедью Мангу-хана для государя франков, короля Людовика, и для всех других государей и священников, и для великого народа (saeculum) франков, чтобы они поняли наши слова» 105. Здесь обращает на себя внимание не только то, что охваченными общей «мы-идентичностью» оказы- ваются найманы и меркиты, которые в ТИМ последовательно рисуются как «они», а также абстрактно определяемые «мусульмане», но и то, что все названные субкатегории подданных ка’ана в качестве «великого народа моалов» выступают единым коллективным адресантом этого чрезвычайно значимого в политическом отношении послания, а роль адресата атрибутируется не менее расплывчатой политической категорией «великий народ франков». Подобными крупными коллективностями имперские власти манипулировали лишь в сношениях с внешним миром — разного рода «людьми bulª a». Их еще предстояло покорить; но, благодаря заключенной в придаваемом им названии символической уловке, они выставлялись как некогда уже находившиеся под властью ка’анов, получавших тем самым полное право затребовать «мятежников» обратно под свою эгиду. Во внутренней политике правящие слои империи предпочитали иметь дело с более дробными классификационными ячейками, связанными друг с другом сетью взаимных оппозиций и корреляций. В таком ракурсе «великий народ моалов» Рубрука и «монголы» в словоупотреблении ТИМ образуют собой своего рода крайние точки континуума форм «монгольской» идентичности, между которыми располагался целый ряд промежуточных вариантов, используемых в зависимости от потребностей текущей политической практики.
IV
Мой основной вывод: термин mongª ol становится именем некоторой идентичности (не решусь назвать ее «этнической», ввиду семантической нечеткости этого понятия) не ранее середины XIII века, когда с «монголами» начинают ассоциировать себя разные группы входящего в состав империи населения. До того, начиная с 1211 года, рассматриваемый термин использовался властными инстанциями для официального обозначения созданной Чингисханом державы, но оставался чужд даже отдельным представителям верхнего эшелона власти (таким, как Мукали), не говоря уже об основной массе подданных кочевого «императора». В IX–XII веках слово «монгол» обозначало какое-то другое образование на северо-востоке современной Маньчжурии и к «монголам» Чингисхана имело такое же отношение, как современный этноним «татары» к «татарам» имперской эпохи (и в групповом, и в категориальном смысле). Имело ли это образование «этнический» характер, нам неизвестно 106. А зна- чит, предлагаемая мною интерпретация семантического развития термина mongª ol прямо противоположна той, что принята в нашей науке (от «этнонима» к «политониму»). Зато она близка точке зрения Бартольда, считавшего, что «имя монгол... только при Чингиз-хане стало употребляться в качестве названия государства и династии, позднее — и как название народа» 107. Приходится только сожалеть, что эта точка зрения была оставлена в пользу более согласующейся со «здравым смыслом» (в одежды которого всегда рядится объективизм) миграционистской гипотезы.
Было бы интересно проследить дальнейшее развитие значения рассматриваемого термина в «постимперский» период, но эта задача выходит за те хронологические рамки, которые обозначены заглавием моей работы. Предварительно можно сказать, что после падения империи и утраты словом mong ª ol своих престижных коннотаций сфера его референции претерпела значительное сокращение. Те самые народы, которые прежде «полагали свое величие и достоинство» в том, чтобы называться «монголами», с уходом юань-ских хаганов в степи стали усиленно противопоставлять себя оставшимся лояльным Северным Юаням группам (преимущественно кочевым), за которыми и закрепилось старое «имперское» название mong ª ol . После свержения Юаньской династии власти новой династии Мин переняли прежнюю китайскую практику номинации кочевого населения Центральной Азии обобщающим названием дада ‘татары’. Правда, оно стало еще более референциально размытым, чем его доюаньский предшественник, ибо теперь им порой обозначались даже жители Средней Азии и чжурчжэни 108. Одновременно минские чиновники использовали целый ряд пейоративных обозначений, как, например, бэйлу ‘северные разбойники’, ху ‘варвары’ и т. п.109. Термин мэнгу ‘монголы’ в документах на китайском языке употреблялся весьма редко, но в монгольских текстах из «Хуаи июй» (1389) оппозиция «монголы» vs «китайцы» встречается неоднократно 110. Весь вышеприведенный терминологический ряд китайцы переводили на монгольский язык одним словом mong ª ol . В силу этого оно «заражалось» нечеткостью употребления, свойственной уничижительным терминам. Так, в китайско-монгольском словаре Минской эпохи «Бэйлу июй» китайское бэйлу передается через выражение yeke mong ª ol 111.
Показательна история с названием столь обильно цитировавшегося мною сочинения. Известно, что название «Тайная история монголов» (mongqol-un ni’uca to[b]ca’an) вряд ли было первоначаль- ным названием. Монгольский оригинал предположительно имел заглавие cinggis-qahan-nu huja’ur ‘Происхождение (букв. ‘корни’) Чингис-ка’ана’, которое теперь образует первую строку текста. Китайские ученые, занимавшиеся разбором дворцовых архивов после падения в 1368 году «монгольской» династии Юань, обнаружили это сочинение в закрытом для постороннего доступа отделении архива и потому назвали его «Юань биши» («Тайная история [династии] Юань»). Через 15–20 лет его решили использовать в качестве своего рода хрестоматии для подготовки переводчиков с монгольского языка и перетранскрибировали монгольский текст китайскими иероглифами. Тогда-то недавно присвоенное китайское название и было переведено на монгольский как «Тайная история монголов» 112. То, что учеными первых лет Мин воспринималось как история легитимной китайской династии Юань, китайскими переводчиками и транскрипторами 1380-х годов было переинтерпретировано как история «монголов» — опасных «северных варваров», присутствие которых на границах угрожало нарождавшейся «собственно китайской» идентичности.
Из всего вышеизложенного следует, что «этническая история» Центральной Азии XI–XIII веков оказывается на поверку ничем иным, как последовательной сменой двух систем классификации. Одна из них принадлежала чиновникам династии Цзинь («татары»), другая — чиновникам (в основном, цзиньским же ренегатам) империи Чингисхана («монголы»). При значительном сходстве в структурном и функциональном отношениях обе системы имели между собой принципиальное различие: первая осуществляла категоризацию за счет терминологического расширения этнонима «татары»; вторая изначально не несла в себе никакого «этнического» содержания и в качестве имени официальной категории заимствовало название некоего прежде существовавшего образования в СевероВосточной Маньчжурии, состав и природа которого неясны. Перипетии, связанные с заменой одной формы классификации другой, объясняют ту путаницу в названиях («монголы», «татары», «мугал-татары»), с которой мы сталкиваемся на страницах сочинений различных европейских и восточных авторов. Предложенная мною трактовка позволяет избавиться от этницистского уклона в современных номадологических исследованиях и привлекает внимание к таким важным и до конца теоретически не осмысленным процессам, как «вращивание» официальных классификаций в сознание категоризуемых, превращение «номинальной» идентичности в
«виртуальную», а «категории» в «группу». Политическое пространство Монгольской империи было местом оперирования целого ряда разнообразных символических стратегий, и суть одной из них как раз и заключалась в легитимном учреждении коллективностей при помощи актов номинации. Бурдьё был прав, называя классификации «формами господства» 113: на уровне языка и представлений они осуществляли то, что политическая власть стремилась утвердить в социальном мире, о котором говорил этот язык и по поводу которого создавались эти представления.
Список литературы Создание монгольской идентичности: термин «монгол» в эпоху Чингисхана
- Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 18.
- Таскин В. С. Материалы по истории ухуаней и сяньби//Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. С. 59.
- Викторова Л. Л. Монголы: Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. С. 21.
- Schneider D. M. American Kinship: A Cultural Account. Englewood Cliffs (N. J.), 1968.
- Ratchnevsky P. Les Che-wei étaient-ils des Mongols?//Mélanges de Sinologie offerts à Monsieur Paul Demiéville. Paris, 1966. T. 1. P. 249, 251
- Weiers M. Herkunft und Einigung der mongolischen Stämme: Türken und Mongolen//Die Mongolen in Asien und Europa/Hrsg. von S. Conermann, J. Kusber. Frankfurt am Main, etc., 1997. S. 31
- Barth F. Introduction//Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Ed. by F. Barth. Bergen; Boston, 1969. P. 10.
- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 250.
- Jenkins R. Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations. London, etc., 1997. Р. 53-54, 57, 60, 80-81, 166.
- Бурдьё П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 248-256.
- Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введ., пер. и коммент. В. С. Таскина. М., 1984. С. 135-141.
- Кычанов Е. И. Монголы в VI -первой половине XII в.//Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980. С. 138-139;
- Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. С. 175-176.
- Rachewiltz I. de. The name of the Mongols in Asia and Europe: A reappraisal//Études mongoles et sibériennes. 1996. Cah. 27. P. 200;
- Wittfogel K. A., Fкng Chia-shкng. History of the Chinese Society Liao (907-1125). Philadelphia, 1949. P. 91, note 2
- Hambis L. L'Histoire des Mongols avant Gengis-khan d'aprиs les sources chinoises et mongoles, et la documentation conservйe par Raљidu-d-'Dоn//Central Asiatic Journal (далее CAJ). 1970. Vol. 14. № 1/3. P. 128-129
- Tamura Jitsuzф. The Legend of the Origin of the Mongols and Problem concerning Their Migration//Acta Asiatica, 1973. Vol. 24. P. 5-6
- Васильев В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века, с приложением перевода китайских известий о Киданях, Джурджитах и Монголо-Татарах//Труды Восточного отделения Императорского Археологического общества. СПб., 1859. Ч. 4. С. 78-80, 161-164
- Шавкунов Э. В. Локализация гидронима Хэйшуй и проблема этнической принадлежности «амурских чжурчжэней»//Проблемы археологических исследований на Дальнем Востоке СССР: Материалы XIII дальневосточной научной конференции по проблемам отечественной и зарубежной историографии. Владивосток, 1986. С. 57-59
- Шавкунов Э. В. Еще раз об этимологии этнонима монгол//Древний и средневековый Восток. М., 1987. С. 166-167
- Кызласов Л. Р. Ранние монголы (к проблеме истоков средневековой культуры)//Сибирь, Центральная и Восточная Азия в средние века. Новосибирск, 1975
- «Краткие сведения о черных татарах» Пэн Да-я и Сюй Тина (Публ. Линь Кюн-и и Н.Ц. Мункуева)//Проблемы востоковедения, 1960. № 5. С. 136
- Кляшторный С. Г. Государства татар в Центральной Азии (дочингисова эпоха)//Mongolica: К 750-летию «Сокровенного сказания». М., 1993. С. 140.
- Дёрфер Г. О языке гуннов//Зарубежная тюркология. М., 1986. Вып. 1: Древние тюркские языки и литература. С. 80.
- Fletcher J. The Mongols: Ecological and Social Perspectives//HJAS, 1986. Vol. 14. № 1. P. 12-13.
- Rachewiltz I. de. Index To The Secret History of the Mongols. Bloomington, 1972;
- Блакар Р. М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирическое исследование языка и его использования в социальном контексте)//Язык и моделирование социального взаимодействия: Сб. ст. Сост. В. М. Сергеева и П. Б. Паршина. Общ. ред. В. В. Петрова. М., 1987. С. 101.
- Старинное монгольское сказание о Чингисхане/Пер. с китайского, с примеч., арх. Палладия//Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. СПб., 1866. Т. 4. С. 169-170
- Рашид-ад-дин. Сборник летописей. М.; Л., 1952. Т. 1. Кн. 1 (далее РСб 1/1). С. 102.
- Krader L. Formation of the State. Englewood Cliffs (N. J.), 1968. Р. 87.
- Krader L. Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads. The Hague, 1963. Р. 53, 55.
- Genghis Khan. The History of the World Conqueror by 'Ala-ad-Din 'Ata-Malik Juvaini/Transl. from the text of Mirza Muhammad Qazvini by J. A. Boyle, with a new introduction and bibliography by D. O. Morgan. Manchester, 1997. Р. 21
- Владимирцов Б. Я. Чингис-хан. Берлин и др., 1922. С. 12-13
- Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия//Соч. М., 1963. Т. 1. С. 447
- Бартольд В. В. Образование империи Чингиз-хана//Соч. М., 1968. Т. 5:
- Санжеев Г. Д. Монгольские языки и диалекты//Ученые записки Института востоковедения. М., 1952. Т. 4: Лингвистический сборник. С. 46-51.
- Джованни дель Плано Карпини. История монгалов//Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. Книга Марко Поло. М., 1997. С. 44-45.
- Jenkins R. Rethinking ethnicity: identity, categorization and power//Ethnic and Racial Studies, 1994. Vol. 17. № 2. P. 207.
- Киракос Гандзакеци. История Армении. Пер. с древнеармянского., предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М., 1976. С. 173.
- Serruys H. Remains of Mongol Customs in China during the Early Ming Period//Monumenta Serica (далее MS). 1957. Vol. 16. P. 142-143
- Serruys H. The Mongols in China during the Hung-wu period (1368-1398). Bruxelles, 1959. P. 162-163, 175.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 32.
- Cleaves F. W. The Sino-Mongolian Inscription of 1335 in Memory of Chang Ying-jui//HJAS, 1950. Vol. 13. № 1/2. P. 71, line 7;
- Voegelin E. The Mongol Orders of Submission to European Powers, 1245-1255//Byzantion, 1940-1941. Vol. 15. P. 403-406
- Sagaster K. Herrschaftsideologie und Friedensgedanke bei den Mongolen//CAJ. 1973. Vol. 17, № 2/4. S. 223-227, 238-242
- Легран Ж. Определение политического содержания «Монголын нууц товчоо» и установление даты его сочинения//Олон улсын монголч эрдэмтний IV их хурал. Улаанбаатар, 1984. Б. 1
- Histoire des campagnes de Gengis-khan, Cheng-wou ts'in-tcheng lou/Traduit et annotй par P. Pelliot et L. Hambis. Leiden, 1951. T. 1. Р. 6.
- Serruys H. The Mongols in China: 1400-1450//MS, 1968. Vol. 27. P. 235.
- Бурдьё П. Начала. Choses dites. М., 1994. С. 43.
- Vietze H.-P. The Title of the «Secret History of the Mongols»//CAJ, 1995. Vol. 39. № 2.
- Rachewiltz I. de. Some Remarks on the Dating of the Secret History of the Mongols//MS, 1965. Vol. 24;