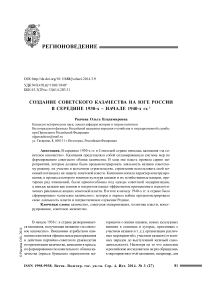Создание советского казачества на юге России в середине 1930-х - начале 1940-х гг
Автор: Рвачева Ольга Владимировна
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Регионоведение
Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
В середине 1930-х гг. в Советской стране началась кампания «за советское казачество». Кампания представляла собой спланированную систему мер по формированию советского облика казачества. В ходе нее власть провела серию мероприятий, которые должны были продемонстрировать лояльность казаков советскому режиму, их участие в колхозном строительстве, стремление использовать свой военный потенциал на защиту советской власти. Кампания носила характер конструирования, в процессе которого военная культура казаков и их хозяйственные навыки, претерпев ряд изменений, были приспособлены под нужды советской модернизации, а имидж казаков как воинов и патриотов нашел эффективное применение в идеологических рекламных акциях советской власти. В итоге к началу 1940-х гг. в стране было сформировано «советское казачество», которое в период войны продемонстрировало свою лояльность власти и патриотическое служение Родине.
Казачество, советская модернизация, политика власти, конструирование, советское казачество
Короткий адрес: https://sciup.org/14971945
IDR: 14971945 | УДК: 947(470.6)1930/1940 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2014.3.9
Текст научной статьи Создание советского казачества на юге России в середине 1930-х - начале 1940-х гг
DOI:
В начале 1936 г. в стране разворачивается кампания, получившая название «за советское казачество». Внешними атрибутами кампании становятся официальные распоряжения и действия партийно-советского руководства по презентации казачества, кампании в прессе, по формированию положительного облика казачества (пресса буквально переполнена ма- териалом о жизни казаков, новых культурных веяниях в станицах и хуторах, праздниках с участием казаков и т. д.), организации различных мероприятий с участием казаков (от военных парадов до выступлений казачьей самодеятельности). Несмотря на то что советские и российские исследователи не раз обращались к мероприятиям этой кампании, например, для анализа процессов, происходивших в среде казачества в советский период, по-прежнему актуальным остается вопрос о том, зачем советскому руководству, приложившему немало усилий для того, чтобы «растворить» казаков в общей массе крестьянства, понадобилось в 1936 г. вновь выделить казаков, обратить внимание на их «особость». Таким образом, цель данной статьи заключается в выявлении причин и анализе результатов политики власти в отношении казачества, проводившейся в середине 1930-х годов.
В отечественной историографии выделяется несколько причин, побудивших власть развернуть кампанию «за советское казачество».
-
1. Обострение международной обстановки. По мнению А.П. Скорика, перспектива будущей войны с Германией заставила И.В. Сталина привлечь симпатии казаков на сторону советского руководства и постараться максимально использовать их военно-патриотические навыки и традиции [19, с. 177]. Данной точки зрения придерживаются и другие отечественные историки (см.: [5, с. 263]).
-
2. Необходимость использовать хозяйственные навыки казачества в восстановлении животноводства, особенно коневодства, по которому колхозная система ударила особенно болезненно [26, с. 13]. В частности, С.М. Буденный в статье, опубликованной 17 февраля 1936 г. в газете «Молот», высказываясь в поддержку клубов ворошиловских кавалеристов, увязывал воедино необходимость развития кавалерии в нашей стране и развитие коневодства, которое должно было дать армии хорошую кавалерийскую лошадь: «…нельзя забывать, что страна нуждается в выращивании мощного конского поголовья, могущего преодолевать большие расстояния и готового к героическим боевым маршам» [10].
-
3. Необходимость демонстрации единства советского народа в связи с подготовкой к принятию Конституции 1936 года.
-
4. Политическая обстановка в Южнороссийском регионе, связанная с этнона-циональным составом населения. Казаков здесь власти хотели видеть в качестве социального резерва.
В поддержку этой версии причин говорят и многочисленные факты развернувшегося фактического соревнования за выращивание лучшего конского поголовья в казачьих колхозах. Интересно, что если судить по газетным материалам, то данная кампания напрямую связывается со статьей «Советские казаки», опубликованной 18 февраля 1936 г. в «Правде». Так, например, в апрель- ском номере «Правды» в статье «По станицам Северного Кавказа» встречаем такой сюжет из разговора казака-орденоносца со станичниками: «Когда обсуждалась передовая “Правды” о советском казачестве, колхозники поставили передо мной такой вопрос – где коня взять, как коня вырастить? Стали нажимать на меня – где жеребцов взять, у нас нет жеребцов таких, которые бы обеспечили производство хорошей кавалерийской лошади…» [12]. В другой статье приводятся следующие факты особого отношения казаков-колхозников к кампании по выращиванию лошадей: «Уход за лошадью стал особо почетным делом. Все колхозы стали подыскивать и покупать породистых, золотой масти жеребцов. “Дерутся” не только за взрослых производителей, ищут, где бы достать хотя бы породистого жеребенка. В колхозе “Красная победа” есть породистый по-луторогодовалый жеребенок донской породы. Когда заведующий конюшней узнал о решении правительства, он сам взялся ухаживать за этим жеребенком и никого к нему даже близко не подпускает. Председатель колхоза имени Кирова… разъезжал на паре хороших лошадей. Под напором колхозников эту пару выездных выменял теперь на одного жеребенка донской породы» [2].
Для активизации участия населения Юга России в этой кампании советско-партийное руководство Северо-Кавказского и АзовоЧерноморского краев предпринимало и специальные акции, например поход 100 всадников кавалеристов-казаков в Ростов к Краевой конференции. Предполагалось, что по маршруту до Ростова они будут проводить агитационную работу по выращиванию донской лошади [19, с. 178].
На наш взгляд, кампания «за советское казачество», конечно же, была вызвана комплексом причин. Но с точки зрения анализа условий, факторов и механизмов трансформа- ционных процессов, продолжавшихся в уже советском обществе, наибольший интерес представляет, прежде всего, ситуация с подготовкой общества к принятию новой Конституции в ноябре 1936 г., а также необходимость обращения к сохранявшемуся военно-культурному потенциалу казачества.
За период с 1918 г. по 1936 г. (после принятия первой Конституции Советского государства) в стране произошли существенные изменения в политической, экономической и социальной сферах. В экономике ведущую роль стал играть государственный плановый сектор, были ликвидированы остатки «эксплуататорских классов», изменился социальный состав рабочего класса, произошли сильные трансформации в крестьянской среде. Таким образом, объективно назрела необходимость внести изменения в Основной закон страны. В феврале 1935 г. Пленум ЦК ВКП(б) выступил с инициативой внести изменения в Конституцию, особенно это касалось уточнения социально-экономической основы общества на новом этапе и, соответственно, изменения в избирательной системе. Объективно Конституция должна была продемонстрировать окончательную победу советского строя и определить вектор дальнейшего развития страны.
Из текста будущей Конституции исключалась Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа, формировавшая основной принцип Конституции 1918 г. – принцип диктатуры пролетариата. Соответственно, признавалось исчезновение в структуре советского общества групп с ограниченными социальными правами (социально чуждых групп общества).
На фоне проведенной кампании по коллективизации проблема демонстрации единства советского народа в целях обоснования нового Основного закона для Советской страны представлялась довольно серьезной для власти. В процессе коллективизации между казаками и властью возникло вновь недоверие. Требовались определенные усилия для того, чтобы создать в казачьих регионах атмосферу (или хотя бы видимость таковой) дружбы и согласия, а самим казакам внушить мысль об их востребованности в рамках советской системы и навязать им идентичность лояльных к советской политике граждан. Сохранялась для власти и потребность укоренения в сознании казаков правильности колхозного строя.
В 1935 г. речи руководителей партийных организаций Северо-Кавказского и Азово-Черноморского краев изобилуют пассажами относительно того, что казачество стало колхозным. Секретарь Азово-Черноморского крайкома Б.П. Шеболдаев опубликует даже в периодической печати (а затем в виде отдельной брошюры) обширный материал под название «Казачество в колхозах». Основная мысль статьи – социальное преображение казачества, его полный разрыв с прошлым и превращение в советских колхозных казаков: «…ка-зачество, имевшее в прошлом ряд привилегий… на практике убедилось в преимуществах колхозов над старым средневековым порядком и окончательно встало на путь нового строя. В основной массе казачества произошел коренной перелом» [27, с. 10].
Начало кампании исследователи отсчитывают с совещания животноводов, проходившего в Кремле в феврале 1936 г., на который была приглашена делегация донских и терских казаков. На совещании, несмотря на присутствие и других делегатов из казачьих районов (которые также упоминали о своей казачьей принадлежности), особое место было отведено казачьей делегации. Члены делегации выступали в последней день заседания, активно демонстрировали свою «казачью» принадлежность в воинственных заявлениях относительно готовности казаков защищать Советскую страну. Обращает на себя внимание и то, что казачью делегацию, спешно сформированную, доставляли в Москву на совещание на самолете. Это, с одной стороны, дает исследователям повод утверждать о внезапности и определенной спонтанности кампании «за советское казачество», а с другой стороны, на наш взгляд, свидетельствует о важности начавшегося процесса.
Всероссийское совещание передовиков животноводства закрылось 16 февраля 1936 года. А уже 18 февраля в газете «Правда» печатается статья «Советские казаки», провозглашая приятие казаками советского и колхозного строя. В статье содержались три основных идеологических установки, которые закрепляли необходимое власти восприятие социальной группой казаков советского строя, колхозного строя и фактически состоявшегося объединения разнородных социальных групп в единую общность – советский народ. В статье говорилось о том, что «основная и подавляющая масса казачества сжилась и сроднилась с колхозным строем, сжилась и сроднилась с советской властью», «казачество стало советским не только по государственной принадлежности, но и по духу, по устремлениям, по преданности советской власти и колхозному строительству»; «казачество на практике убедилось в преимуществе колхозов над старым, средневековым, станичным порядком» [20]. Манифестация единства казаков со всем советским народом являлась, на наш взгляд, одной из важнейших задач статьи. Так, постоянно подчеркивается, что «казачество заняло свое место в рядах революционного народа, строящего социалистическую жизнь», «стало отрядом революционных сил, активным участником общего дела советского народа», «представители донского и терского казачества… поднялись на кремлевскую трибуну, приветствуемые восторженной овацией многотысячного собрания представителей народов всего Советского Союза. Весь съезд, во главе со Сталиным, с руководителями партии и правительства, приветствовал посланцев казачества и с величайшим вниманием и громадным воодушевлением выслушал их речи» и т. д. [там же]. Статья получила огромный резонанс в политической и общественной сферах. Азово-Черноморский крайком ВКП(б) в специальном постановлении обязал райкомы ВКП(б) ознакомить местное население со статьей и провести беседы о роли казачества в строительстве социализма [19, с. 200].
Краевые и окружные власти, словно по сигналу, начинают серию мероприятий прока-зачьей направленности, задача которых одновременно заключалась и в демонстрации «советскости» казаков. Так, Азово-Черноморский крайком проводит 13–14 марта торжественные мероприятия, цель которых – продемонстрировать внимание партийно-советского руководства к казачеству и одновременно «подчеркнуть тот факт, что казаки превратились в полноправных членов советского общества» [там же, с. 202]. Для этого в Ростов-на-Дону должны были прибыть три сотни ка- заков – по сотне донцов, кубанцев и терцев, планировалось устроить казакам торжественную встречу, украсить город флагами и плакатами, провести торжественное заседанием пленума горсовета, провести конноспортивные состязания, парад с участием казаков, осоа-виахимовцев, комсомольцев [25]. Затем начинаются ответные мероприятия в СевероКавказском крае. На 6 мая Северо-Кавказский крайком ВКП(б) и крайисполком запланировали проведение краевого народного праздника в связи с приездом в Пятигорск казаков Дона и Кубани.
-
5 мая 1936 г. в Пятигорске открылся праздник джигитов Северного Кавказа, в котором приняли участие представители всех национальных областей Северного Кавказа, казаки Дона, Кубани и Терека. Праздник должен был продемонстрировать единство и дружбу народов данного региона и их тесную связь с партией и советским руководством.
Газета «Правда» посвятила этому события несколько статей. Праздник открывался заседанием президиума краевого исполнительного комитета, которое происходило на стадионе. В «Правде» это описывалось следующим образом: «на стадионе “Динамо”, где происходило заседание, присутствовало 4 тысячи гостей. Одетые в красочные национальные костюмы, они представляли единую дружную семью народов многонационального Северного Кавказа…» [15].
-
6 мая на пятигорском ипподроме состоялся парад. Следует отметить, что все приветствующие парад партийные и советские областные и краевые руководители, в числе которых был секретарь Северо-Кавказского краевого комитета партии Е.Г. Евдокимов, встречали парад верхом на конях, одетые в черкески, а участников парада газета именует казачьими национальными сотнями джигитов: «Захватывающим было зрелище, когда начали проходить казачьи национальные сотни джигитов. Донцы, кубанцы, терцы, ставропольцы, кабардинцы, дагестанцы, карачаевцы, черкесы – все в национальных костюмах, все на быстрых конях» [там же].
Помимо идеолого-политических целей, праздник джигитов Северного Кавказа преследовал еще и хозяйственно-практическую цель, а именно пропаганду коневодства. В привет- ствии участников праздника тов. Сталину, в частности, говорилось: « …праздник джигитов, демонстрируя первые наши достижения, еще больше усилит и расширит работу в колхозах по выращиванию добротного кавалерийского коня. Праздник джигитов выдвинет новые тысячи мастеров коневодства, новые тысячи борцов за превращение Северного Кавказа в одну из основных баз выращивания кавалерийского коня для нашей родной, любимой героической Красной Армии» [15].
В Сталинградском крае проказачьи мероприятия имели не столь широкий размах, как в Северо-Кавказском и Азово-Черноморском краях, так как казачество здесь было представлено лишь тремя округами. Но и здесь краевое руководство (в лице И.М. Варейки-са) отметило важность поддержки казачества: «…мы ни в коей мере не преуменьшаем и превосходно понимаем все значение конницы в будущей войне… Нам необходимо воспитать для нашей конницы прекрасные кадры красных казаков» [17].
В тесной связи с демонстрацией единства казаков со всем советским народом находились действия власти по формированию имиджа колхозного казака, сглаживанию негативных впечатлений населения от методов коллективизации. Необходимо обратить внимание на то, что именно в 1936 г. в прессе обильно публикуется материал о богатой и зажиточной жизни в казачьих колхозах и письма казаков с благодарностью партии за счастливую колхозную жизнь. На наш взгляд, это может служить еще одним подтверждением той точки зрения, что именно принятие Конституции 1936 г. и необходимость идеологической обработки общества для проведения этого политического акта стали основной причиной начала кампании «за советское казачество».
В марте 1936 г. в газете «Молот» на первой странице была напечатана статья «Казачество колхозной Кубани». Основными положениями статьи являлись, во-первых, победа советской власти и колхозного строя в казачьем крае: «Кубань! Сколько надежд враги Советов… возлагали на кубанское казачество, сколько стараний... прилагали к тому, чтобы поднять трудовое казачество против большевиков, против колхозного строя. Но не сбылись вражьи помыслы!.. и нет сейчас больше сабо- тажной Кубани, есть колхозная Кубань, есть советское колхозное казачество, преданное до конца своей социалистической родине» [6]. Во-вторых, противопоставление советского колхозного позитива имперскому сословному негативу: «Никогда раньше не было однородного казачества. Атаманская и кулацкая верхушка измывалась над трудовыми казаками… эксплоатировала, обучала только военной муштре да пресмыканию перед царем, да наказными атаманами… А сейчас нет на советской земле казаков-эксплоататоров. Казаки Кубани так же, как и казаки Дона, как казаки Терека глубоко предана своему советскому государств». В-третьих, колхозное благополучие казачьих станиц: «Не та теперь казачья станица… Изменился ее облик. Стала она колхозной станицей, и жизнь в ней стала иной – радостной, счастливой, зажиточной» [там же].
А в апреле 1936 г. уже в центральной прессе, в газете «Правда», выходит большая статья «Колхозное казачество» с примерено такой же подборкой основных положений: «особенно замечательны успехи колхозов Дона, Кубани и Терека, то есть тех районов, где несколько лет назад классовая борьба была наиболее ожесточенной и где кулачеству удалось повести за собой значительные группы колхозников»; «колхозное казачество не знает другой родины кроме советской; советская власть – своя близкая родная власть, власть трудового народа и колхозное казачество – часть этого великого народа»; «колхозы уничтожили вражду, существовавшую между казаками-середняками и казачьей беднотой»; «казачество полностью убедилось в том, что колхозы несут зажиточную и культурную жизнь» [7].
Таким образом, в начале 1936 г. в центральной прессе выходят две программные статьи – «Советские казаки» и «Колхозное казачество», в которых содержались основные политические установки для казачьего сообщества и в целом для всего советского общества относительно разворачивания кампании «за советское казачество». Впоследствии основные идеи статей о том, что казачество стало советским и колхозным, будут настойчиво манифестироваться практически в каждом материале по казачьей тематике.
Кроме этого, образы советского колхозного казачества и его процветания становятся основой новых казачьих песен, а колхозное строительство – фактором расцвета народного творчества. В центральной прессе можно было встретить материал следующего содержания: «Огромные успехи края (Азово-Черноморского. – О. Р.) в развитии и укреплении колхозов и промышленности явились основой для небывалого расцвета народного творчества буквально во всех областях. В наших станицах и хуторах распевают десятки новых песен, сотни частушек, созданных народом, отображающих новую, радостную жизнь и воспевающих творца этой жизни великого Сталина» [22]. Характерный образ такой новой радостной жизни казаков воспроизводился в известной песне «Собирались казаченьки…» (текст был опубликован в «Правде» 1936 г.):
Собирались казаченьки, собирались на заре,
Думу думали большую на колхозном на дворе.
Если б нам теперь ребята в гости Сталина позвать,
Чтобы Сталину родному все богатства показать…
Как справедливо отмечает А.П. Скорик, кампания «за советское казачество» не означала восстановления казачества как особой социальной группы. Но интересно, что власти не только реализуют практику «растворения» казачества в крестьянской массе (и собственно манифестация советскости и колхозности казачества являлась частью этой практики), но и наблюдались обратные попытки своеобразного «оказачивания» населения Юга России. Власти предпринимали попытки объявить казаками все население Дона, Кубани, Терека и Ставрополья [19, с. 206]. Конструирование «казачьей» идентичности для населения Юга России предпринималось в практических целях распространения на всех жителей региона казачьих навыков. Как заявил Е.Г. Евдокимов на торжественном пленуме ростовского горсовета, «…Азово-Черноморье и Северный Кавказ – край огромных кавалерийских резервов. Люди, живущие здесь, – и казаки, и бывшие иногородние, должны быть прекрасными кавалеристами» [18].
В определенной степени кампания «за советское казачество» носила характер конст- руирования, целью которого было использование военно-хозяйственного потенциала казачества [19, с. 213]. В пользу этого, в частности, свидетельствует вышедшее 20 апреля 1936 г. Постановление ЦИК СССР «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА». В Постановлении говорилось, что, «учитывая преданность казачества советской власти», правительство считает необходимым «отменить для казачества все существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах Рабочекрестьянской Красной Армии (далее – РККА), кроме лишенных прав по суду» [14]. В продолжение этого 21 апреля 1936 г. нарком обороны маршал СССР К.Е. Ворошилов подписал приказ № 061, которым создавались казачьи кавалерийские дивизии.
Обращение к практике создания казачьих частей являлось логичным в ситуации, во-первых, роста напряженности международной обстановки и предпринимаемых в связи с этим советским правительством мер по улучшению военной подготовки всего советского народа. Именно на этот период падает бурное развитие военизированных кружков ворошиловских стрелков, рост популярности Осоавиахима и пр. У казаков, в частности, развивается движение по созданию клубов ворошиловских кавалеристов. Во-вторых, в 1935 г. начался новый этап реформирования кавалерии и увеличения численности стратегической конницы [16].
Два вышеназванных документа можно рассматривать как инструменты по легитимации и легализации казачьей службы. Для казаков это означало официальное признание нужности их военных традиций в новом государстве. Воскресение этих военных традиций означало и возможность сохранения (хотя бы и частичного) своей культурной идентичности.
С учетом того, что в рассматриваемый период для власти важно сформировать положительные образы советского общества, Постановление ЦИК и Приказ наркома обороны можно рассматривать как документы демонстрационного, идеолого-рекламного характера. Дело в том, что никаких специальных ограничений по службе на казаков советская власть не накладывала и на практике казаки и в 1920-х гг. служили в частях РККА и особенно активно призывались на службу после введения в 1925 г. территориально-милиционной системы. Наполняемость территориальных частей, особенно кавалерийских, казаками в 1920–1930-х гг. доходила до 70 %, и к 1936 г. через них прошло уже значительное количество казачьего населения Юга России. Важным нововведением станет то, что кавалерийские части, в которых будут проходить службу казаки, официально получат название «казачьих», будет введена особая форма для них, во многом очень напоминавшая былую форму казачьих частей. Все это свидетельствовало о продолжающемся процессе культурной трансформации, приспособления казачьей культуры к нуждам социалистической модернизации.
Оценить реальные результаты кампании «за советское казачество» сложно, так как основная часть информации – это газетные публикации, носящие в основном характер пропаганды, они сильно идеологизированы, и, соответственно, все, что относится к мероприятиям по советизации казачества, имеет однозначно положительную коннотацию. По справедливому замечанию А.П. Скорика, все задачи кампании могли быть реализованы только в том случае, если бы она встретила поддержку у казаков.
Мероприятия властей вызвали у казаков сначала растерянность: «почему так получается, что Советская власть искореняла казачество. А теперь о нем пишет в газетах и хвалит его» [4]. Но вскоре стало ясно, что деятельность властей по советизации казачества встретила положительное отношение со стороны большинства казаков на Юге России. В документах партийно-советского руководства встречаются упоминания о том, что казаки рассматривают кампанию «за советское казачество» как «крупнейший поворот в жизни казачества»[19, с. 217]. Такая реакция свидетельствовала не только об успехе кампании, но и о том, что трансформация системы состоялась.
Однако, на наш взгляд, не стоит забывать, что большинство документов, подтверждающих, по мнению А.П. Скорика, благожелательную реакцию казаков, – это официальные материалы, подвергшиеся соответствующей идеологической обработке. Так, центральная и местная пресса в 1936 г. бук- вально была переполнена материалами, рассказывающими о богатой жизни казачьих станиц. 23 октября 1936 г. в газете «Правда», а 24 октября 1936 г. в газете «Молот» вышла статья под названием «Победа колхозного казачества», в которой еще раз усиленно демонстрируется победа колхозного строя в казачьих станицах: «Этот год с особой силой показал... что значит победа социализма, победа сталинского плана реконструкции деревни. Миллионы колхозников и колхозниц… убедились, что только колхозный путь ведет к зажиточной и счастливой жизни… Советское казачество своей героической работой на колхозных полях продемонстрировало свою преданность делу социализма… свою готовность к обороне нашей матери-родины, к отцу колхозов и другу всех трудящихся – товарищу Сталину» [13].
Учитывая, что до ноябрьского VIII Чрезвычайного съезда Советов на котором принимался проект новой Конституции оставалось меньше месяца, еще раз публично закрепить установки для казачества на лояльность к власти было совсем не лишним. В статье отмечались все основные формы демонстрации того, что казачество стало советским в 1936 г.: «Сталинский устав сельскохозяйственной артели, встречи передовых казаков-колхозников с товарищем Сталиным на совещаниях в Кремле, снятие ограничений для казачества по службе в Красной Армии, образование специальных казачьих частей – все это укрепило позиции партийного руководства, вызвало огромный подъем советского казачества. Не узнать теперь казацких колхозов, тесной стеной сплотилось казачество вокруг партии и советской власти, казак узнал новую замечательную жизнь» [там же].
В советской прессе 1936 г. встречается много писем казаков с благодарностью к партии и правительству и заверениями в абсолютной преданности их советской власти. Характерный тон этих писем (бесчисленные восхваления мудрой политики партии и лично товарища Сталина), а также приемы их опубликования, когда донцы, кубанцы и терцы старались не уступить друг другу в выражении благодарности власти, позволяют говорить о спланированности подобных выражений радости и благодарности, а также о том, что, как и многие мероприятия, письменные реакции казаков на действия властей принимали форму кампаний и должны были усиливать эффект воздействия на настроения общества. Приведем два ярких, на наш взгляд, примера такой организации письменных откликов казаков. Первый – это письмо в газете «Северо-Кавказский большевик», подписанное 365 (!) «терскими казачками-матерями». Письмо было адресовано лично Сталину и содержало следующие слова: «Все эти дни мы охвачены невыразимой радостью и счастливым волнение от тех забот и внимания, какие проявляют партия, правительство и ты сам к нам – советским казакам и казачкам. Признаемся тебе, что долгое время стыдились мы этого имени, ставшего при кровавом царизме проклятым и зазорным… Никто теперь нас не обманет и никто нас не свернет с большевистского пути. Мы – казачки, вырастим родине и тебе, любимый Сталин, новое большевистское, казачье поколение…» [19, с. 218]. Второе письмо – письмо кубанских казаков товарищу Ворошилову, которое является ответной инициативой кубанцев на письмо донских казаков Литвинову (от 11 февраля 1936 г.). Начинается оно со слов: «Дорогой наш Климент Ефремович! Прочитали мы письмо донских казаков, написанное тов. Литвинову… Признаться вам, задето очень наше самолюбие тем, что не мы первые высказали общие мысли донского и кубанского казачества. Но наше задетое самолюбие успокаивается тем, что еще не поздно заявить вам, наш дорогой маршал, о нашей готовности дать удар клинком по голове, пикой проколоть каждому пузо, кто попробует пробраться через советскую границу…» [11].
Донское казачество округов Сталинградского края, так же как и казаки Азово-Черноморского и Северо-Кавказского края, демонстрировало преданность Советской стране и писало благодарственные письма в адрес местного и центрального руководства. Так, казаки-колхозники Подтелковского района в письме тов. Варейкису, описывая, как улучшилась жизнь советских донских казаков по сравнению с тем, что было раньше, постоянно подчеркивают заботу советской власти о казаках-колхозниках и свою готовность встать на защиту этой власти: «…донские казаки – верные сыны нашей великой, советской родины! Мы всегда готовы грудью встать за свое отечество… Пусть попробует враг напасть – донской казак отобьет ему охоту!» [21].
Таким образом, большинство газетных материалов скорее следует анализировать в контексте методов советской пропаганды, нежели рассматривать их как результат политики власти. Тем не менее определенная часть казачества (и, скорее всего, весьма значительная) действительно приняла советскую власть, советизировалась в ходе трансформационных процессов 1920-х – 1930-х годов. Быстрее всего советизировалась казачья молодежь, которая в силу объективных причин оказалась в новой политической, социальной и культурной обстановке. На нее в гораздо меньшей степени влияли прежние культурные образцы, она была более восприимчивой к новым модернизационным формам культуры (включая трансформацию повседневной жизни станицы), а кроме того, именно молодежь активно вовлекалась советской властью в новые социальные формы (служба в территориально-милиционных частях, прием в комсомол, привлечение молодых казачек к работе женотделов и т. д.).
Результаты советской трансформации отчетливо проявились в начале и в ходе Великой Отечественной войны. Германское командование при оккупации территорий Юга России рассматривала казаков как противников большевизма и искало возможности привлечение казачества на свою сторону. 15 апреля 1942 г. Гитлер разрешил использовать казаков для борьбы с партизанами как «равноправных союзников» [9, с. 266]. На Дону в октябре 1942 г. был создан штаб Войска Донского во главе с атаманом С.В. Павловым, который занимался организацией казачьих частей. Представители штаба выезжали в станицы и вели пропагандистскую работу, призывая казаков вступать в добровольческие сотни [8, с. 395–397]. В сентябре 1942 г. в Краснодаре началось формирование 7-й казачьей дивизии [9, с. 267].
По информации НКВД, в Сталинградской области «немцы очень крепко занимались пропагандой среди казачества и среди молодежи, проводили дифференцированно, сделали доклады… показывали кинофильм, как был взят город Сталинград» [23]. По свидетель- ству военнопленного немецкого офицера, политика германского командования, на территории Сталинградской области заключалась в том, «чтобы полностью уничтожить партийный и советский актив… обезвредить себя от всех недовольных германской армией и любой ценой завоевать на свою сторону казаков» [24].
Однако, несмотря на определенный успех в привлечении казаков-добровольцев на сторону вермахта, в целом, по оценкам исследователей, приток добровольцев был незначительным. Вступление казаков в такие части, прежде всего, было обусловлено неприятием политики советской власти, но, кроме этого, германское руководство применяло различные методы вербовки. Так, семьям казаков, вступивших в вермахт, выдавали денежное вознаграждение в размере 500 руб., могли выдавать земельный пай, снижали налоги и т. д. [9, с. 269].
Тем не менее приток добровольцев был все же намного ниже ожидаемого, и германское командование применило мобилизационные методы. Мобилизацию осуществляли через старост станиц под контролем немецких комендатур. Все уклонившиеся подвергались репрессиям вместе с членами семей. Но и мобилизационные меры оказались неэффективны в плане набора казаков в части вермахта [8, с. 409].
Например, в Чернышковском районе Сталинградской области уполномоченным «штаба» Войска Донского проводилась вербовка добровольцев в казачьи части. Результаты деятельности – 49 завербованных. Из-за наступления частей Красной Армии отряд распался. 21 человек ушел с немцами, 18 человек были арестованы НКВД. Отряд оружия не получил и никакой деятельности не осуществлял [1]. В Суровикинском районе офицер-белоэмигрант, казак Нижне-Чирской станицы, мобилизованный в немецкую армию, в разговоре с казаками о возрождении донского казачества в условиях немецкой оккупации заявил: «Ничего хорошего не будет…» В осторожной форме порекомендовал присутствующим держаться сплоченнее и никого не выдавать немцам из советских активистов: «Не надо разводить вражды между собой. Для немцев ничего не стоит расстрелять 10– 15 человек русских, а предательство, кроме как вечной вражды, ничего хорошего не даст». На высказывание присутствующие реагировали положительно [1].
Яркой иллюстрацией ситуации, сложившейся на казачьих территориях в зоне немецкой оккупации, являются, на наш взгляд, слова пленного немецкого офицера: «…мы все рассчитывали на то, что казаки выступят против большевиков. Но теперь я вижу, что мы не поняли душу русского казака и не учли тех двадцати пяти лет, которые сформировали характер новых казаков» [8, с. 410]. Эти слова служат признанием успехов тех адаптационно-мобилизационных мероприятий, которые проводила советская власть в отношении казачества с целью его советизации.
В начале войны на казачьих территориях в Красную Армию не только мобилизовали значительное количество населения (только в июле – августе 1941 г. с Северного Кавказа в составе казачьих дивизий на фронт отправились более 50 тыс. человек), но и были сформированы добровольческие казачьи части (см.: [3; 9; и др.]).
Таким образом, в ходе мероприятий власти середины 1920-х – 1930-х гг. партийно-советскому руководству удалось советизировать казачество, включить его в советскую систему и сделать в большинстве своем лояльным этой системе. Успехи этой трансформации проявились в годы Великой Отечественной войны, когда выяснилось, что казачество в массе своей готово защищать Советскую Родину.
Список литературы Создание советского казачества на юге России в середине 1930-х - начале 1940-х гг
- Архив Управления ФСБ по Волгоградской области. -Ф. 10. -Д. 89. -Л. 38.
- Будни кубанских станиц//Правда. -1936. -1 мая (№ 120). -С. 7.
- Воскобойников, Г. Л. Казачество и социализм: Исторические очерки/Г. Л. Воскобойников, Д. К. Прилепский. -Ростов н/Д: Кн. изд-во, 1986. -160 с.
- Докладная записка инспектора кавалерии РККА С.М. Буденного И.В. Сталину и наркому обороны К.Е. Ворошилову о настроениях советского казачества и необходимости восстановления его традиций. 27 марта 1936 г.//Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы: в 5 т.: 1927-1939. -М.: Рос. полит. энцикл., 2002. -Т. 4: 1934-1936. -С. 725.
- Донская история в вопросах и ответах. В 2 т. Т. 1/под ред. Е. И. Дулимова, С. А. Кислицына. -Ростов н/Д: Изд-во ДЮИ, 1999. -479 с.
- Казачество колхозной Кубани//Молот. -1936. -4 марта (№ 4428). -С. 1.
- Колхозное казачество//Правда. -1936. -24 апр. (№ 114). -С. 1.
- Крикунов, П. Казаки. Между Гитлером и Сталиным/П. Крикунов. -М.: Яуза: Эксмо, 2005. -608 с.
- Кубанский сборник: сб. науч. ст. и материалов по истории края/под ред. А. М. Авраменко, Г. В. Кокунько. -Краснодар: Книга, 2008. -Т. 3 (24). -266 с.
- Нам нужны красные конники//Молот. -1936. -1 февр. (№ 4400). -С. 3.
- Письмо Кубанских казаков товарищу Ворошилову//Молот. -1936. -5 марта (№ 4429). -С. 3.
- По станицам Северного Кавказа//Правда. -1936. -15 апр. (№ 105). -С. 4.
- Победа колхозного казачества//Молот. -1936. -24 окт. (№ 4622).
- Постановление ЦИК Союза ССР «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА//Сборник законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. -1936. -№ 22. -С. 237.
- Праздник джигитов Северного Кавказа//Правда. -1936. -6 мая (№ 123). -С. 6.
- Путеводитель по центральному государственному архиву Советской армии (с июня 1992 г. Российский государственный военный архив). В 2 т. Т. 2. -[Б. м.]: East View Publ., 1993. -198 с.
- Речь тов. Варейкиса на заседании Пленума Крайисполкома, посвященного чествованию орденоносцев животноводов//Сталинградская правда. -1936. -4 марта (№ 52 (2366)).
- Речь тов. Е.Г. Евдокимова на пленуме Ростовского горсовета с советскими казаками Дона, Кубани, Терека и горцами Северного Кавказа 15 марта 1936 г.//Казачество под большевистским знаменем. -Пятигорск: Севкавгиз, 1936. -С. 28.
- Скорик, А. П. Многоликость казачества Юга России в 1930-е годы: Очерки истории/А. П. Скорик. -Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. -344 с.
- Советские казаки//Правда. -1936. -18 февр. (№ 48). -344 с.
- Советские донские казаки готовы к отпору врагам//Сталинградская правда. -1936. -6 марта (№ 54 (2368)).
- Таланты советского казачества//Известия. -1936. -30 окт. (№ 253). -С. 3.
- Центр документации новейшей истории Волгоградской области (далее -ЦДНИВО). -Ф. 113. -Оп. 14. -Д. 1. -Л. 43 об.
- ЦДНИВО. -Ф. 172. -Оп. 1. -Д. 61. -Л. 35.
- Центр документации новейшей истории Ростовской области. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 254. -Л. 28.
- Чернопицкий, П. Г. К вопросу о возрождении казачества/П. Г. Чернопицкий//Возрождение казачества (история, современность, перспективы): тез. докл., сообщ., выступл. на V Междунар. (Всерос.) науч. конф. -Ростов н/Д: ЛОГОС, 1995. -С. 12-14.
- Шеболдаев, Б. П. Казачество в колхозах (казачество в колхозах, практические задачи колхозов, рапорт-письмо товарищу Сталину)/Б. П. Шеболдаев. -Ростов н/Д: Азово-Черном. изд-во, 1935. -72 с.