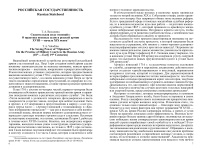Спасительная сила «мнений»: о практике военных судов в русской армии XVIII - начала XIX веков
Автор: Володина Т.А.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 3 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется военное судопроизводство в русской императорской армии XVIII - начала XIX вв. Целью статьи является изучение, в какой мере букве суровых законов петровского времени соответствовали реалии и практики их применения в жизни армии. Главным источником для исследования послужили военно-судебные дела по преступлениям, которые карательным законодательством и карательными учреждениями империи не считались политическими: дезертирство, убийство, кража, растрата казенных денег и т.п. Автор приходит к выводу, что при всей нормативной жестокости Воинского устава Петра I практическая деятельность военных судов имела регуляторы, игравшие роль своеобразных ограничителей карательной направленности артикулов Воинского устава. К их числу следует отнести формирование состава военных судов из числа действующих офицеров, что придавало им характер военного «суда присяжных». Обязательным элементом военного судопроизводства являлись отдельные «мнения» судей, представителей командования и членов Военной коллегии, центрального учреждения военного управления, в которых представлялись разнообразные аргументы за смягчение приговора. Эти «мнения» превратились в инструмент, посредством которого строгость нормативной законодательной базы на деле смягчалась. Корпоративный характер судопроизводства не только ограничивал жесткость законов - сама деятельность военных судов на практике служила мощным инструментом формирования армии как военной корпорации и укреплении ее боевого духа.
Российская императорская армия, военно-судебная реформа, преступность, военно-уголовное право, военная юстиция, военный суд, военное судопроизводство, карательная политика, смертная казнь, войсковое товарищество, петр i
Короткий адрес: https://sciup.org/149144343
IDR: 149144343 | DOI: 10.54770/20729286_2023_3_6
Текст научной статьи Спасительная сила «мнений»: о практике военных судов в русской армии XVIII - начала XIX веков
The Saving Power of “Opinions”:
On the Practice of Military Courts in the Russian Army (18th — Early 19th Centuries)
Важнейшей компонентой устройства регулярной российской армии стал военный суд. Петр I при создании новой армии уделял военному законодательству не меньшее внимание, нежели практическим вопросам — амуниции, вооружению и рекрутским наборам. В многочисленных уставных документах, которые предшествовали введению воинского устава 1716 г, нормы военного права составляли существенную часть', а в самом воинском уставе Петра до трети текста посвящено определению преступлений, их иерархии по степени вины и тяжести наказания, а также процессуальным правилам дознания и судопроизводства.
Устав 1716 г. состоял из четырех частей; первая и четвертая были посвящены собственно правилам внутренней жизни армии и правилам поведения военных в различных ситуациях службы2. Это были «Устав воинский о должности генералов, фельдмаршалов и всего генералитета и прочих чинов, которые при войске надлежат быть и прочее» и «О экзерциции и приуготовлении к маршу»; а вот вторая и третья части — «Артикул воинский с толкованиями» и «Краткое изображение процессов»3 — как раз и включали в себя военноуголовный кодекс, вводили нормы военного судопроизводства и утверждали структуру военных органов суда и следствия. Несмотря на некоторые изменения, эта основа, заложенная Петром I, работала в течение всего XVIII столетия. Конечно, она подвергалась корректировкам, выходили новые указы и инструкции, практика судопроизводства постепенно смягчалась, но только в 1839 г. при составлении Свода военных постановлений все эти новации были приведены в систему и вошли в 5-ю часть Свода, которая и включила в себя
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда «Российская армия XVIII — начала XX вв. как социокультурный феномен» (№ 23-28-00325).
военно-уголовное законодательство.
В отечественной науке интерес к военному праву проявился только во второй половине XIX в. Собственно говоря, своим зарождением этот интерес был напрямую обязан эпохе великих реформ. Если в гражданской сфере готовилась масштабная судебная реформа, то в военном ведомстве шла своя работа — подготовка военносудебного устава 1867 г., который привносил в армейскую жизнь новые либеральные принципы. Историки и юристы для того, чтобы сформулировать пути развития судебной системы, с неизбежностью должны были обращаться к анализу ее прошлого.
Исследователи этого времени акцентировали внимание на жестокости судебной системы прошлого, в которой наказания были нацелены на устрашение, ибо именно с этими чертами судопроизводства реформаторам хотелось проститься навсегда4. Петровское же военное законодательство давало множество доказательств карательного духа суда. Юрист профессор И. С. Таганцев даже утверждал, что в воинском уставе Петра 200 артикулов содержали угрозу смертной казни, что выглядело явным преувеличением (всего в уставе было 209 артикулов)5.
Артикул воинский 1716 г. за различные попытки уклонения от службы, дезертирство и нарушение дисциплины действительно грозил солдатам «аркебузированием» и виселицей, вырванными ноздрями и плетьми, каторгой и галерами. Для дореволюционной историографии прослеживается четкая закономерность: чем более либеральных взглядов придерживался юрист или историк, тем более подчеркивал он необыкновенную суровость военных законов Петра. Доказывалось это, как правило, при помощи анализа нормативной базы и подсчета количества случаев жестоких телесных наказаний или смертной казни, предусмотренных воинскими артикулами6.
Историки «в погонах», которые концентрировались в основном в Академии Генерального штаба, были более осторожны в своих оценках. В силу специфики своего положения они приоритетное внимание уделяли истории военного искусства. В конечном счете, это означало только один главный вопрос — благодаря чему армия побеждает и в силу каких факторов она терпит поражения? В XVIII — начале XIX вв. армия России одерживала победы, а значит, и устав Петра на практике доказывал свою эффективность. Военных историков гораздо больше занимал другой вопрос: подчиняется ли искусство побеждать неким универсальным закономерностям или армия каждой страны вырабатывает своей особый путь к победам? В пореформенное время среди военных историков выделилось два крыла: так называемая академическая и русская школа7. Обращаясь к военному законодательству, наибольшее внимание они уделяли проблеме соотношения российских и европейских военных уставов, а споры велись об источниках и степени заимствований8. Академисты признавали высокую степень заимствования и не видели в этом ничего обидного для «национальной гордости великороссов», ибо схожие военные задачи (массовые регулярные армии) объективно порождали схожесть не только в тактике и стратегии, но диктовали и необходимость усвоения кодексов «учителей-шведов». Представители русской школы, напротив, подчеркивали самостоятельный характер российского военного законодательства и делали акцент на том, что военно-юридический гений Петра, отталкиваясь от европейского опыта, творчески перерабатывал его, в результате чего и формировался в высшей степени самобытный характер русской армии.
Впрочем, сама постановка этого вопроса требовала применения сравнительно-исторического подхода, а он, в свою очередь, приводил к осознанию факта жесткости военного законодательства как общей характеристики в нарождавшихся постоянных европейских армиях. Больше всех отдавший дань компаративистике, П. О. Бобровский, сравнивая военные кодексы различных европейских стран, приходил к парадоксальным, на первый взгляд, выводам. Он утверждал, например, что законы шведского короля Густава Адольфа (с децимацией, виселицей, обезглавливанием, расстрелами, отсечением руки и т.п.) в применении отличались «правосудием, беспристрастием и даже мягкостью»9. А шпицрутены, доказывал Бобровский, в условиях XVII в. были относительно мягким и гуманным наказанием в войсках, несли в себе отзвук старых традиций воинской этики ландскнехтов («казнь копьями»), производились без ожесточения (били собратья по полку) и не покрывали солдата позором10.
В советское время эти изыски компаративистики практически исчезли. Излишним теперь казался и вопрос о степени заимствования, ибо общепризнанным стало утверждение, что главным источником воинского устава были вовсе не иностранные кодексы, а «боевой опыт русской армии и самого Петра»11. В советской историографии система преступлений и наказаний в армии XVIII в. традиционно рассматривалась в первую очередь как проявление классовой борьбы угнетенного народа против крепостнического государства, где тяготы военной службы ложились на солдат-крестьян, эксплуатировали их офицеры-дворяне, а главной формой протеста против угнетения были побеги рекрутов и дезертирство, которые достигали ужасающих размеров12.
Военное право XVIII в., таким образом, трактовалось в первую очередь как защита со стороны государства интересов господствующего класса дворянства. Этим и объяснялся высокий уровень жестокости, а подтверждением служили сами статьи воинских уставов. Согласно подсчетам П. С. Ромашкина по воинским артикулам (всего 209 статей), смертная казнь предусматривалась в 74 артикулах как безусловное наказание, а еще в 27 артикулах — как альтернативное (то есть наряду с возможными более легкими видами наказаний)13. Общим местом советской историографии и даже своеобразным символом страданий угнетенного народа в армии стали шпицрутены.
Наказание шпицрутенами рассматривалось историками как «варварское, ...по тяжести и мучительности не уступавшее кнуту», а при 3 тыс. ударов это наказание означало «замаскированную безусловную и мучительную смертную казнь»14. В целом это была обобщенная квинтэссенция толстовского «После бала», помещенная в парадигму классового подхода.
Приравнивание шпицрутенов к замаскированной смертной казни выглядит явной натяжкой и преувеличением, ибо военно-судебные дела, во-первых, свидетельствуют о том, что 3 тыс. ударов шпицрутенами в XVIII в. были минимальным порогом наказания за преступления. А во-вторых, мы встречаем множество дел, из которых видно, что солдаты бывали многократно прогнаны сквозь строй, как, например, рядовой Гордеев, который, как сообщалось в судебном деле, за 30 лет службы совершил 6 побегов: «Отроду ему 50 лет, в службе с 1737 года, из боярских людей, напред сего за побеги гонен был шпицрутен чрез тысячу человек, впервые шесть раз, вдругорядь десять, в третья двенадцать, в четвертая двенадцать и написан в профосы, в пятый — двенадцать раз». Гордеев бежал и в шестой раз, судебная система в оторопи размышляла, что делать с таким упрямцем. Этому и посвящено было дело в Генерал-аудиторской экспедиции15.
Классовый схематизм советской историографии не только нарушал принцип историзма, но и ставил перед исследователями когнитивно-концептуальную ловушку. Как тогда следовало трактовать победы этой русской армии, построенной на карательных методах и угнетении? Последовательная логика требовала идти по стопам М. Н. Покровского, объявляя армию инструментом царизма и порождением русского империализма, который приносил плоды торговому капиталу. Но даже после ухода с научной сцены школы Покровского без ответа оставался вопрос: каким образом, если сопротивление было столь массовым, а наказания столь жестокими, российская армия продолжала успешно воевать, а не оказалась обескровленной благодаря приговорам военных судов?
Компаративистика не входит в задачи данной статьи, однако в качестве ремарки следует отметить, что жесткость военных законов вовсе не была исключительной чертой воинского устава Петра. Европейские армии раннего нового времени, которые строились на регулярной основе и по численности многократно превосходили войска XV-XVI вв., требовали совсем другого уровня поддержания дисциплины. В 1689 г. в Англии был принят так называемый закон о мятежах, который впоследствии ежегодно обновлялся. Касался он в первую очередь армии. По этому закону мятеж и дезертирство в войсках рассматривались однозначно как преступление, караемое смертной казнью. По части же телесных наказаний в британской армии господствовала «кошка» — плеть с девятью хвостами, на каждом из которых было завязано по 3 узла. Лишь в 1713 г. было введено ограничение — в том смысле, что порка в полку должна была при- меняться по решению военного суда, а не по прихоти командира, как раньше. Только к середине XIX в. английское общество всерьез стало обсуждать «варварство» порки солдат, хотя такие военные и государственные деятели, как герцог Веллингтон и лорд Пальмерстон, да и в целом армейское командование, стояли за порку, ибо считали невозможным поддержание дисциплины в армии без плетей16. Характеризуя военные законы XVIII-XIX вв., сами англичане признавали, что их отличала «чрезмерная суровость, влекущая за собой смерть или потерю конечностей почти за каждое преступление»17. Даже во второй половине XIX в. в британской армии смертная казнь могла быть применена в качестве наказания не только за бунт и дезертирство, но и за трусость, сон на посту либо оставление поста, за неповиновение или нанесение ударов вышестоящему офицеру18.
Целью данной работы является изучение не столько буквы закона, сколько реалий и практик его применения в жизни армии. Основным источником для подобного исследования выступают в первую очередь военно-судебные дела. В различных фондах РГВИА количество этих дел исчисляется десятками тысяч. Отложились они, прежде всего, в фондах учреждений, которые по своему функционалу призваны были осуществлять либо контролировать суд над военными: Ф. 8. Генерал-аудиторская экспедиция канцелярии военной коллегии (1719-1812); Ф. 22 — Санкт-Петербургский Генеральный кригсрехт (1737-1796); Ф. 801 —Главное военно-судное управление (1796-1918); Ф. 16231 —Полевой аудиториат 1-й армии (1812-1836); Ф. 16232 — Полевой аудиториат 2-й армии (1815-1831). Наряду с центральными военно-судебными органами аналогичные документы можно найти как в фондах отдельных воинских частей, так и в документах полевых аудиториатов.
Этот тип источников очень редко привлекал внимание исследователей. По большей части принесенные из хранилища архивные дела имеют девственно чистый лист использования. И это вполне объяснимо. Во-первых, в фокусе внимания исследователей приоритетное место всегда занимали судебно-следственные дела о «государственных» преступлениях — «злых словах и злом умысле против особы Е.И.В.», «измене», заговорах в среде элит, различных возмущениях, в том числе и в армейской среде, которые могли нести угрозу самодержцу (самодержице) и государственной власти в целом19. Библиографический список в монографии Е. В. Анисимова о политическом розыске в России XVIII в. занимает несколько десятков страниц20. Самозванцы и бунт Пугачева, дело Долгоруких или Семеновская история — вот те сюжеты, что привлекали внимание либо своей «революционностью», либо авантюрными перипетиями взлетов и падений тех людей, что были причастны к государственному управлению.
На этом фоне реальные дела никому не известных солдат или офицеров, которые привлекались к суду по рядовым делам (дезертирство, убийство, кража, растрата и т.п.), казались совершенно не ин- 10
тересными. В незначительном использовании этих источников свою роль играет и второй фактор: скоропись XVIII в. гораздо более трудна в чтении, нежели каллиграфия писарей XIX в. Любой, кому приходилось работать с архивными документами, отлично понимает, почему из груди историка вырывается вздох облегчения, когда на стол ему ложится дело начала XIX в. Азбуки-прописи вместе со школьной реформой Екатерины II породили этот четкий, понятный, унифицированный писарский почерк.
Только в последние годы начали появляться отдельные работы, в которых историки обращаются к судебным делам обычных военных, в которых не было усмотрено «политики»21. Как правило, в фокусе внимания исследователей, оказывается какой-нибудь отдельный фрагмент армейской мозаики (определенный период, особый гарнизон), и в работах преобладает иллюстративный подход в виде нарратива кейсов. Впрочем, такая ситуация вполне объяснима; она даже неизбежна, когда исследователи вступают на обширное поле источников, дотоле не вводившихся в научный оборот.
* * *
Каждое военно-судебное дело XVIII в., если оно представлено в полном составе, содержит в себе различные компоненты, которые в духе времени носят «иноземные» названия: ордер, кригсрехт, фер-гер, сентенция, экстракт, конфирмация и экзекуториальный лист.
Ордер — приказ вышестоящего командующего организовать комиссию военного суда для рассмотрения определенного дела.
Фергер представлял собой собственно следственные материалы: допросы обвиняемого, свидетелей, различные справки, выписки из формулярного списка. Первые опросные пункты были всегда одинаковы: имя, из какого звания происходит человек, с какого года в службе, был ли ранее под судом или в штрафах, и читаны ли были ему артикулы.
Кригсрехт — отражал собственно деятельность военного суда, присягу президента и асессоров, аргументы в пользу квалификации вины подсудимого под ту или иную статью военных законов.
Сентенция — собственно решение военного суда о том, какое наказание должно следовать подсудимому по силе воинских артикулов.
Экстракт—своего рода выжимка из дела, где выписаны основные пункты вины, которые служат основанием для приговора военного суда.
Конфирмация — утверждение приговора, которое по обстоятельствам дела производилось либо вышестоящим генералом, либо военной коллегией, либо самим государем.
Экзекуториальный лист — документ, подтверждавший исполнение наказания, когда оно производилось в воинской части. По нему зачитывался приговор перед строем солдат, и после исполнения публичного наказания офицеры ставили свои подписи.
Между этими «оселками» военно-судебных дел мелькают рапорты от нижестоящих командиров в адрес вышестоящих, а также распоряжения и приказы последних. «Иноземность» терминов отражала не просто лингвистическую моду петровского времени — она была следствием появления новых феноменов, аналогов которым не было в прежней допетровской судебной практике. Правда, в военносудебных делах присутствует один элемент, который имеет чисто русское название — «мнение». По мере того, как военно-судебное дело двигалось снизу вверх, оно на каждой ступени обрастало мнениями: от президента военного суда — до генерал-аудитора и членов Военной коллегии. О важности и значимости этого элемента речь пойдет ниже.
Чтобы военно-судебная машина завертелась, нужен был какой-то импульс: тело человека, к смерти которого могли быть причастны военные; факт недостачи в денежном ящике части; жалоба со стороны гражданских властей или отдельного штатского; жалоба со стороны кого-то из военных; факт дезертирства или грабежа и т.п. По приказу вышестоящего командира (командир корпуса, генерал) для следствия и суда по данному конкретному делу и учреждалась комиссия военного суда, то есть кригсрехт, вся процедура формирования которого была закреплена в первой главе «Краткого изображения процессов»22.
Президент полкового кригсрехта (презус) должен был быть в чине полковника или подполковника, и мог сам отбирать асессоров (два капитана, два поручика и два прапорщика). Впрочем, в отдаленных гарнизонах, да еще в случае не слишком значительных дел, комиссию могли сформировать и из более скромных чинов. Что называется, на всякий чих полковников не напасешься. Так, когда в 1764 г. судили профоса Киевского полка за «смешение с коровою», президентом судебной комиссии стал капитан. И в далеком Оренбургском батальоне по делу о крестьянских жалобах на офицера кригсрехт был возглавлен капитаном23. Для генерального кригсрехта, который рассматривал более серьезные дела, работал тот же принцип, только чины здесь были повыше, и презусом выступал фельдмаршал или генерал.
В военном судопроизводстве четко усматривается принцип коллегиальности, зафиксированный в «Генеральном регламенте». Полковой кригсрехт должен был состоять из семи человек, и в вынесенном приговоре (сентенции) члены кригсрехта подписи свои ставили по принципу «от младших — к старшему». Первыми подписывались и прикладывали печати прапорщики, а последним — тот, кто был в наивысшем чине (презус). Роль аудитора заключалась в квалифицированной юридической поддержке, ибо воинский устав признавал: «Во оных [Кригсрехтах. — ТВД обретаются токмо офицеры, от которых особливого искусства в правах требовать не можно, ибо они свое время обучением воинского искусства, а не юридического провожда-ют»24. Аудитор должен был разбираться в тонкостях артикулов, чтобы подвести установленные факты под ту или иную статью, однако он не имел права высказывать в суде свое мнение и участвовать в вынесении приговора.
До издания устава 1716 г. в работе судебных комиссий принимали участие не только офицеры, но и нижние чины25. Когда в 1708 г. Петру на утверждение был прислан приговор 28 беглым преобра-женцам, вынесенный в полку, то под этим приговором мы находим подписи четырех солдат, двух капралов, одного сержанта, а далее — офицеров полка от подпоручиков до майора26. И что примечательно, все члены кригсрехта до 1716 г. подавали свои отдельные мнения по поводу приговора обвиняемому. Так, в 1711 г. во время военных операций в Польше два драгуна изнасиловали девку Христину. Решение по их делу выглядело как юридический пазл: от ефрейторов, которые подали свой голос за битье батогами при полку (дисциплинарное наказание) — до остальных членов суда (шпицрутены с различным количеством ударов, каторга, виселица)27.
Возникает множество вопросов касательно практики такого судопроизводства. Во-первых, какими инструментами обеспечивалось беспристрастное рассмотрение дела? Как решался вопрос, если мнения членов кригсрехта расходились? Допустимо ли было формировать суд из офицеров N-ского полка, если обвиняемый принадлежал к тому же полку?
Конечно, устав воинский требовал беспристрастности — «не по-хлебствовать никому... чтоб каждого без рассмотрения персон судили», — и давал подсудимому право отвода членов суда, если он мог подозревать их в предвзятости. Кроме того, членов кригсрехта аудитор или полковой священник приводили к присяге на предмет правого и нелицемерного суда. Большей объективности способствовало и то, что по более или менее серьезным преступлениям кригсрехт формировался из военнослужащих «чужих» частей. Впрочем, зачастую это нарушалось. Так, в начале XVIII в. беглых солдат-преображенцев, как правило, судил кригсрехт, создававшийся внутри Преображенского полка28. Ав 1791 г. поручика Суковнина из Оренбургского драгунского полка судили за то, что, сопровождая партию рекрут в 200 человек, он «безденежно» брал у крестьян Курской губернии хлеб, подводы и лошадей. За провиант он крестьянам в конце концов заплатил (впрочем, не по рыночной цене), а подводы и лошадей возвращал владельцам, лишь совершив с рекрутами очередной дневной переход в 30-40 верст29. Так вот, в данном случае и поручик принадлежал к 1-му Оренбургскому полевому батальону, и кригсрехт был сформирован из офицеров того же батальона30.
Из Военной коллегии, в которую пожаловался курский земский исправник, пришло предписание разобраться в деле, и пришло оно к барону О. А. Игельстрому, который возглавлял тогда Уфимское и Сибирское наместничество. Генерал фон Трейден, командир Оренбургского корпуса, отдал приказ учинить кригсрехт. Суд провел следствие, рассмотрел жалобы гражданских властей и крестьян на Суковнина и признал его виновным по артикулу 28 Воинского устава (наказание по этой статье предусматривало разжалование в рядовые). Однако комиссия в своей сентенции принимает решение: «как он учинил это не из корыстолюбия и этими деньгами не интересовался», то наказание следующее: посадить поручика под арест на хлеб и воду на два месяца. Вряд ли этот «пост» был бы строгим, мы можем вообразить, каким сочувствием пользовался у сослуживцев этот 30-летний поручик, поступивший на службу 16 лет от роду, из дворян, имевший во владении шесть душ мужского пола. Ведь он довел партию рекрутов от Курска до Оренбурга не заболевшими, не разбежавшимися, сытыми и здоровыми.
Командир батальона подполковник Уваров вместе с сентенцией суда подает свое мнение: «как он, Суковнин, служит беспорочно и без штрафов», то наказание уменьшить до 1 месяца. Генерал фон Трейден пишет свое мнение: «избавить Суковнина от штрафования, объявить только выговор при собрании штаб- и обер-офицеров, чтоб впредь был осмотрительнее». Военная коллегия в своей конфирмации присоединилась к мнению генерала31. В этом деле мы четко видим, что принадлежность к одному полку отнюдь не была решающим фактором, гораздо больше значило другое: соответствовал ли приговор понятиям о правильном и неправильном, которые разделялись бы всеми представителями военной корпорации: от прапорщика, служащего в Оренбурге, — до генерала, заседающего в Военной коллегии.
В качестве яркого примера наличия этих корпоративных представлений можно рассмотреть дело 1764 г. о солдате Кабардинского полка Шигарине, избившем прапорщика Дубровина32. Вообще-то нападение на офицера («дерзнет вооруженною или невооруженною рукою атаковать») согласно артикулу 25 предусматривало лишение живота и отсечение головы. Однако уже сентенция кригсрехта «смягчила» приговор, подведя его под артикул 146 Главы XVII «О возмущении, бунте и драке», и солдата приговорили к отсечению руки. Член Военной коллегии генерал-поручик фон Дитц в своем мнении и вовсе предлагал бить батогами прапорщика Дубровина, а солдата от наказания избавить. По конфирмации генерала-аншефа П. И. Панина был вынесен вердикт: освободить солдата от наказания, положенного по военным артикулам, вместо этого «учредить шпицрутены» — сквозь 1 000 человек шесть раз.
Каковы же были обстоятельства дела? Солдат Шигарин, чей полк стоял в Выборгском уезде, зашел в придорожный кабак выпить водки. За столом, в окружении обедающих мужиков, сидел какой-то мужчина в шубе, крытой зеленым сукном, и с рукавицами, заткнутыми за пояс. Заявив, что он офицер и обложив солдата матерными словами, этот человек потребовал, чтобы солдат покинул заведение. Судя по протоколам допроса, Шигарин ответил: «Какой ты прапорщик? Как тебя за гвардейского можно признать? Это все мужики, которые с тобой сидят, да и ты сам такой же. У нас таких мужиков 14
батожьем бьют»33. Началась ожесточенная драка, которая выкатилась на улицу, и только там прапорщика и солдата разнял проходивший мимо капрал.
Судя по логике «мнений», в глазах кригсрехта и генералов солдат был «свой», и поведение его было вполне объяснимо и понятно, а вот офицер вел себя неподобающе. Кабардинский полк лишь недавно вернулся в Россию после Семилетней войны34, а прапорщик в зипуне на поверку оказался и вовсе отставным. Офицер, особенно если он боевой офицер, не мог отказать солдату в возможности зайти в кабак. Примерно в это же время полковник А. В. Суворов составил для своего Суздальского полка инструкции, где в частности писал: «Нижним чинам вино и протчее пить не запрещаетца». Однако будущий генералиссимус настоятельно советовал: зашел в кабак, купил вина и уйди оттуда, пей в лагере или на квартире, но со «своими». Не нужно «военному человеку» общаться с «подлыми людьми» и терять свою «от них отменность»35.
В большинстве реальных военно-судебных дел наказание, положенное по артикулам, смягчалось в процессе судопроизводства в результате поданных мнений. Приведем еще один пример подобного дела, которое носит заголовок «О ночном квартировании капитана Федора Лунева» (1742 г.)36.
Капитан Елецкого полку Лунев (53 лет от роду, в службе с 1705 г.) был направлен в сопровождении капрала (29 лет, в службе с 1725 г.) и солдата (19 лет, в службе с 1741 г.) в командировку по секретному делу в Тамбовский уезд. По дороге ночью они оказались в селении однодворцев и стали искать, где бы остановиться на ночлег. Отставной солдат Даниил Пронин, который проживал в том селе (60 лет, в службе был с 1717 г), подсказал, что удобно будет остановиться у Федора Бобровникова. На стук в ворота им никто не ответил, тогда военные перелезли через забор и вошли в дом. Однако Бобровников и его домочадцы встретили их неласково, «стали бранить матерными словами, да называли капитана вором и разбойником». Тогда капитан приказал молодому солдату и отставнику раздеть крестьянина, а капралу — бить Бобровникова кнутом, сам же в это время приговаривал: «Не брани командира». После окончания порки Бобровников было встал, но капитан «толкнул его поленом» — крестьянин упал и умер.
Однодворцы повязали всех, а капитана приковали железными кандалами к мертвому телу, и в таком виде доставили в город. Криг-срехту пришлось поломать голову. Дело-то было ясное, но квалици-фировать его можно было по-разному. Артикул 154 («Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного страха умертвит») грозил Луневу отсечением головы, рядом вставал и другой вопрос — а какова степень вины капрала и солдат? Ведь им грозило такое же наказание. Впрочем, кригсрехт решил смягчить солдатам наказание, применив другую статью. Артикул 53 главы 5 «О всякой солдатской работе»
давал формальное право солдатам не исполнять приказ, если командир требовал делать то, что «к службе Его Величеству не касается». Но натяжка была хлипкая. Получалось, что солдаты должны были отказаться исполнять приказ командира, но не отказались, и в этом состоит их вина. Натяжка была не только хлипкая, но и опасная: это избавляло солдат от смертной казни, но закладывало мину под краеугольный камень армейской жизни — принцип «сильной команды» (выполнение приказа). Сентенция кригсрехта гласила: у капитана — отобрать патент на офицерский чин, бить кнутом, вырезать ноздри и сослать на каторгу. Это было, конечно, чуть полегче, чем отсечение головы, но ненамного. Капралу с солдатом кригсрехт присудил шпицрутены (3 раза через батальон), а отставного солдата было решено высечь плетьми.
Однако и здесь вступила в силу спасительная сила «мнений». В результате Лунев понес наказание по силе артикула 158: его лишили чина и офицерского патента, подвергли наказанию шпицрутенами (10 раз сквозь полк) и записали в рядовые. Как дополнительное, к этому наказанию прилагалось церковное покаяние. Капрала же с солдатами вообще освободили от всякого наказания, «ибо они по приказу капитана то чинили». Было ли жестоким наказание капитана Лунева? По сравнению с тем, что ему грозило, оно было мягким. В нормах и практике военного законодательства XVIII в. оформляется четкое разделение наказаний — на достойные и позорящие. Намечается дихотомия: кнут против шпицрутенов. Кнутом наказывал палач, шпицрутенами — сотоварищи по полку. Кнут бесчестил, шпицрутены — нет. Кнут закрывал дорогу к военной службе, после шпицрутенов военный оставался в своем полку37. Шпицрутены не покрывали позором разжалованного капитана и не закрывали ему возможность продолжения службы в армии. Более того, в приговоре даже не было слова «вечно», а это означало, что в скором времени Лунев вновь мог быть произведен в офицеры.
О чем свидетельствует эта логика смягчения наказаний посредством «мнений» по сравнению с тем, что было положено по «букве закона»? На наш взгляд, не только о голом государственном утилитаризме (зачем казнить смертью, если человек еще на каторге может поработать). Во всех этих делах чувствуется некая корпоративная солидарность военных, ведь все авторы «мнений» тоже прошли свой путь в армии и, положа руку на сердце, понимали гнев Лунева («Не брани командира!»).
Достаточно редко, но встречаются дела, в которых мы не видим этих смягчающих «мнений». Так, в 1771 г. военный суд разбирал дело двух беглых — солдата Комарова и ефрейтора Храмова. Бежали они в Польшу еще лет за пятнадцать до 1771 г. Пробавлялись грабежами и разбоями. Следствие установило, что оба беглых участвовали в гайдамацком восстании. Один был в «шайке запорожского казака Железняка», другой — в отряде Никиты Швачки (получается, уча- 16
ствовали в Колиивщине — гайдамацком православном восстании на Правобережной Украине). Подсудимые в селе Лысянка, что недалеко от Черкасс, «зарезали 28 человек поляков и жидов и пограбили денег до 500 червонных».
Военный суд приговорил обоих «казнить смертью, четвертовать и тела их на колеса положить». Такая демонстративная «чрезмерность» казни выглядит странно: сначала — казнить, потом четвертовать, а затем — колесовать. Думается, в данном случае военный суд отказывал подсудимым в праве на «однократную» смерть, ибо не признавал их «своими». Кригсрехт «соединил» максимальные наказания, предусмотренные за дезертирство (артикул 95), убийство (артикул 154) и вооруженный грабеж (артикул 185). Однако вот что интересно: во всех этих артикулах наказанием выступают разные виды смертной казни (виселица, отсечение головы, колесование). Откуда же в приговоре взялось четвертование? Судя по всему, члены комиссии интуитивно воспринимали все поведение беглых солдат как измену, и хотя формальных признаков измены не было, они внесли в приговор четвертование, не указав артикул 124, который как раз и призван был карать за измену.
Генерал-поручик Сиверс в своем мнении согласился с решением военного суда, назвав солдат «презревшими не только долг свой и присягу удалением от службы из отечества, но забывшими и самое человечество». Члены Военной коллегии тоже согласились с сентенцией. И только П. А. Румянцев (в это время командовал войсками на русско-турецкой войне 1768-1774 гг), признав, что подсудимые заслужили такое наказание, советовал все-таки передать дело в Сенат для рассмотрения возможности альтернативы (кнут, рвать ноздри и каторга в Нерчинске).
По мере усиления корпоративных представлений о справедливости расхождение между буквой закона и приговорами военных судов все более увеличивалось. Нормативная база оставалась неизменной, однако военный суд превращался в своеобразный корпоративный «суд присяжных». В 1800 г. генерал-аудитор Салагов потребовал от Военной коллегии принять указ, чтобы члены полковых судов мнения свои оставляли при себе, определяли вину строго по артикулам, ибо «в сентенциях о подсудимых пишут свои мнения, уважая в оных либо службу виновного или другие обстоятельства, и так от настоящего по силе законов приговора отступают, облегчая тем наказание»38. Право мнений предписывалось оставить исключительно для генералов, членов Военной коллегии и Генерал-аудиториата.
Впрочем, это не решило проблему. Несообразность такого подхода ярко демонстрирует, например, дело полковника Гревса, угодившего под суд в 1824 г.39 Греве командовал 1-м Бугским уланским полком, который дислоцировался в Херсонской губернии (полк входил в разряд военных поселений). Следствие закрутилось, когда выяснилось, что денежный ящик полка практически пуст, из него исчезло 23 тыс.
рублей. Взял их сам полковник в ноябре 1823 г, а вскоре уехал в свое имение в отпуск. Вернулся он уже в разгар следствия в апреле 1824 г. Дело осложнялось тем, что все эти полгода по отчетам на бумаге все было в порядке, что указывало на сговор всех офицеров полка. Ведь по правилам наличность в денежном ящике должны были ежемесячно поверять офицеры полка, сверяя убыль с расходными шнуровыми книгами, ставя свои подписи и прикладывая к денежному ящику свои личные печати. Ежемесячную ведомость подписывал бригадный генерал и подавал ее вышестоящему командиру. Так вот, вся эта отчетность была в порядке, а ящик оказался пуст!
Командир кавалерийского корпуса граф де Витт назначил комиссию военного суда, в которую входили офицеры других полков в чинах от генерал-майора до ротмистров. Греве был арестован. В своем решении суд перечислил все законы, которые он нарушил — от артикула 194 Воинского устава до «Провиантских регул». Куда ни кинь, по силе законов полковнику выходила либо виселица, либо каторга. А дальше начались «мнения» — презуса военного суда, командиров бригады, дивизии, корпуса и, наконец, Совета Штаба отдельного корпуса военных поселений.
Следствие выяснило, что в Херсонской губернии два лета подряд стояла страшная засуха. В результате полк не смог заготовить сено, а падеж лошадей уже начался. Греве обращался с этой проблемой по начальству, ибо он не мог пустить на закупку сена полковые суммы (нецелевое расходование средств), однако деньги ему не выделялись. Что было делать? Греве взял полковые деньги и передал их полковому квартирмейстеру для закупки сена «партикулярным образом» (читай — на свободном рынке, без официального оформления). Часть этих денег он внес как задаток для ремонта лошадей. Когда началось следствие, Греве восполнил недостачу, внеся часть суммы наличными, а на остальное — выписав реверс на свое имение размером в 230 десятин, которое располагалось в Карачевском уезде Орловской губернии.
Выходило странное дело. По силе военных законов полковник Греве был преступник, достойный виселицы, а по «мнениям» — благородный командир, который руководствовался в своих поступках «похвальным рвением к исправности полка», да еще и пожертвовал ради этого своим собственным имуществом. Штаб корпуса военных поселений вообще в своем мнении указывал: Гревса — освободить, в формулярный список пребывание под судом — не вносить, и вернуть ему командование полком40.
Следствие шло два года, за это время и Александр I умер, и Аракчеев был отстранен от руководства военными поселениями. Наконец, осенью 1826 г. последовала высочайшая конфирмация Николая I. Сославшись на коронационный манифест от 22 августа 1826 г. о даровании милостей41, император решительно разрубил этот гордиев узел: всех причастных к делу освободить от суда и взысканий, полковника
Гревса перевести в другой полк тем же чином. А вот членам военного суда и обер-аудитору (которые в своем «приговоре по букве закона» писали о каторге и виселице) было высказано порицание за то, что не сумели «подвести к делу приличных узаконений»42.
Подобная система судопроизводства зачастую порождала несоразмерность в наказаниях; приговоры как будто носили случайный характер. Так, за побег из армии солдат мог отделаться шпицрутенами, а мог угодить и на галеры, причем один — на 10 лет, а другой — на 1 год. На галеры попадали и офицеры, и тоже степень наказания может показаться нам произвольной: за убийство жены можно было получить меньший срок, чем за самовольный переход из драгунского полка в солдатский43. Однако нужно признать, что именно в силу такой амбивалентности военное судопроизводство обладало запасом гибкости. В условиях, приближенных к боевым, в критические или экстремальные моменты, военно-судебная машина могла легко переходить в «чрезвычайный регистр», просто включив режим строгого следования артикулам. Военный суд приобретал характер военно-полевого, или, по петровскому уставу — «скорорешительного».
Ярким проявлением такого феномена может служить дело двух рядовых — Прохорова (Тульский пехотный полк) и Федорова (Могилевский пехотный полк). В сентябре 1812 г. эти двое, дезертировав из французской армии, сами вышли на казачий пикет, как они объяснили, «из приверженности к отечеству»44. Оказалось, что в 1806 г. во время кампании против Наполеона в Пруссии, они попали в плен. По их показаниям, в Россию их не отпустили, а принудили поступить в «тамошнюю службу». Федорову даже довелось в 1812 г. сражаться против своих — под Смоленском и под Можайском. Суд закончился в 24 часа. Полевой аудиториат, применив 99-й артикул устава и параграф 3-й второй главы «Полевого уголовного уложения для Большой действующей армии»45, вынес однозначный вердикт — смертная казнь. Статьи этого уложения вообще демонстрировали невиданный доселе в военных законах лаконизм. Так, параграф 3-й состоял лишь из одной фразы: «Побег к неприятелю наказывается смертью». По конфирмации генерала Лаврова Федоров был расстрелян, а Прохоров получил 12 тыс. шпицрутенов и был отослан в дальний гарнизон.
* * *
Может показаться, что фундамент данной статьи составляют несколько занимательных кейсов. Однако в действительности в ходе работы в фондах РГВИА было изучено более 300 военно-судебных дел, которые позволяют сделать определенные выводы.
Жестокость военно-судебной системы, созданной Петром, имела несколько регуляторов, которые позволяли ей эффективно поддерживать дисциплину и боеспособность русской армии. Во-первых, суд осуществлялся не посторонними чиновниками, а военными, тянув- 19
шими армейскую лямку наравне с обвиняемыми. Судей и подсудимых объединял общий опыт: сражений и походов, реалий полковой жизни, представлений о «правильном» и «неправильном». Феномен «мнений» служил своеобразным ограничителем карательной силы Воинских артикулов. Во-вторых, при всем командирском/дворян-ском статусе офицеров, они подвергались наказанию шпицрутенами, могли угодить на каторгу или, после разжалования, ощутить на своих плечах солдатскую шинель. В преступлениях, где соучастниками выступали офицер и солдаты, офицер всегда получал более строгое наказание. Все это до известной степени в эмоциональнопсихологическом плане нивелировало брешь социально-сословной обособленности между солдатами и офицерами. В результате вся система военного судопроизводства превращалась не просто в средство поддержания дисциплины и управляемости войск, но и в эффективный инструмент формирования армии как военной корпорации.
Список литературы Спасительная сила «мнений»: о практике военных судов в русской армии XVIII - начала XIX веков
- Бобровский П. О. Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях. Санкт-Петербург, 1887. С. 7–46; Мышлаевский А. З. Петр Великий: Военные законы и инструкции, изданные до 1715 г. Санкт-Петербург, 1894.
- Полное собрание законов Российской империи: Собрание 1‑е (ПСЗРИ‑1) Т. V. № 3006. С. 203–453.
- ПСЗРИ‑1. Т. V. № 3006. С. 318–411.
- Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России. Санкт-Петербург, 1913; Кистяковский А. Ф. Исследование о смертной казни. Киев, 1867; Кузьмин-Караваев В. Д. Военно-уголовное право. Санкт-Петербург, 1895; Савинков В. М. Краткий обзор военно-уголовного законодательства. Санкт-Петербург, 1869; Сергеевский Н. Д. Смертная казнь в России в XVII и первой половине XVIII века. Санкт-Петербург, 1884; Ступин М. История телесных наказаний в России от судебников до настоящего времени. Владикавказ, 1887; Тимофеев А. Г. История телесных наказаний в русском праве. Санкт-Петербург, 1897.
- Таганцев Н. С. Смертная казнь. Санкт-Петербург, 1913. С. 59.
- Савинков В. М. Краткий обзор военно-уголовного Законодательства Санкт-Петербург, 1869. С. 15–21.
- Бескровный Л. Г. Очерки военной историографии России. Москва, 1962. С. 182–188.
- Бобровский П. О. Военные законы Петра Великого в рукописях и первопечатных изданиях. Санкт-Петербург, 1887. С. 7–46; Мышлаевский А. З. Петр Великий: Военные законы и инструкции, изданные до 1715 г. Санкт-Петербург, 1894; Пузыревский А. К. Развитие постоянных регулярных армий и состояние военного искусства в век Людовика XIV и Петра Великого. Санкт-Петербург, 1889; Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. Санкт-Петербург, 1878.
- Бобровский П. О. Состояние военного права в Западной Европе в эпоху учреждения постоянных войск. Санкт-Петербург, 1881. С. 233.
- Бобровский П. О. Состояние военного права в Западной Европе в эпоху учреждения постоянных войск. Санкт-Петербург, 1881. С. 234, 235.
- Дурманов Н. Д. Памятники уголовного права. Введение // Памятники русского права / Под ред. К. А. Софроненко. Вып. 8. Москва, 1961. С. 274; Епифанов П. П. К вопросу о военной реформе Петра Великого // Вопросы истории. 1945. № 1. С. 56; Ромашкин П. С. Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства Петра I. Москва, 1947. С. 20.
- Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке. Москва, 1958. С. 29, 30, 38, 39, 143, 144, 163–165.
- Ромашкин П. С. Основные начала уголовного и военно-уголовного законодательства Петра I. Москва, 1947. С. 25.
- Дурманов Н. Д. Памятники уголовного права: Введение // Памятники русского права / Под ред. К. А. Софроненко. Вып. 8. Москва, 1961. С. 311, 313.
- Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 8. Оп. 44. Д. 127. Л. 15–17.
- Mitchell B. The Debate in Parliament about the Abolition of Flogging During Early Nineteenth Century, with References to the Windsor Garrison // Journal of the Society for Army Historical Research. 2010. Vol. 88. P. 19–28.
- Oram G. “The administration of discipline by the English is very rigid”. British Military Law and the Death Penalty (1868–1918) // Crime, Histoire & Sociétés = Crime, History & Societies. 2001. Vol. 5. No. 1. P. 96.
- Oram G. “The administration of discipline by the English is very rigid”. British Military Law and the Death Penalty (1868–1918) // Crime, Histoire & Sociétés = Crime, History & Societies. 2001. Vol. 5. No. 1. P. 101.
- Анисимов Е. В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. Москва, 1999; Курукин И. В., Никулина Е. А. Повседневная жизнь Тайной канцелярии. Москва, 2008; Карпенко С. В. Михаил Хрущов, Степан Шешковский и «преображенье» Тайной канцелярии в Тайную экспедицию. Часть 1 // Новый исторический вестник. 2010. № 2 (24).С. 58–109; Карпенко С. В. Михаил Хрущов, Степан Шешковский и «преображенье» Тайной канцелярии в Тайную экспедицию. Часть 2 // Новый исторический вестник. 2010. № 3 (25). С. 57–94.
- Анисимов Е. В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. Москва,1999. С. 619–714.
- Калашников Г. В. Офицеры под судом и следствием: из истории офицерского корпуса русской армии (1725–1745) // Кодекс-info. 2000. № 2. С. 80–87; Мацумура Т. Преступления и наказания русских офицеров в эпоху декабристов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2022. Т. 21. № 8. С. 67–76; Азнабаев Б. А. Воинские правонарушения служащих дворян Оренбургского корпуса во второй половине XVIII в. (по смотровым и формулярным спискам полков и батальонов Оренбургской губернии) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2004. № 1. С. 101–114; Дмитриев А. В. Преступления военнослужащих регулярной армии России XVIII в. в сфере семейной жизни: имперское законодательство и реальная практика наказаний // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2021. Т. 8. № 3 (31). С. 13–22; Проскурякова М. Е. «От смертной казни освободить»: Борьба с преступностью в Выборгском гарнизоне в начале XVIII века // Военно-исторический журнал. 2012. № 10. С. 68–71.
- ПСЗРИ‑1. Т. V. № 3006. С. 382–388.
- РГВИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 309. Л. 2об.; Ф. 8. Оп. 5. Д. 1615. Л. 92.
- ПСЗРИ‑1. Т. V. № 3006. С. 384.
- Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. Санкт-Петербург, 1878. С. 343, 344
- Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 8. Москва; Ленинград, 1948. С. 226.
- Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. Санкт-Петербург, 1878. С. 87, 88.
- Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. Санкт-Петербург, 1878. С. 341–344.
- РГВИА. Ф. 8. Оп. 5. Д. 1615.
- РГВИА. Ф. 8. Оп. 5. Д. 1615. Л. 2об., 7.
- РГВИА. Ф. 8. Оп. 5. Д. 1615. Л. 3–7об., 9–12, 86–110.
- РГВИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 295.
- РГВИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 295. Л. 4.
- Зиссерман А. История 80‑го пехотного Кабардинского полка. Т. 1. Санкт-Петербург, 1881. С. 62.
- А. В. Суворов: Документы. Т. 1. Москва, 1949. С. 104.
- РГВИА. Ф. 22. Оп. 1. Д. 355.
- Володина Т. А., Подрезов К. А. «Прикрыть его знаменем»: Об инструментах сакрализации знамени в русской армии XVII–XVIII веков // Новый исторический вестник. 2021. № 4 (70). С. 16–19.
- ПСЗРИ-I. Т. XXVI. № 19663
- РГВИА. Ф. 405. Оп. 1. Д. 246. Л. 151–260.
- РГВИА. Ф. 405. Оп. 1. Д. 246. Л. 253–254об.
- Полное собрание законов Российской империи: Собрание 2‑е (ПСЗРИ‑2). Т. I. № 540. С. 891
- РГВИА. Ф. 405. Оп.1. Д. 246. Л. 278.
- Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины Петра Великого. Санкт-Петербург, 1878. С. 363–366.
- РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 3.
- Учреждение для управления Большой действующей армии. Санкт-Петербург, 1812.