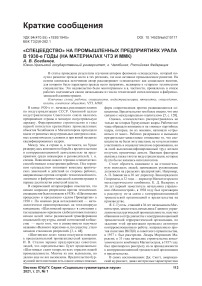"Спецеедство" на промышленных предприятиях Урала в 1930-е годы (на материалах ЧТЗ и ММК)
Автор: Богданов Алексей Вячеславович
Рубрика: Краткие сообщения
Статья в выпуске: 1 т.21, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье приведены результаты изучения автором феномена «спецеедства», который получил развитие прежде всего в тех регионах, где шло активное промышленное развитие. На основе комплекса источников автор рассматривает «спецеедство» как социальное явление, для которого было характерно прежде всего неприязнь, недоверие к «старым» техническим специалистам. Это недовольство было многогранным и в, частности, проявлялось в отказе рабочих подчиняться своим начальникам из числа технической интеллигенции и фабричнозаводской администрации.
Рабочие, специалисты, индустриализация, пятилетка, спецеедство, власть, советское общество, чтз, ммк
Короткий адрес: https://sciup.org/147231690
IDR: 147231690 | УДК: 94(470.55) | DOI: 10.14529/ssh210117
Текст научной статьи "Спецеедство" на промышленных предприятиях Урала в 1930-е годы (на материалах ЧТЗ и ММК)
В конце 1920-х гг. началась реализация планов по индустриализации СССР. Основной целью индустриализации Советского союза являлось превращение страны в мощную индустриальную державу. Форсированное строительство в годы первой пятилетки крупнейших промышленных объектов Челябинска и Магнитогорска проходило вдали от развитых индустриальных центров в сложных климатических условиях и при явной нехватке квалифицированных кадров.
Между тем, в стране и, в частности, на Урале развернулась компания по борьбе с вредительством и контрреволюционной деятельностью на предприятиях среди инженеров и руководителей, т. н. спецов. Появлению нового термина «спецеедство» способствовали и настроения рабочих. Под термином «спецеедство» понимают комплекс критических замечаний и действий со стороны рабочих, направленных против «старой» технической интеллигенции и фабрично-заводской администрации в первые десятилетия советской власти.
В современной историографии отмечается, что начало широким репрессиям против технических специалистов было положено в 1928 г. «Шахтинским процессом» и продолжено «делом Промпартии» в 1930 г. По мнению ряда исследователей — методологически ориентированных на тоталитарную концепцию, «Шахтинский процесс» в сочетании с так называемым «кризисом хлебозаготовок положил начало целой эпохе радикальной трансформации социальной структуры, связей и отношений в обществе — всего того, что в совокупности получило название «Великого перелома» и, по существу, стало началом сталинских репрессий» [3, с. 48].
«Шахтинское дело» также послужило поводом к продолжительной пропагандистской кампании. И. В. Сталин заранее предупреждал советских людей, что «вредительство» будет продолжаться: «Шахтинцы» сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма. Вредительство тем более опасно, что оно связано с международным «капиталом» [5, с. 128].
Однако, «спецеедство» распространялось не только на «старые буржуазные» кадры. Рабочие все чаще обращали внимание и на «новые» партийные кадры, которые, по их мнению, начинали «отрываться от масс». Рабочих раздражало и вызывало презрительно-завистливое отношение то, что специалисты не были энтузиастами, не хотели активно участвовать в социалистическом соревновании, но за свой высококвалифицированный труд желали получать приличные деньги. Важным фактором являлись также тяготы индустриализации, которые будто бы не касались интеллигентов.
Стоит обратить внимание и на относительную молодость людей, занимавших руководящие должности на уральских предприятиях. Например, А. П. Завенягин в 30 лет директор Ленинградского Гипромеза, в 32 года — директор Магнитогорского металлургического комбината. К. Д. Валериус в 36 лет первый заместитель начальника управления «Магнитострой», в 1938 году был приговорен к расстрелу из-за связи с контрреволюционной троцкистской организацией и вредительства на производстве.
Я. С. Гугель , ставший в 36 лет начальником Магнитостроя, заместитель начальника Главного управления металлургической промышленности, получил обвинения в сотрудничестве с контрреволюционной троцкистской террористической организации, по заданию этой организации проводил активную контрреволюционную работу, направленную против политики ВКП(б) и советского правительства, в 1937 г. был расстрелян. Лазарь Миронович Марьясин, в 33 года начальник строительства коксохимического комбината Магнитостроя, в 1937 году был приговорен к расстрелу из-за принадлежности к контрреволюционной троцкистской организации и вредительства.
В своих воспоминаниях Дж. Скотт, американский журналист, давал интересные характеристики руководящих кадров Магнитостроя. Например, В. С. Шевченко — заместителя начальника Магнитостроя, первого начальника коксохимического цеха (в 1937 г. был репрессирован), Семичкина — начальника производства. О Семичкине он сообщал, что тот всего лишь год назад окончил высшую школу и прошел довольно поверхностный курс обучения инженерному делу. Он неоднозначно относился к американским инженерам: с одной стороны, как к знатокам своего дела, с другой стороны считая их «буржуями», непонимавшими, что такое большевистские темпы и рабочий класс [8, с. 44].
-
В. С. Шевченко вступил в партию в 1923 г., окончил только Институт красных директоров Союзкокса при ВСНХ (г. Харьков, 1931 г.), был профсоюзным деятелем, партийным работником и директором большой стройки в Донбассе. У него были довольно ограниченные познания в технике, и по-русски он писал с ошибками [8, с. 44].
Летом 1930 г. на XVI съезде ВКП (б) было принято решение о расширении практики посылки советских специалистов для обучения за рубеж и о приглашении большого числа иностранных инженеров, мастеров и квалифицированных рабочих в СССР с целью полного использования их опыта и знаний на предприятиях Советского Союза.
В 1928—1929 гг. работники промышленности СССР совершили более 900 заграничных командировок (что оставляло только 65 % плана), на которые было израсходовано 1,5 млн. рублей. Причина невыполнения плана заключалась в ограниченности валютных ресурсов, которое возникло в течение первого полугодия 1928—1929 гг. [1, л. 18].
Значительная часть командированных выезжали в США. В Детройте в конце 1920-х гг. было открыто проектное бюро Челябинсктракторплэнд, где проектировались основные корпуса ЧТЗ советскими и американскими специалистами. Из Челябинска в США в 1930—1931 гг. командировали 40 рабочих для изучения производства тракторов и заводских сооружении. В 1932 г. группа работников ЧТЗ выезжала в Германию с целью размещения заказов на оборудование. Подобные командировки совершались и от Магнитостроя [2, с. 205].
Все выезжавшие в капиталистические страны советские специалисты проходили жесткую политподготовку, а также от командируемых требовалась строгая ежедневная отчетность. Объяснялось это отказами ряда работников вернуться в СССР, вследствие чего стали более осторожно подбирать кандидатуры для поездки. Еще одной проблемой было то, что большинство командируемых не знали иностранного языка, из-за чего снижалась эффективность командировок [1, л. 20—21].
Согласно архивным данным, некоторые из тех, кто побывал в заграничных командировках, впоследствии были арестованы, а затем либо осуждены на различные сроки, либо расстреляны. Например, Виталий Алексеевич Гассельблат первый заместитель руководителя и главный инженер Магнитостроя, командированный в 1930 г. в США и Германию для изучения проектного опыта закупок оборудования, в 1936 г. будет арестован по дороге в Москву за «связь с иностранными разведками» [4, с. 101].
Яков Шмидт возглавлявший специальную комиссию из Москвы, которая должна была проверить положение дел на строительстве Магнитостроя, В. Гассельблата объявил «активным вредителем Магнитки». Он писал: «Гассельблат всячески боролся против успешности стройки и металлургов, в окружение подобрал, соответственно, тоже из бывших и настоящих вредителей».
Рабочая группа с ЧТЗ (Г. А. Треубов, А. Я. По-валяев, А. Д. Колбасин, В. А. Чеботарев) в 1930 г. проходила специализацию по литейному делу на заводах Форда и фирмы «Катерпиллер». По возвращении их обвинили в том, что, находясь в США, они ознакомились с книгой Л. Д. Троцкого «Моя жизнь». Впоследствии эта группа рабочих была арестована [2, с. 207].
В октябре 1937 был арестован секретарь Челябинского обкома Кузьма Васильевич Рындин. На допросах он «признал», что в 1928—1934 гг. занимался «антисоветской деятельностью» и затем, в 1934 г., «по указанию правого блока» развернул «антисоветский террор» в Челябинске. Согласно протоколу, он в 1935 г. вступил в «блок» с секретарем Магнитогорского горкома Ломинадзе, который позднее покончил жизнь самоубийством во избежание репрессий. В этом же году он якобы наладил контакты с троцкистами из окружения Пятакова в Наркомате тяжелой промышленности и по их заданию организовал «вредительство» в промышленности Челябинска [7, с. 138—140].
Таким образом, к 1938 г. опытные партийные руководители оказались практически уничтожены, и опираться приходилось на неопытных и малообразованных выдвиженцев. В тоже время на предприятия Урала в начале 1930-х годов начинают прибывать и иностранные (буржуазные) инженеры.
В общей сложности на Магнитострое в 1930— 1933 гг. работало 752 иностранных специалиста из США, Чехословакии, Румынии, Австрии и других стран, в том числе 449 человек из Германии [9, л. 6]. В тот же период на ЧТЗ трудилось около 168 иностранных работников. Из них рабочих — 133, специалистов — 35.
Специалисты-иностранцы, естественно, находились под неусыпным контролем со стороны советских властей. Составлялись также списки политических пристрастий и прочих личных дел. Так, например, Эдварда Терри (р. 1893), уже в 1930 г. работавшего для ЧТЗ в США в 1931 г. прибывшего в Челябинск, объявили «антисоветским элементом». Терри часто выражал глубокий скепсис относительно удачного завершения строительства ЧТЗ и делал при этом массу «компрометирующих фотографических снимков».
Отношения между иностранными и советскими инженерами, а также руководителями заводов, за редким исключением, были весьма напряженными, в то время как взаимоотношения с иностранными рабочими складывались достаточно доброжелательные.
Вероятнее всего, причиной такого явления было негативное отношение у немалого числа советских
-
А. В. Богданов инженеров к приглашению на производство иностранных специалистов, которые должны были играть руководящую роль на производстве. Большинство из них считало, что вместо того, чтобы тратить огромные средства на иностранцев, лучше было бы потратить их для поддержки своих кадров (создать условия для повышения квалификации, например, увеличив число зарубежных командировок, улучшить условия труда и быта).
В докладе об использовании промышленностью договоров о техпомощи от 1 января 1931 г. сообщалось: «Наши инженеры, как правило, относятся к иностранной технической помощи враждебно, а в лучшем случае безразлично. Вместо того чтобы с жадностью использовать всякую иностранную помощь, перенимать у американцев и европейцев накопленный ими опыт, наши инженеры считают, что они «сами с усами», начинают, вместо практической работы, заниматься излишним терроризированием, вносить совершенно ненужные и непродуманные поправки, не имея на это никаких знаний, а сплошь и рядом занимаются просто саботажем по отношению к иностранным инженерам» [1, л. 280].
Некоторые иностранные специалисты, приезжали на работу только с целью получения материальной выгоды. Они считали себя высококлассными специалистами, смотрели свысока на советских инженеров, считали их некомпетентными в вопросах проектирования и строительства. Зачастую держались обособленно и не шли на контакт вне производства.
Существовало настороженное отношение к иностранным гражданам, вызывавшее боязнь и нежелание общаться и уж тем более проводить в жизнь какие-либо их рационализаторские идеи, опасаясь быть обвиненными во вредительстве и шпионаже. Все это неизменно приводило к конфликтам на производстве. Велись споры по вопросам освоения оборудования, проектирования, строительства и срокам.
Причинами конфликтов также можно считать личные амбиции обеих сторон, различные методы в решении производственных задач, непонимание и даже неприятие отдельных аспектов делового стиля поведения. Иностранных специалистов часто обвиняли в торможении строительства, а они просто не понимали, зачем нужно так торопиться. Для советских же рабочих непонятным была строгая иерархия и четкое выполнение поставленных задач у иностранцев, в то время как для советского производства характерны были споры по производственным вопросам.
«Спецеедство» на промышленных предприятиях Урала в 1930-е годы (на материалах ЧТЗ и ММК)
Таким образом, на уральских промышленных предприятиях в начале 1930-х годов складывается неблагоприятная ситуация. В условиях дефицита квалифицированных кадров власть создает атмосферу недоверия как к старым техническим кадрам, так и к новым. Аресты специалистов, репрессии инженеров приводили к снижению показателей на предприятиях.
Недоверии к ИТР приводило к дезорганизации производства, снижались в целом темпы экономического развития, лишали руководителей возможности творчески мыслить и в то же время негативный фон страха и незащищенности. Молодые руководители, приходившие на мену старых, попавших под репрессии не имели опыта управления и просто боялись проявлять инициативу и больше следовали инструкциям, стараясь попросту выполнить план.
Призванный помочь организовать производство иностранные инженеры также вызывали недоверие ка у простых рабочих, так и инженеров. Иностранные специалисты воспринимались как «агенты враждебного капиталистического мира», призванного разрушить и нанести вред молодой советской промышленности.
Список литературы "Спецеедство" на промышленных предприятиях Урала в 1930-е годы (на материалах ЧТЗ и ММК)
- ГАСО. - Р. 1150. - Оп. 1. - Д. 1636.
- Калинкина Е. А. "…Каждый наш день оплачивается золотом…" (о командировках специалистов ЧТС и ЧТЗ за границу в 1930-е гг.) / Е. А. Калинкина // Индустриализация в СССР: уроки истории. - Челябинск, 2003. - С. 204-208.
- Ким, В. И. Феномен "Спецеедства" в раннем советском обществе (по письмам в редакцию "Рабочей газеты" 1922-1928 гг. ) / В. И. Ким // Вестник РУДН. История России. - 2016. - № 1.
- Металлурги Урала: энциклопедия / Урал. гос. ун-т. лаборатория "История металлургии Урала в биогр".; [гл. ред. А. А. Козицын, Л. И. Леонтьев]. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. - 445 с.
- Минаев, В. Н. Иностранные разведки и внутренняя контрреволюция в период первой пятилетки. Шахтинское дело / В. Н. Минаев // Подрывная деятельность иностранных разведок в СССР. - Ч. 1. - Москва: Воениздат НКО СССР, 1940.
- ОГАЧО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 105.
- Самуэльсон, Л. Танкоград: секреты русского тыла. 1917-1953 / Леннарт Самуэльсон; [пер. с шведского Н. В. Долговой]. - Москва: Фонд "Президентский центр Б. Н. Ельцина": РОССПЭН, 2010. - 372, [3] с.
- Скотт Дж. За Уралом: американский рабочий в русском городе стали / Дж. Скотт. - Москва: Изд-во МГУ; Свердловск: Изд-во УрГУ, 1991. - 304 с.