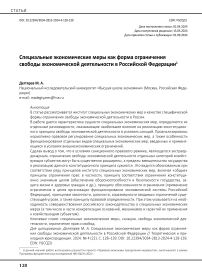Специальные экономические меры как форма ограничения свободы экономической деятельности в Российской Федерации
Автор: Дегтярев М.А.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (22), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается институт специальных экономических мер в качестве специфической формы ограничения свободы экономической деятельности в России.В работе дается характеристика сущности специальных экономических мер, определяются их отдельные разновидности, оказывающие наибольшее влияние на реализацию конституционного принципа свободы экономической деятельности в условиях санкций. Проанализированы нормативно-правовое регулирование специальных экономических мер, а также особенности функционирования отдельных видов специальных экономических мер, введенных и применяющихся в условиях внешнеэкономических ограничений.Cделан вывод о том, что в условиях санкционного правового режима, являющегося экстраординарным, ограничения свободы экономической деятельности отдельных категорий хозяйствующих субъектов могут быть существенно расширены, а пределы вмешательства государства в реализацию данного конституционного принципа сужаются. Это видится обоснованным при соответствии ряду принципов института специальных экономических мер, включая «общие» принципы ограничения прав: в частности, принципу соответствия ограничения конституционно значимым целям (обеспечение обороноспособности и безопасности государства, защита жизни и здоровья граждан и др.), принципу обоснованности ограничения (применение ограничения в целях организации функционирования экономической системы Российской Федерации), принципам законности, срочности, соразмерности вводимых ограничений существующей угрозе, а также принципу правовой определенности. При этом указывается на необходимость совершенствования российского законодательства о специальных экономических мерах (в том числе в части конкретизации оснований, механизмов и гарантий их применения к хозяйствующим субъектам).
Специальные экономические меры, санкции, свобода экономической деятельности, ограничения прав и свобод
Короткий адрес: https://sciup.org/14132210
IDR: 14132210 | DOI: 10.22394/3034-2813-2024-4-128-139
Текст научной статьи Специальные экономические меры как форма ограничения свободы экономической деятельности в Российской Федерации
В условиях санкционного давления на Россию, особенно обострившегося с 2022 г., государство активно принимает меры по противодействию внешнеэкономическим ограничениям иностранных государств. Одной из наиболее используемых разновидностей таких мер в 2022–2024 гг. выступают специальные экономические меры (далее также — СЭМ), применяемые в различных сферах отечественной экономики и направленные на сохранение ее устойчивости. СЭМ зачастую предусматривают дополнительные ограничения деятельности хозяйствующих субъектов в России, а значит, неизбежно затрагивают реализацию конституционного принципа свободы экономической деятельности. В этой связи необходимо рассмотреть российский институт СЭМ и определить его роль как формы ограничения свободы экономической деятельности (далее также — СЭД) в России.
Принцип СЭД и возможность его ограничения
Важнейшим конституционным принципом российской экономики является принцип свободы экономической деятельности, закрепленный в ст. 8 Конституции Российской Федерации (далее — КРФ). Как указывал В. Д. Зорькин, СЭД предполагает, в первую очередь, свободу предпринимательства (ст. 34 КРФ) и объединяет в себе несколько относительно самостоятельных принципов правового регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности (принцип свободы договора, общедозволительный принцип, принцип свободы конкуренции и др.)3. Конституционный суд РФ (далее — КС РФ)отмечал, что СЭД реализуется на основе принципов юридического равенства, неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела4.
Таким образом, обозначенные принципы являются ключевыми составляющими СЭД и определяют ее правовое содержание.
Принцип СЭД не только отражает разнообразие форм экономической деятельности, но и подразумевает свободу от вмешательства государства в экономику5. В этой связи КРФ признает существование рамок, за пределы которых не может выходить государство в процессе регулирования экономических отношений. Такие рамки, на наш взгляд, являются важнейшим условием существования рыночной экономики в стране. Именно они обеспечивают невозможность осуществления «ручного» управления экономикой и возвращения плановой экономической системы.
Вместе с тем любые свободы, в том числе и экономические, не могут быть безграничными. В этой связи государство устанавливает правовые рамки (или ограничения) реализации СЭД, в том числе путем принятия нормативно-правового регулирования. Однако ограничения СЭД не могут быть произвольными. Я. В. Лобанова указывала, что они должны вводиться при наличии объективной и реальной опасности конституционно охраняемым целям в соответствии с принципами равенства, правовой определенности, справедливости и соразмерности. Недопустимы ограничения, которые могут привести к умалению, отмене и иным формам чрезмерного сужения нормативно закрепленного объема прав и свобод6.
Существуют принципы, которым должны соответствовать ограничения конституционных прав и свобод. Среди таковых можно выделить:
-
1. Соответствие и соразмерность ограничений конституционно охраняемым целям (ч. 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 КРФ), что подразумевает адекватность степени и объема ограничений существующей угрозе, а также их применение лишь в случае, когда более мягкие меры государственного принуждения исчерпаны. Публичные интересы могут оправдать ограничения прав и свобод, если они адекватны социально необходимым целям. Такие ограничения должны быть не чрезмерными, а строго обусловленными конституционными целями7. Ограничения должны учитывать баланс интересов человека, общества и государства, а также иметь четкие и разумные временные рамки8.
-
2. Принципы введения ограничений только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 КРФ), запрета на ограничение прав и свобод по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 2 ст. 19 КРФ).
-
3. Принцип невмешательства в существо СЭД, который подразумевает недопустимость ситуации, когда ограничение меняет саму суть и истинное назначение права, в результате чего искажается та цель, ради которой допускались ограничения9.
Указанные критерии, наряду с критериями пропорциональности, справедливости и отсутствия обратной силы, выделялись КС РФ в качестве основополагающих принципов СЭД10. Кроме них КС РФ выделял также принцип правовой определенности ограничений11, согласно которому правовая норма, ограничивающая СЭД, должна иметь формально определенное, недвусмысленное, ясное и однозначное понимание12.
Особенности санкционного правового режима
Специфическую форму пределы СЭД приобретают в период действия различных специальных правовых ограничительных режимов, называемых «экстраординарными режимами»13 (например, режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, военного положения и т. д.). Особенностью экстраординарных режимов является их «чрезвычайный, срочный, временный характер, существенное изменение регулирующего воздействия на субъекты правоотношений, наличие серьезных ограничений прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций»14.
Среди таких режимов можно выделить и режим экономических санкций, принимаемых одними государствами в отношении других, что подтверждается в научных исследованиях15.
Режим внешнеэкономических ограничений в научной литературе называют санкционным режимом предпринимательской деятельности (или санкционным правовым режимом). А. Р. Рязанова характеризует его как «порядок регулирования общественных отношений, который временно устанавливает государство <…> для достижения целей внешней политики, ответа на неправомерные или недружественные действия <...> или для обеспечения национальной безопасности посредством запретов и/или ограничений прав граждан и организаций на <...> совершение юридических действий в отношении определенных граждан и организаций другого государства <...>»16. О. А. Тарасенко отмечал, что такие правила являются срочными, но тяготеющими к неоднократному продлению17.
Россия подвергается санкционному давлению с 2014 г. Это давление обострилось в 2022 г., когда наша страна стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций18. Условия санкционного давления ставят перед государством новые вызовы, угрожающие функционированию его экономической и финансовой систем. Эти вызовы требуют от него адекватных и своевременных форм реагирования, направленных на сохранение устойчивости экономики. Такие формы реагирования, как правило, предусматривают дополнительные ограничения СЭД.
Характеристика СЭМ и особенности их применения
Одной из форм ограничений СЭД в условиях санкций сегодня являются специальные экономические меры, относящиеся к кругу мер «воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств»19.
СЭМ — один из наиболее распространенных правовых инструментов государства по отражению внешнего санкционного давления и обеспечению безопасности России (п. 5 ст. 3 ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»). Используя данный инструмент, государство установило ряд новых правил осуществления экономической деятельности в наиболее важных отраслях экономики: например, в топливно-энергетической сфере, сфере промышленности и торговли, банковского сектора и рынка ценных бумаг, сельского хозяйства и др. СЭМ стали оказывать огромное влияние на функционирование отечественной экономической системы.
Что же представляют собой специальные экономические меры?
Общепризнанного определения данного понятия в нормативных правовых актах и доктринальных исследованиях не выработано. При этом вопросам характеристики и применения СЭМ в России посвящен отдельный федеральный закон20 (далее — Закон о СЭМ), согласно которому к СЭМ относится запрет совершения определенных действий в отношении блокируемых лиц: в частности, запрет (ограниче-ние)совершения с ними финансовых и внешнеэкономических операций, замораживание их имущества и запрет осуществления операций с таким имуществом, а также возложение обязанности совершения перечисленных действий. Перечень мер, относящихся к СЭМ, носит открытый характер, так как на блокируемых лиц могут быть наложены «иные ограничения».
Приведенная характеристика СЭМ действует с февраля 2024 г.21 Именно тогда было введено понятие «блокируемых лиц»22 — иностранных государств, организаций и физических лиц иностранного происхождения или подконтрольных иностранным организациям, гражданам или апатридам (ч. 2.1 ст. 3 Закона о СЭМ). К подконтрольным относятся организации, более 50 % голосующих акций которых могут прямо или косвенно распоряжаться иностранные граждане или организации.
До февраля 2024 г. СЭМ применялись только в отношении иностранных государств, организаций и граждан, а также апатридов, постоянно проживающих на территории иностранного государства. Таким образом, в 2024 г. перечень лиц, в отношении которых возможно применение СЭМ, был значительно расширен за счет «подконтрольных» организаций.
В случае введения СЭМ блокируемые лица могут быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом: ст. 3.1 Закона о СЭМ предусматривает весьма узкий перечень базовых прав «блокируемого лица», попавшего под СЭМ (например, выплата работникам зарплаты не выше прожиточного минимума, получение зарплаты и расходование ее в размере не более 10 тыс. руб., получение стипендий и пособий и др.). Иными словами, введение СЭМ может значительно ограничить дееспособность блокируемого лица как участника правоотношений.
Несмотря на открытый перечень СЭМ, возможная их направленность исчерпывающе определена в законе (ч. 2.3 ст. 3 Закона о СЭМ):
-
• приостановление программ экономической, технической помощи, программ военно-технического сотрудничества, ограничения туризма;
-
• запрет (ограничение) финансовых и внешнеэкономических операций, а также запрет на участие в международных и иностранных научных и научно-технических программах и проектах;
-
• прекращение (приостановление) действия внешнеэкономических международных договоров, а также изменение таможенных пошлин;
-
• запрещение (ограничение) захода иностранных судов в российские порты, а также использования российского воздушного пространства.
Однако в отдельных случаях (часть из которых рассмотрена ниже) применение СЭМ может выходить за рамки данного перечня направлений.
Применение СЭМ осуществляется согласно ряду принципов, среди которых: принципы законности, гласности, обоснованности и объективности применения (ч. 2 ст. 2 Закона о СЭМ), обязательность соблюдения для органов публичной власти, граждан и организаций (ч. 3 ст. 3 Закона о СЭМ), временный характер (применяются на срок, устанавливаемый Президентом) (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 5 Закона о СЭМ), а также соразмерность мер обстоятельствам, для устранения которых они применяются (ч. 5 ст. 3 Закона о СЭМ). Исходя из последнего принципа, например, нельзя в случае введения государством санкций на поставку из России какого-либо одного вида товаров (например, сыра) ввести запрет на торговлю с этим государством любыми видами товаров. Однако в ситуации введения большого количества санкций разнонаправленного характера оценить соблюдение критерия соразмерности СЭМ часто проблематично.
Особенности влияния отдельных видов СЭМ на реализацию конституционного принципа СЭД в РФ
С 2022 г. СЭМ приобретают различные формы, которые можно разделить по блокам, в зависимости от той отрасли экономики, на которую они влияют. Из этих блоков можно выделить те, которые оказывают наиболее сильное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов и, следовательно, на реализацию ими принципа СЭД.
Первыми и наиболее значимыми по уровню такого воздействия, на наш взгляд, являются СЭМ, предусматривающие введение временного управления имуществом, принадлежащим «недружественным лицам», или ограничение прав управления таким имуществом.
Институт «временного управления» — новелла отечественного правового регулирования, вызванная необходимостью выработки ответных мер на заморозку российских активов в 2022–2023 гг. Временное управление предусматривает временное изъятие определенных видов имущества у собственника, являющегося лицом недружественных иностранных государств, с временной передачей лицу, назначенному государством, полномочий собственника в отношении указанного имущества.
В качестве «лиц недружественных иностранных государств» выступают лица, связанные с такими государствами (то есть их граждане, резиденты, а также лица, осуществляющие преимущественное ведение хозяйственной деятельности или извлекающие прибыль от своей деятельности на территории таких государств), а также лица, находящиеся под контролем указанных лиц.
Режим вводится в случаях лишения или ограничения права собственности и/или имущественных прав России или российских лиц в недружественных государствах23, возникновения угрозы такого нарушения, а также возникновения иных угроз безопасности России и ее обороноспособности, в отношении фактически любого имущества «недружественных лиц»: движимого и недвижимого имущества, принадлежащих им ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских компаний, а также имущественных прав.
В рамках режима временного управления государство временно (до решения Президента РФ об отмене) фактически изымает имущество у владельца и передает временному управляющему, которым, по общему правилу, является Росимущество. Однако Президент РФ вправе определить и иного временного управляющего (к примеру, Правительство Москвы24). Временный управляющий осуществляет полномочия собственника активов, переданных во временное управление, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Расходы по осуществлению временного управления покрываются за счет доходов от использования имущества.
Конкретное имущество, в отношении которого вводится «временное управление», содержится в специальном перечне25. Изначально (в апреле 2023 г.) в нем были акции всего двух компаний, однако перечень постоянно расширяется (к 1 ноября 2024 г. в нем находилось уже более 30 позиций).
Таким образом, институт временного управления, получающий всё большее распространение на территории России, фактически является инструментом временной экспроприации имущества. Такая экспроприация на неопределенное время полностью лишает лицо возможности осуществлять правомочия собственника в отношении принадлежащего ему имущества. При этом для компании, в отношении которой введено временное управление, существует высокий риск ухудшения ее финансового положения, и даже риск банкротства. Это связано с невозможностью равнозначной замены государственными служащими налаженной системы управления компанией, отсутствием регулирования процедуры введения и осуществления временного управления (в частности, механизма передачи полномочий к временному управляющему, реализации его полномочий)и механизмов контроля расходов на временное управление, осуществляемых за счет активов компании, а также ответственности временного управляющего. Для минимизации обозначенных негативных последствий необходимо четко урегулировать процедуру осуществления механизма временного управления. В частности, нужно определить функции, полномочия и ответственность временного управляющего, а также зафиксировать особенности осуществления им сделок по распоряжению имуществом компании.
Исходя из изложенного, любая компания, связанная с недружественным государством, осуществляя деятельность на российском рынке, в любом случае, вне зависимости от своего «поведения» на рынке, рискует попасть под режим временного управления, что влечет за собой значительные риски в различных аспектах ее деятельности. В свою очередь, введение данного режима фактически блокирует не только свободное осуществление лицом экономической деятельности, но и возможность осуществлять эту деятельность как таковую. В этой связи на примере данного института можно говорить о возможности существенного расширения ограничений принципа СЭД в условиях санкций.
Столь жесткое ограничение указанного принципа объяснимо — российское государство в данном случае зеркально реагирует на подобную экспроприацию зарубежного имущества России и российских граждан, осуществляемую со стороны иностранных государств (размер которой на начало 2023 г. оценивался в несколько триллионов рублей26). Учитывая, что замороженные активы могут пойти на покупку оружия для Украины27 (то есть для страны, с вооруженными силами которой РФ ведет боевые действия), такое зеркальное реагирование представляется более чем обоснованным.
Кроме того, практика показывает, что государство действительно рассматривает режим временного управления как экстраординарную меру, которая носит срочный характер и рано или поздно будет отменена. Так, первый случай отмены режима временного управления произошел в марте 2024 г. в отношении АО «Данон Россия»28. Наличие таких примеров показывает, что государство постоянно анализирует реальную необходимость режима временного управления в отношении той или иной компании, и, если такая необходимость отпадает, отменяет его.
При этом сам механизм временного управления, главная проблема которого кроется в недостаточности и неопределенности регулирования, вызывает обозначенные выше правовые вопросы. В этой связи нельзя не сравнить его с обсуждаемым с 2022 г. схожим механизмом внешнего управления, законопроект о возможности введения которого был принят Государственной Думой в первом чтении в мае 2022 г. (с тех пор его статус не изменился)29. Механизм внешнего управления достаточно сильно напоминает механизм временного управления. При этом между ними существует и ряд принципиальных отличий. Так, институт временного управления предусматривает четкие критерии лиц, которые могут попасть под такое управление (такие критерии зависят, например, от сферы деятельности лица, степени его влияния на рынке, направленности действий собственников иностранных активов в отношении РФ), определяет четкие основания назначения внешней администрации, ее функции, особенности осуществления ею сделок, а также фиксирует процедуру передачи ей полномочий руководителя организации и ответственность за причиненные убытки. В этой связи, на наш взгляд, режим внешнего управления, в отличие от режима временного управления, видится более соответствующим принципу правовой определенности и, одновременно с этим, создающим куда меньшие риски ущемления прав хозяйствующих субъектов. Как следствие, режим временного управления в будущем представляется возможным заменить режимом внешнего управления.
В рамках СЭМ существуют и иные формы фактического изъятия имущества у иностранных лиц. Такие меры могут осуществляться путем императивного создания государством специализированных юридических лиц, которым переходят все или часть активов организации. При этом государство может самостоятельно распределять доли участия иных организаций в создаваемом им обществе и лишать в нем иностранных лиц права голоса.
Одним из последних примеров использования обозначенной формы является процедура корпоративных изменений в управлении аэропортом Пулково, осуществленная в конце 2023 г.30 В рамках данной процедуры Правительством РФ было создано ООО «Холдинг ВВСС», заменившее единственного участника ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (владелец аэропорта). Доли в новом юридическом лице были прямо определены государством. Иностранные участники не утратили доли, однако были временно лишены права голоса по ним, в результате чего контроль над аэропортом фактически перешел к РФ (через РФПИ и ВТБ).
Таким образом, данный указ фактически представляет собой случай перераспределения имущества в пользу РФ в рамках специфической формы СЭМ. Столь радикальное решение имело под собой значительные основания: контроль организации со стороны иностранных лиц (более 50 %, что в условиях санкций является недопустимым для критически важного транспортного объекта), позиция одного из участников (немецкая компания Fraport), планировавшего продать свою долю 25 %31, а также объем финансовых обязательств, которые иностранная холдинговая компания имела перед своими участниками, связанными с недружественными государствами. В Указе основанием для принятия решения являлась «угроза национальным интересам и экономической безопасности России»32.
Данный случай не является единственным: аналогичные механизмы перераспределения долей компаний уже применялись государством в случае с оператором нефтегазового проекта «Сахалин-1»33, операторами Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (далее — НГМК)34, Уренгойского НГМК35, Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа36. Причем в случае с ЮжноРусским НГМК иностранные «недружественные» участники были полностью устранены из структуры владения новой организации.
Необходимость принятия обозначенных мер объяснялась создаваемыми угрозами возникновения чрезвычайной ситуации, угрозой жизни и безопасности людей, а также угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ.
Таким образом, «угроза национальным интересам и безопасности» рассматривается как основание для применения СЭМ, являющихся существенным ограничением права собственности лиц, связанных с недружественными государствами.
Одновременно с этим можно говорить о том, что СЭМ в виде перераспределения активов организаций так же, как и институт временного управления, фактически размывают принцип СЭД. Однако такое «размытие» видится оправданным в случае его применения для конституционно значимой цели обеспечения безопасности России, когда невмешательство государства грозит кризисом значимых отраслей экономики, риском возникновения чрезвычайных ситуаций и, как следствие, риском массовых нарушений прав граждан.
СЭМ, влияющие на реализацию принципа СЭД, не всегда предусматривают какие-либо формы изъятия или перераспределения собственности организаций. Так, одной из самых существенных по объему и влиянию на развитие отечественной экономики разновидностью СЭМ является блок, посвященный особенностям исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, связанными с недружественными государствами.
Применение такого рода СЭМ началось в марте 2022 г., когда был принят Указ Президента, установивший особенный временный порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами, связанными с недружественными государствами РФ (далее также — «недружественные кредиторы»)37. Данная связь выражается в наличии гражданства такого государства (в том числе если лицо, наряду с гражданством недружественного государства, имеет российское гражданство), регистрации или преимущественного ведения хозяйственной деятельности, а также извлечения прибыли в нем или в наличии контроля со стороны иностранных государств.
Особый порядок исполнения обязательств применяется в случае, если их размер превышает 10 млн руб. в календарный месяц, и предусматривает возможность российских граждан и публично-правовых образований, имеющих обязательства перед «недружественными кредиторами» в валюте, осуществлять расчеты с последними в рублях. Для того чтобы обязательства считались исполненными, они должны быть проведены с использованием специального счета типа «С» или в ином порядке, определенном Минфином России или Банком России. Выплата прибыли российскими организациями своим совладельцам, связанным с недружественными государствами или контролируемым такими государствами, также стала возможной только через счет типа «С» (если иное не определено Банком России и Минфином России)38.
Существуют и иные типы счетов, с использованием которых возможно исполнение обязательств перед иностранными кредиторами:счет типа «Д» — для расчетов по еврооблигациям, выпущенным иностранными организациями39; «З» — для расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельхозпродукции40; «И» — для расчетов по еврооблигациям с иностранными кредиторами (Указы Президента РФ 202241 и 2023 гг.42); «К» — для расчетов за поставки природного газа43; «О» — для расчетов с правообладателями, связанными с недружественными юрисдикциями44.
Особый порядок расчетов по обязательствам, в рамках которого используются перечисленные счета, безусловно, оказывает влияние на реализацию принципа СЭД. Такое влияние заключается в крайне специфической форме реализации принципа свободы договора, без которого не может существовать принцип СЭД. Так, в данном случае исполнение обязательств подчинено необходимости создавать «прослойку» между его сторонами — кредитором и должником, в виде создания специального счета. Расходование средств с таких счетов в рамках исполнения обязательств осуществляется только с разрешения публичных органов, уполномоченных государством, — Банка России или Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (далее — Правкомиссия).
Исполнение отдельных обязательств с «недружественными лицами» возможно при условии обязательного предварительного одобрения Правкомиссии, без их проведения через специальный счет. Так, в частности, разрешение Правкомиссии требуется при предоставлении таким лицам кредитов и займов, при продаже им ценных бумаг и недвижимости, а также при осуществлении некоторых других опера-ций45. Иными словами, часть сделок фактически осуществляется лишь с разрешения государства.
Говоря о специальных правилах исполнения сделок с иностранными контрагентами при условии предварительного контроля со стороны публичных субъектов, нельзя не остановиться и на некоторых особенностях совершения сделок с долями зарубежных компаний.
В марте 2022 г. были определены специальные правила осуществления указанных сделок, согласно которым совет директоров Банка России получил право определять размер сумм операций по некоторым видам сделок резидентов с нерезидентами, а также размер переводов со счетов «недружественных» резидентов на счета «дружественных»46.
Также было установлено обязательное согласование Правкомиссией сделок с долями ООО с участием «недружественных лиц»47, а также сделок с участием «недружественных лиц» в отношении как минимум 1 % акций или долей кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, а также управляющих компаний акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных или негосударственных пенсионных фондов48.
Как известно, введение внешнеэкономических ограничений повлияло и на деятельность ряда иностранных компаний на российском рынке: под внешним давлением из России к началу 2023 г. ушло около 139 иностранных организаций49. Государство предпринимало меры по недопущению выхода иностранных инвесторов из ключевых отраслей российской экономики. Так, в августе 2022 г. было запрещено совершать сделки с ценными бумагами и долями в уставных капиталах российских компаний, принадлежащих лицам, связанным с недружественными государствами, без разрешения Президента РФ. Такой запрет был установлен в отношении стратегических организаций, участников проекта «Сахалин-1» и Харьягинского месторождения, производителей оборудования для организаций ТЭК, производителей и поставщиков тепло- и электроэнергии, нефтеперерабатывающих организаций, а также отдельных кредитных организаций, перечень которых утверждается Президентом50. Указанный запрет был установлен и в отношении отдельных пользователей участков недр51.
Осуществление предварительного контроля за совершением сделок со стороны публичных субъектов обусловлено, в первую очередь, необходимостью ограничить возможность вывода российских активов важнейших для страны предприятий в недружественные страны, что в условиях санкций критически важно для обеспечения экономической безопасности государства и организации функционирования его экономической системы.
При этом средства на счете типа «С» могут использоваться в целях их обмена на замороженные российские активы за рубежом52. Это важно для сохранения заблокированных российских активов в нашей стране и недопущения их передачи третьим лицам с дальнейшим использованием против России.
СЭМ имеют и иные разновидности (например, обязательную продажу валютной выручки, ограничение трансграничных переводов, особенности проведения операций с ценными бумагами и др.). Большая часть из них устанавливает особый правовой режим деятельности организаций в той или иной отрасли экономики, ограничивающий СЭД хозяйствующих субъектов.
Выводы
СЭМ выступают одной из самых значимых форм ограничений свободы экономической деятельности в России. Особенно жесткий характер такие меры приобрели в период санкций, то есть во время нарастания внешних угроз для российской экономики. Для нивелирования риска, исходящего от таких угроз, а также для ответа на таковые государство принимает меры, часть из которых значительно сужает возможности лица для свободного осуществления экономической деятельности, а часть — фактически лишает лицо такой возможности. Как правило, СЭМ применяются в отношении лиц, связанных с недружественными государствами.
На примере института СЭМ можно говорить о том, что в условиях санкций ограничения реализации свободы экономической деятельности для лиц, связанных с недружественными государствами, могут быть существенно расширены, а пределы вмешательства государства в реализацию данного конституционного принципа становятся ýже.
В период беспрецедентного санкционного давления на Россию такие расширенные ограничения видятся возможными. Однако, во-первых, они должны носить исключительный характер, то есть применяться только в том случае, если арсенал более мягких мер, которые может предпринять государство для противодействия иностранным санкциям, исчерпан.
Во-вторых, применение таких мер должно соответствовать принципам применения СЭМ и общим принципам ограничений прав и свобод. Важнейшим из этих принципов является применение ограничения строго в конституционно значимых целях (среди которых, в частности, цели обеспечения обороны и безопасности государства, защиты жизни, здоровья и законных интересов граждан). Кроме того, применение СЭМ должно соответствовать принципу обоснованности: должна существовать связь между правами и интересами, требующими защиты, угрозой нарушения таких прав и интересов и нивелированием такой угрозы посредством применения ограничения. В случае c СЭМ таким интересом является цель организации функционирования российской экономики, о значимости которой высказывался КС РФ53.
При этом важно соблюдение принципов правовой определенности, законности, гласности, обоснованности и объективности применения СЭМ, временный характер их использования, а также соразмерность мер тем обстоятельствам, для устранения которых они применяются.
Необходимо совершенствовать российское законодательство в целях соответствия «контрсанкционных» ограничений СЭД обозначенным принципам. Особую важность здесь представляет работа над конкретизацией оснований, механизмов и гарантий применения СЭМ к хозяйствующим субъектам. Важно не допускать неизбирательного применения таких мер, их неопределенного и неясного содержания, а также создания чрезмерных препятствий для деятельности иностранных организаций на российском рынке.
Список литературы Специальные экономические меры как форма ограничения свободы экономической деятельности в Российской Федерации
- Астафьева Е. В. Принципы ограничения конституционных прав и свобод граждан // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 22 (123). С. 45-48. EDN: MSYLLN
- Лобанова Я. В. Свобода экономической деятельности: конституционное содержание и пределы: специальность 12.00.02 "Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право": дисс.... канд. юрид. наук Лобанова Яна Витальевна, 2019. 264 с. EDN: KQIALO
- Мохов А. А. Правовые режимы осуществления экономической деятельности и саморегулирование предпринимательской или профессиональной деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. С. 9-14. EDN: TOMOXH
- Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация / Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева, Т. А. Андронова. М.: Норма, 2017. 464 с. EDN: XRAKZT
- Рязанова А. Р. Санкционный режим экономической деятельности: понятие и правовая природа // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2022. № 12 (100). С. 205-214. DOI: 10.17803/2311-5998.2022.100.12.205214 EDN: UPWQNO
- Тарасенко О. А. Формирование доктрины и законодательства о правовых режимах банковской деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 51. С. 105-132. DOI: 10.17072/1995-41902021-51-105-132 EDN: MBIJTY
- Федоренко В. И. Свобода экономической деятельности в Российской Федерации: понятие, пределы и ограничения // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 6 (131). С. 70-77. EDN: NLKNNJ