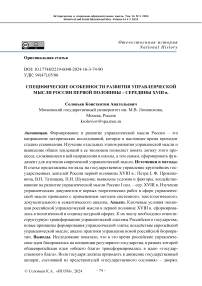Специфические особенности развития управленческой мысли России первой половины - середины XVIII в
Автор: Соловьев К.А.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.
Бесплатный доступ
Формирование и развитие управленческой мысли России - это направление исторических исследований, которое в настоящее время проходит стадию становления. Изучение отдельных этапов развития управленской мысли и выявление общих тенденций в ее эволюции позволяет понять логику этого процесса, сложившиеся в ней направления и школы, а тем самым, сформировать фундамент для изучения современной управленческой мысли. Источники и методы. В статье представлены взгляды на государственное управление крупнейших государственных деятелей России первой половины XVIII в.: Петра I, Ф. Прокоповича, В.Н. Татищева, П.И. Шувалова; выявлены условия и факторы, воздействовавшие на развитие управленческой мысли России I пол. - сер. XVIII в. Изучение управленческих документов и первых теоретических работ в сфере управленческой мысли проведено с применением методов системного, текстологического, документального и семантического анализа. Анализ. Ключевые условия эволюции российской управленческой мысли в первой половине XVIII в. сформировались в политической и социокультурной сферах. К их числу необходимо отнести: структурную трансформацию управленческой системы Российского государства; новые принципы формирования управленческой элиты; воздействие европейской управленческой мысли; анализ практики управления новой российской бюрократии.
История России, российская империя, xviii век, теория государственного управления, история управленческой мысли, концепция
Короткий адрес: https://sciup.org/149146309
IDR: 149146309 | УДК: 94(47).05/06 | DOI: 10.17748/2219-6048-2024-16-3-74-90
Текст научной статьи Специфические особенности развития управленческой мысли России первой половины - середины XVIII в
Введение.
В XVIII веке в связи с проведением «петровских реформ» и утверждением в России новых для нее форм и методов государственного управления коренным образом изменились как условия, в которых развивалась управленческая мысль, так и факторы, воздействующие на это развитие. В задачи данной статьи входит: описание условий, в которых проходило формирование российской управленческой мысли, отражающей новые реалии; выявление факторов, воздействовавших на эволюцию управленческий мысли; а также выявление и систематизация специфических черт российской управленческой мысли в первой половине XVIII в. В исторической литературе XIX–XX вв. тема становления управленческой мысли, как правило, не находилась в фокусе внимания авторов. В современной историче- ской литературе можно отметить несколько попыток подойти к теме управленческой мысли как своеобразному ответвлению мысли юридической [1], конституционной [2], как к элементу административной практики [3; 4], как составной части общественной или экономической мысли [5; 6]. Характеристику управленческих взглядов ряда мыслителей и деятелей этой эпохи (Петра I, И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова) мы можем обнаружить в ставшем уже классическом учебнике В.И. Маршева [7].
Условия формирование управленческой мысли России первой пол. XVIII в.
К концу первой четверти XVIII в. система управления страной, сложившаяся (в главных параметрах) к середине XVI в. и достигшая максимального расцвета ко времени принятия Соборного уложения (1649 г.), была полностью ликвидирована. Органы управления сословно-представительной монархии (Земский собор, Дума, большинство приказов) перестали функционировать и были заменены органами управления абсолютной монархии, ориентированными на принципы регулярности, вертикальной подчинённости, бюрократического управления. [8, с. 435].
Резко изменился состав управленческой элиты. Отмена «местничества» в 1682 г. открыла возможность для создания «социальных лифтов» в системе управления. Привлечение большого количества иностранцев к решению управленческих проблем изменило национальный состав элиты. Утверждение «Табели о рангах» (1722 г.) закрепило принцип «вертикальной мобильности» и дало начало развитию таких элементов бюрократического управления, как «административная иерархия, деление чиновников на классы, принцип выслуги и меритократии» [4, с. 177].
В первой четверти XVIII в. набор практик по совершенствованию государственного управления значительно опережал возможности их теоретического осмысления. В эти годы те, кто освоил семантику языка управления (а это главным образом лица, занимавшие важнейшие посты в государстве и приглашенные в качестве экспертов, иностранцы), были заняты во множестве государственных дел и не имели ни времени, ни соответствующей мотивации к созданию теоретических работ. Поэтому крупных трудов по интересующей нас проблематике создано не было, а все новации в управленческой мысли чаще всего непосредственно отражались в законотворческой деятельности.
Во второй четверти и в середине XVIII в. сложилась обратная ситуация по отношению к предшествующему периоду. Преобразования в системе управления носили теперь не реформаторский и проактивный (как при Петре I), а реактивный характер и проводились исходя из сиюминутных потребностей и тактических соображений. Шел процесс взаимной интеграции различных слоев управленческой элиты: старинных боярских и дворянских родов, иностранцев на русской службе,
«выдвиженцев» петровской эпохи. В это время теоретическое осмысление управленческих проблем вступило в отчетливый конфликт с управленческой практикой: фаворитизмом, реактивностью, коррупционными проявлениями. Но на уровень серьезных теоретических обобщений удалось выйти только одному из государственных деятелей той эпохи – графу Б.К. Миниху, представившему результаты своих размышлений уже в 1760-х годах, после возвращения из ссылки.
Управленческая мысль первой четверти XVIII в.
Деятельность Петра I по созданию «регулярного государства» оказала сильное влияние на развитие управленческой мысли не только России, но и европейских стран. Образ правителя государства, ставшего «работником на троне», вдохновлял Фридриха II Прусского и служил ориентиром Вольтеру при разработке концепции «просвещенного абсолютизма» [9, с. 1]. Сам же Петр I не оставил теоретических трудов по управлению. Его представления о целях, задачах, принципах, формах и инструментарии управления заложены в так называемых «учредительных актах», к числу которых относят регламенты, учреждения, уставы [1, с. XIX-XXI]. Анализ этих актов и в первую очередь текста «Генерального регламента», позволяет установить, а точнее, реконструировать базовые параметры петровской концепции управления, которая так и не получила оформления в виде отдельного текста.
Уже в самом начале законотворческой деятельности по реформированию государства и государственной службы, в Указе 1701 г., Петр I повелевает «боярам и окольничим, и думным и ближним людям, и судьям, и в городах воеводам, и дьякам, и всяким приказным людям» при осуществлении своей служебной деятельности «своим вымыслом вновь, сверх сего великого государя Указу и соборного Уложенья, на Москве и в городах никаких статей и пополнения не делать, и в допросах и в розыскных делах и во всяких росправах ничего не прибавливать и не убавливать, и ни в чем друг другу не дружить и недругу не мстить» [10, с. 51]. Это означало, что Петр I начал теоретическую работу (сопровождаемую нормативной практикой) по закреплению принципа верховенства законов в деятельности по управлению.
Прежние традиции управленческой деятельности (сложивщиеся в конце XV – нач. XVI в., во времена местничества и кормлений), сохраняли за должностными лицами большую степень свободы, как в организации служебной деятельности, так и в трактовке правовых норм. В новом веке, с началом которого совпал выход этого Указа, такого рода расширительные трактовки прав государственных служащих объявлялись самоуправством и подлежали искоренению. Формировался «режим законности» в государственном управлении, формально закрепленный «Генеральным регламентом» от 28 февраля 1720 г. В этом документе устанавливался «письменный» (то есть в современных терминах – бюрократический)
характер государственного управления: «Того ради изволяет его царское величество, всякие свои указы в сенат и в коллегии, також и из сената в коллегии ж отправлять письменно; ибо как в сенате, так и в коллегиях словесные указы никогда отправляемы быть не надлежат» [11, с. 108-109].
Ключевыми элементами нового порядка управления, закрепленными в «Генеральном регламенте», становились: тождество интересов государства и государя; коллегиальный характер управления, при личной ответственности чиновников за порученное дело; строгая регламентация обязанностей чиновников, а также способов и сроков исполнения порученных дел; жесткий распорядок работы государственных учреждений; следование служебной этике.
Последний из названных параметров (служебная этика) был одним из самых новаторских элементов в преобразовательской деятельности Петра I в отношении системы государственного управления, ее характера и способов деятельности. В «Генеральном регламенте» (в главе XXV) это обозначено следующим образом: «Президенты и вице-президенты имеют того смотреть, чтоб служители при коллегиях, канцеляриях и конторах до последнего должность свою знали <…> вышние над поступками и обхождением подчиненных своих служителей надзирание имели, и каждого к добродетели и достохвальному любочестию побуждали, чтоб безбожного жития не имели, также пития и игры, лжи и обманства удерживали, чтоб оные в одежде чисто содержались, а во обхождении постоянно и недерзостно поступали. Буде же сие увещание и обучение не поможет и надежды ко исправлению не будет: то такого служителя, по изобретению персоны и дел, наказать отнятием чина, или весьма отставить» [11, с. 108-109].
Еще раз отметим: то, что выходило из-под пера Петра I – это результат работы его управленческой мысли, выраженный в статьях и пунктах нормативных документов. Это не теория управления как таковая, а придание ее положениям (не декларируемым, но подразумеваемым) инструментального характера [3, с. 249].
Серьезную работу по обоснованию новых принципов государственного управления проделал один из наиболее образованных деятелей петровского времени, архиепископ Новгородский и «первенствующий член Святейшего Синода» Феофан Прокопович. Выступая в жанре «Слов похвальных», Прокопович использовал для утверждения новых теоретических положений форму религиозной проповеди с постоянной отсылкой к библейским темам и образам. Это придавало его новаторским, по сути, рассуждениям традиционный и даже отчасти архаический оттенок. Но в этом был свой смысл: новация, вложенная в традиционную форму, воспринималась легче, чем полный разрыв с традицией.
В своих проповедях Феофан Прокопович разъяснял содержание петровских преобразований, в том числе и в сфере управления. Наиболее важным документом в этом отношении стало «Слово о власти и чести царской», написанное и произнесенное Прокоповичем в 1718 г. в связи с «делом» наследника престола Алексея Петровича. В «Слове» Прокопович указывает на то, что самодержавная «власть державная естественному закону есть нужна». И сразу: «Аще от естества, от самого бога, создателя естества» [12, с. 82]. Сочетание в одном тексте двух обоснований самодержавной власти – от Бога и по «естественному закону» – выражало, с одной стороны, переходный характер этой эпохи быстрых и необратимых преобразований, а с другой – стало следствием культурного раскола в обществе. «Просвещенная» часть элиты (в том числе и сам Прокопович) уже не удовлетворялась прежними трактовками характера власти и управления и стремилась к усвоению достижений европейской управленческой мысли, базирующейся в это время на концепции «естественного права». Для остальной части населения принцип «власть от Бога» сохранялся в неизменности.
Концепция «естественного права» в управлении вводилась Прокоповичем в «малых дозах» и с большой осторожностью, поскольку ее прямым следствием должен был стать тезис об «общем благе» как главной цели управления: «Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество, на них бо висит не одного некоего человека, не дому одного, но всего великаго народа житие, целость, безпечалие» [12, с. 87]. В семантике церковной проповеди «беспечалие» – ни что иное, как принцип «общего блага» европейской политической и управленческой мысли, но выраженный в библейской лексике. В данном случае целеполагание государственного управления было сформулировано с отсылкой к словам апостола Павла «хощу же вас безпечальных быти» (1 Кор. 7, 32).
Непосредственно же о целях управления и средствах их достижения сказано было в «Слове в день святого благоверного князя Александра Невского». Здесь повторен тезис о «беспечалии» народа как главной цели правителя: «Царь ли ты – царствуй, следя за тем, чтобы в народе не было печали, а во властях было правосудие, и как от неприятелей цело сохранить отечество» [12, c. 98]. Этот общий тезис Прокопович разъясняет в самом конце «Слова» в обращении к Петру I. Здесь он сравнивает двух правителей: того, кто лишь «царствует», да так, что «простой народ дознаться не может, что есть дело царское», и того, кто работает, утверждая делом свою правоту: «И когда повелеваешь что своим подданным, ты сам повеление твое собственными трудами и предваряешь и утверждаешь» [12, с. 102-103]. Итог этого сравнения для Прокоповича очевиден: управление, в котором используется личный пример, несомненно действеннее управления, закрытого от народа.
Отметим, что общая для Петра I и Феофана Прокоповича мысль о том, что цель управления состоит в достижении «общего блага» путем реализации «естественного» закона, приводит к разным трактовкам в понимании содержания управления. У Петра I содержание управления в строгом исполнении регламентов, что позволяет точно и последовательно реализовывать законы (а также указы монарха и письменные решения Сената). Прокопович же постоянно повторяет, что божественный (он же – естественный) закон выражается в деятельности мо- нарха. Личное подчинение монарху каждого из тех, кто занимает должности (воинские, гражданские, церковные) в Российском государстве, составляет суть управленческих процессов в понимании Прокоповича.
Принципиально иные взгляды на управление высказывал в своих сочинениях И.Т. Посошков. Эти сочинения чаще всего анализируют историки экономической мысли, называя его представителем «литературы проектов» первой четверти XVIII в., и относят то к числу сторонников европейских экономической концепции «меркантилизма» [13] или российским «камералистам» [14]. Для нас же важно его понимание роли государства в обществе, в его взаимодействии с хозяйствующими субъектами.
Государственное управление, по мысли Посошкова, это деятельность, в которой нет места интересам отдельной личности или какого-то одного слоя населения: «Царь наш, не купец, но самодержавный повелитель, как чему повелит быть, тако и подобает тому быть неизменно и нимало ни направо, ни налево неподвижно. Яко бог всем светом владеет, тако и царь в своем владении имеет власть и по его царской власти надлежит всякой вещи быть постоянной и похвалной и чтоб [яко] меры везде равные, и цене подобает быть равной и никогда неизменной, како в хлебородном году, тако и в недородном» [15, с. 219]. В этих словах, на наш взгляд, заложена идея поддержания равновесия в обществе , порождающая целый набор функций государства.
Такова функция подержания порядка , которой посвящена глава «Об истреблении разбойников» его главного труда – «Книги о скудости и богатстве». Такова функция суда (глава 2 «О правосудии») как способа разрешить хозяйственные споры: «всякой вещи за имя царское от мирских нельзя быть неотменной, ибо и в суде у царя, яко у бога, нет лица ни богату, ни убогу, ни силну, ни маломочну, всем суд един, и то стал быть суд божий» [15, с. 242]. Теснейшим образом с ролью арбитра связана роль контролера. А, соответственно, еще в качестве функций государства выступают: установление стандартов экономического поведения и контроль за их исполнением .
И наконец еще одна функция государства, самая важная для Посошкова – регулирующая . К ней Посошков обращается практически в каждой главе своего трактата. Но особенно ярко эта функция раскрыта в главах 4 («О купечестве») и 7 («О крестьянстве»). «Бережение» крестьянства «от убытку» и создание условия для расширения «дела» купцов и «заводчиков» – вот в чем видел Посошков важнейшие задачи государственного управления. Красной нитью через весь трактат проходит мысль о «разумном» управлении, преследующем государственный интерес. Оно противопоставлено часто встречающейся «неправде» в судах и управлении. Но позиция Посошкова для управленческой мысли страны этого времени маргинальная, как по месту, занимаемому автором в сиcтеме управления, так и по тем мыслям, которые он высказывал и отстаивал.
Управленческая мысль второй четверти XVIII в.
Во второй четвери XVIII в. наиболее заметный вклад в развитие отечественной управленческой мысли внес представитель младшего поколения деятелей петровской эпохи, крупный администратор, географ, историк, экономист, В.Н. Татищев. В 1730-е годы он создал несколько разных по жанрам текстов, отражавших его взгляды на формы и методы управления в России. В их число вошли «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах», «Духовная» и «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении гражданском».
Последний документ представлял собой описание событий, связанных с приглашением на российский престол Анны Иоановны, и предложения по совершенствованию политического строя и характера управления, высказанные в противовес «Кондициям», подготовленным членами Верховного тайного совета. Сами по себе «Кондиции» (основным автором текста которых был князь Д.М. Голицын) – документ не управленческий, а политический. Но некоторые элементы управленской мысли в нем присутствуют. Прежде всего, это две соединенные воедино цели государственного управления : «…следуя божественному закону, правительство свое таким образом вести намерена и желаю, дабы оное в начале к прославлению божеского имени и к благополучию всего нашего государства и всех верных наших подданных служить могло» [16, с. 70]. Формально таких целей указано три, но одна из них – это речевая конструкция, обязательная в рамках традиционной формы легитимации власти («к прославлению божеского имени»). А вот две другие («благополучие государства и подданных») – это все то же целеполагание, базирующееся на идее «общего блага», но разделенное на два «блага»: государства и населения.
Механизм достижения этих целей описан очень кратко, как исполнение «благих советов» [16, с. 71], что указывает на то, что управленческая мысль России находилась в это время в стадии зарождения. Управление с использованием «благих советов» – очень древняя форма, освященная Ветхим заветом: «составь совет, постанови решение» (Исайя, 16, 3). Предложение новой системы организации власти и управления и здесь (как у Прокоповича) вложено в архаичную семантическую оболочку.
Тот набор полномочий, которые должен был получить Верховный тайный совет, показывает, как понимали «верховники» реализацию задач государственного управления . Приведем их целиком:
«1) Ни с кем войны не всчинять.
-
2) Миру не заключать.
-
3) Верных наших подданных никакими новыми податями не отягощать.
-
4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.
-
5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
-
6) Вотчины и деревни не жаловать.
-
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без совету Верховного тайного совета не производить.
-
8) Государственные доходы в расход не употреблять – и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать» [16, с. 71].
Две первых позиции относятся к вопросам войны и мира, это чисто политические ограничения власти императрицы. Из оставшихся шести три относятся к взаимоотношениям дворянства и престола. Это позиции 4, 6 и 7. Еще одна позиция, пятая, отчасти относится к той же группе. Но ее содержание выходит за пределы только сословных отношений, поскольку введение в текст «Кондиций» категории «суда» по отношению к так называемым естественным правам личности (пусть пока что только правам дворян) выводило этот документ на уровень «Великой хартии вольностей». И наконец позиции 3 и 8 представляют собой управленческие задачи общенационального масштаба в сферах экономики и государственного управления.
Группа дворян, выступив против тех положений, на которых базировались «Кондиции», предложила свой проект организации верховного управления страной, текст которого и был составлен «при активном участии» кн. А.М. Черкасского и В.Н. Татищева [17, с. 599]. Ключевым пунктом этого проекта в сфере государственного управления является следующий: «5) в важных государственных делах также, и что потребно будет впредь сочинить в дополнение уставов, принадлежащих к государственному правительству, – оные сочинять и утверждать вышнему правительству и сенату, генералитету и шляхетству общим советом» [17, с. 78].
Создание сословного парламента, предусмотренного этим пунктом, – та мера, которая могла бы задать направление полной перестройке как системы управления, так и государственного аппарата. Но жанр документа не предполагал теоретического обоснования выдвигаемого предложения. Эта работа была проведена Татищевым несколькими годами позже.
В литературе о Татищеве неоднократно отмечалось, что при работе над политическими и управленческими (по своему содержанию и характеру) текстами он опирался на труды европейских политических мыслителей Христиана Вольфа, Самуила Пуфендорфа, Гуго Гроция и Юста Липсия [18, с. 464; 19, с. 25; 20, с. 48]. Сам Татищев писал о том, что его взгляды на политику и управление сформировались как результат бесед в Ф. Прокоповичем, а также дипломатом князем С.Г. Долгоруковым, кабинет-министром Анны Иоановны, князем А.М. Черкасским (лидером дворянской оппозиции Верховному тайному совету) и не названными по именам «профессорами академии» [21, с. 177].
Опираясь на принцип рационализма , Татищев уподоблял государство (народ) человеку (индивидууму), выделяя главное качество, присущее им обоим
– разумное поведение (у человека) и разумное управление (в государстве). Выражено это следующим образом: «Разумный человек чрез науки и искусство от вкоренившихся в его ум примеров удобнейшую поятность, твердейшую память, острейший смысл и безпогрешное суждение приобретает, а чрез то всякое благополучие приобрести, а вредительное отвратить способнее есть. <…> И хотя сие о единственном человеке говорено, но по сему можешь и о целых народах или государствах разсуждать, особливо, если хочешь обстоятельно знать, прочитай гистории древних времян, увидишь многих народов и государств примеры, что от недостатка благоразумнаго разсуждения разорились и погибли, которых память токмо на бумаге осталась» [22, с. 83-84].
В текстах Татищева разумное управление (вне зависимости от политического строя) имеет в качестве главной цели народное «процветание». А средства к его достижению – общественнее согласие и рациональное поведение каждого, что невозможно без отказа от «безумных суеверий». По сути это трактовка концепции «общего блага» в духе идей раннего Просвещения в сочетании с концепцией «регулярного» (у Татищева «порядочного») государства.
Следуя принятому в европейской политической мысли рассуждению о том, что власть государственная есть следствие власти семейной, Татищев писал о том, что «правитель» и «поданные» связаны взаимным долгом. Долг правителя – «о приобретении всем пользы и покоя прилежать, вредительное пресекать и отвращать, а обидимых судом защищать и оборонять». Долг подданных – «повеление его безпрекословно исполнять, но всеми возможностьми ему советом и делом вспомогать и противное его власти, чести и силе, не ожидая повеления, благораз-судно и ревностно отвращать» [22, с. 118-119]. Параметры взаимных обязательств определяются «естественным законом» и взаимным «договором».
Естественные законы, по Татищеву, воплощаются в законы государственные, если соблюдать пять обязательных правил их создания: закон должен быть понятен тем, кому он предназначен; закон должен отделять «добро» от «зла» и быть сформулирован так, чтобы его исполнение не привело к увеличению «зла» в обществе»; законы не должны друг другу противоречить; законы могут быть исполняемы, только когда они известны, то есть «всенародно объявлены»; при написании законов нужно «хранить обычаи древние» [22, с. 125].
Ту часть государственного управления, которая связана с созданием законов, Татищев относит к сфере деятельности «правителя» (в монархии) или «правительства» (в республике). Что же касается исполнения законов, то здесь важна государственная служба, которая в России соединена со службой дворянской. В «Духовной» Татищева особое внимание уделено той части «шляхетской» (то есть дворянской) службы, которую он называет гражданской: «Гражданская услуга в государстве есть главная, ибо без добраго и порядочного внутреннего правления ничто в добром порядке содержано быть не может, и во оном гораздо более памяти, смысла и суждения, нежели в воинстве потребно, для того необходимо нужно всякому градоправителю законы и состояние своего государства обстоятельно знать и разуметь…» [22, с. 142].
Эффективность гражданской службы , по Татищеву, зависит от соблюдения следующих правил: знание законов государства; хорошее образование и широкий кругозор государственных служащих; внимательное отношение к тем, чьи просьбы и жалобы приходится разбирать; самостоятельное принятие решений («Наипаче всего хранись секретарей и подьячих, подчиненных тебе, – пишет Татищев – и никогда с ними крайней дружбы не имей, особливо чрез них ничего не делай и их ни о чем не проси, чтоб на тебя узды не положили»); стремление к достижению общественного согласия; недопущение коррупции («сребролюбия») [22, с. 144].
Еще один автор, оставивший заметный след в истории управленческой мысли середины XVIII в., – конференц-министр, граф П.И. Шувалов. В 1754 г. в Сенат поступил подготовленный им проект «О разных государственной пользы способах». В этом проекте среди тех факторов, которые наносят «вред империи», называется тот вред, который исходит «от неспособных в губерниях, правинциях и городах присудствующих, чрез то от осудения в правосудии. Сии то притчины от чего главная сила государства, следственно и империя, от времени до времени, когда изобретенными способами такия все вредительные народу обстоятельствы не прекратятся, непременно ослабевать и упадать принуждена» [17, с. 102]. В переводе на современную терминологию эта мысль выглядит так: государственное управление регионального уровня не только не выполняет своих задач, но и подрывает доверие населения к государству в целом.
Соответственно, в части проекта Шувалов говорит о предлагаемой реформе регионального управления, или, как это написал сам автор, «о приведении в достойное состояние людей к правлению губерний, провинций и городов, а чрез то довольное число иметь способных к главному правительству без принуждения их к тому» [17, с. 104].
Главная мысль предполагаемых преобразований состояла в том, что государственная служба в регионах должна быть регламентирована с той же методичностью, как это было сделано в «Генеральном регламенте» применительно к деятельности чиновников высших правительственных учреждений. В дополнение к этому пункту Шувалов предлагал: установить всем чиновникам регионального и городского уровней «довольное жалованье», которым бы они «безбедно себя содержать могли», и тем поставить преграду коррупции; «пресечь акцыденцию» (здесь – нарушение правил службы) «без всякого милосердия»; ввести принцип несменяемости губернаторов и воевод, за исключением тех случаев, когда чиновники совершили преступления; создать систему подготовки «юнкеров» – молодых чиновников, которые должны замещать низшие должности в государственной региональной службе; разработать и внедрить механизмы продвижения чиновников по карьерной лестнице, формируя тем самым стимулы к эффективной управленческой деятельности на местах [17, с. 123-124].
Нельзя не заметить, что в общих рассуждениях о целях, задачах и методах государственного управления и Татищев, и Шувалов остаются лишь учениками и последователями деятелей европейского Просвещения. Но когда речь идет о вопросах практической реализации общетеоретических представлений (в частности, о реформировании государственной службы или регионального управления), то оба они демонстрируют самостоятельное мышление, знание управленческой практики и определенную смелость в предлагаемых реформах.
Выводы
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что в первой половине и середине XVIII в. российские управленческие идеи базировались на концепции регулярного государства , в рамках которой общеевропейская идея «общего блага» трансформировалась в идею « государственного блага» . Единственное исключение в этом ряду – воззрения И.Т. Посошкова, который предлагал установить в качестве цели государственного управления благо «полезных» обществу сословий: купцов, крестьян, ремесленников. В трудах всех авторов этого периода, в том числе и Посошкова, государь – субъект управления – обладает исключительным правом на издание законов (которые объявляются «естественными») и деятельность в качестве арбитра, разрешающего споры и гасящего конфликты. Воля государя приводит в движение государственный аппарат , состоящий из представителей «государственного сословия» – дворян. Главный же инструмент управления в этой системе – последовательная регламентация всех сторон управленческой деятельности, переход от управления «по традициям» к управлению «по законам». Во второй четверти и середине XVIII в. российская управленческая мысль вплотную подошла к разработке конкретных мер по совершенствованию управления на уровне государственной службы, при том что многие концептуальные вопросы государственного управления, относящиеся к утверждению принципов управления и разработке механизмов управленческих задач, еще не были поставлены.
Список литературы Специфические особенности развития управленческой мысли России первой половины - середины XVIII в
- Томсинов В.А. «Всем дóлжно хранить интерес государев и государственной»: Петр I как законодатель // Законодательство Петра I. 1696–1725 годы. – М.: Зерцало, 2014. – С. XVIII–XLVII.
- Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России. Вступительная статья // Конституционные проекты в России XVIII – начала XX века. – М.: РОССПЭН, 2010. – С. 1-72.
- Емышева Е.М. Генеральный Регламент 1720 года как опыт создания организационного документа // История и архивы. – 2008. – № 8. – С. 248-261.
- Лугвин С.Б. Российская бюрократия на ранних этапах ее институционализации // Научные ведомости. Сер.: История. Политология. – 2015. – № 19 (216). – Вып. 36. – С. 171-177.
- Бежанидзе Г.В., Титова А.О. Парадигма церковно-государственных отношений у архиепископа Феофана (Прокоповича): от средневековья к новому времени // Христианское чтение. – 2020. – № 6. – С. 25-46. DOI 10.47132/1814-5574_2020_6_25
- Лифанцев Т.Н. Закон и государственная власть в идеологии И.Т. Посошкова // Скиф. – 2019. – № 1 (29). – С. 26-30.
- Маршев В.И. История управленческой мысли. – М.: Инфра-М, 2005. – 730 с.
- Павленко Н.И. Петр Великий. – М.: Мысль, 1994. – 591 c.
- Платонова Н. Вольтер в работе над «Историей России при Петре Великом»: новые материалы // Литературное наследство. – 1939. – Т. 33. – С. 1-24.
- Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Кн. 5. Отд. 3. – СПб., 1863.
- Реформы Петра I. Сборник документов / Сост. В.И. Лебедев. – М.: Гос. соц.-эк. издательство, 1937.
- Прокопович Ф. Сочинения. – М.-Л.: Издательство Академии наук, 1961. – 507 с.
- Ядгаров Я.С. Меркантилистские основания творческого наследия И.Т. Посошкова // Вестник Финансового университета. – 2014. – № 2. – С. 124-133.
- Покидченко М.Г. Иван Тихонович Посошков – самобытный российский камералист // Историко-экономические исследования. – 2016. – Т. 17. – № 1. – С. 51-65. DOI 10.17150/2308-2588.2016.17(1).51-65
- Посошков И.Т. «Книга о скудости и богатстве» и другие сочинения. – М.: Издательство Академии наук, 1951. – 410 с.
- Государство российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней: Сб. док-тов / Под ред. Ю.С. Кукушкина. – М.: Издательство Московского университета, 1996.
- Конституционные проекты в России XVIII – нач. ХХ в. – М.: РОССПЭН, 2010. – 640 с.
- Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. – СПб.: Нестор-История, 2011. – 915 с.
- Каменский А.Б. Василий Никитич Татищев // В.Н. Татищев. Избранные труды. – М.: РОСПЭН, 2010.
- Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и творчества. Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – 468 с.
- Татищев В.Н. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010. – 488 с.
- Татищев В.Н. Собр. соч. Т. 8. Работы разных лет. – М.: Ладомир, 1996. – 462 с.