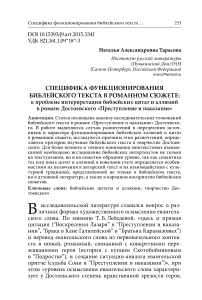Специфика функционирования библейского текста в романном сюжете: к проблеме интерпретации библейских цитат и аллюзий в романе Достоевского «Преступление и наказание»
Автор: Тарасова Наталья Александровна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу исследовательских толкований библейского текста в романе «Преступление и наказание» Достоевского. В работе выделяются случаи разночтений в определении источников и характера функционирования библейских аллюзий и цитат в романном сюжете, исследуются причины этих разночтений, определяются критерии изучения библейского текста в творчестве Достоевского. Для более полного и точного понимания межтекстовых взаимосвязей необходимо исследование библейских интертекстов не только на текстуальном, но и на сюжетно-образном уровне, так как семантика тех или иных цитат и аллюзий в конечном счете определяется особенностями их включения в авторский текст и их взаимодействия с культурной традицией, представленной не только в библейском тексте, но в духовной литературе, а также в народном восприятии библейских сюжетов.
Библейские цитаты и аллюзии, творчество достоевского
Короткий адрес: https://sciup.org/14748931
IDR: 14748931 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3341
Текст научной статьи Специфика функционирования библейского текста в романном сюжете: к проблеме интерпретации библейских цитат и аллюзий в романе Достоевского «Преступление и наказание»
В исследовательской литературе ставился вопрос о различных формах художественного осмысления евангельского слова. По мнению Т. Б. Лебедевой, «здесь и прямая цитация (“Воскресения Лазаря” в “Преступлении и наказании”, “Брака в Кане Галилейской” в “Братьях Карамазовых”) и перевод евангельского слова из первоначального контекста в новый, романный, связанный с конкретными переживаниями героя (история с купцом Скотобойниковым в “Подростке”), и создание ситуации-аналога евангельской притче (судьба Сони в “Преступлении и наказании”)», при этом «уровень осмысления евангельского слова характеризует у Достоевского степень нравственной зрелости героя.
Потребность прикосновения к Евангелию возникает у персонажей в процессе поисков собственной истины, собственного жизненного пути» [15, 90].
Н. В. Балашов отметил, что «почти все библейские тексты, имеющие концептуально важное для Достоевского значение, приводятся им в русском переводе», что объясняется художественной спецификой материала: «Если библейские цитаты в романах Достоевского становятся словом живого Бога, обращенным к героям повествования, — оно, это слово, должно, конечно, прозвучать на их же языке» [1, 12–14].
Функционирование евангельского текста определяется характеристиками образов и положений — по наблюдению С. Ф. Кузьминой, «ясности и простоте речи Зосимы и Тихона противопоставлены в словесной эстетике Достоевского сложность и непроясненность горячечно-бредовых идей Раскольникова до и после преступления, темнота высказываний Ставрогина и нелитературность его стиля в тексте его исповеди о насилии над ребенком (этот ряд может быть продолжен)» [14, 39–40]. Говоря о Раскольникове, С. Сальвестро-ни замечает, что этот персонаж наделен «языком сознательного рассуждения, которому удается привести все к согласию благодаря упрощениям строгой и абстрактной логики, и языком, который через череду сновидений приводит к свету от желаний, идущих в ином направлении» [24, 32].
Центральное место занимает вопрос о библейских цитатах и аллюзиях, который рассматривается в работах Г. Ф. Коган, В. Е. Ветловской, П. Торопа, П. Г. Пустовойта, Г. А. Шестопаловой, Р. Л. Джексона, О. Меерсон, Е. Г. Новиковой, С. Сальвестрони, Н. Н. Епишева, И. Д. Якубович, Т. А. Касаткиной, Б. Н. Тихомирова, А. Л. Гумеровой, Н. Г. Мих-новец, С. С. Серопяна, К. Накамура, Л. В. Сыроватко и др. Подробная характеристика библейских интертекстов представлена в книге-комментарии к роману «Преступление и наказание» Б. Н. Тихомирова, а также в двухтомном московском издании «Евангелие Достоевского» [10–11], [27–28].
При изучении исследований на эту тему и сопоставлении точек зрения обнаружились случаи разночтений в толковании текста . Рассмотрим примеры.
Заповедь « Не убий »
Роман «Преступление и наказание» называют «образным воплощением» данной библейской заповеди [22, 84], [17, 17]. Как указывает В. Е. Ветловская, совершенное Раскольниковым воспринимается как «страшный грех и преступление против Господа Бога, идущие вразрез (если пока оставить в стороне все остальное) с известными заповедями — “Не убий”, “Не укради” (шестая и восьмая заповеди из десяти, начинающихся словами: “Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене”). И тогда Раскольников оказывается носителем атеистической идеи, богоотступником, богоборцем» [5, 92]. И. Д. Якубович, имея в виду «Записки из Мертвого дома», замечает, что тема убийства в них, «связанная с ветхозаветным “Не убий” (Ис. 20:13; Второ-зак. 5:17), становится сквозной темой всего творчества Достоевского» [32, 46].
Обратим здесь внимание на то, что заповедь «не убий» одни исследователи соотносят с Новым Заветом, подчеркивая ее христианское значение, другие с Ветхим, указывая на ее происхождение, и ее следует понимать как библейскую, не только евангельскую, ибо Христос в Нагорной проповеди говорит о содержании ветхозаветного закона. В Толковой Библии Лопухина это комментируется так: «Заповедь “не убивай” повторена в законе несколько раз (Исх. XX, 13; XXI, 12; Лев. XXIV, 17; Втор. V, 17; XVII, 8) в различных выражениях; но слов: “кто же убьет, подлежит суду” — буквально не встречается в законе, если только не относить сюда Втор. XVII, 8. Можно думать, что здесь Спаситель или кратко изложил последнее из указанных мест, или же указал на толкование, которое присоединяли к заповеди “не убий” книжники»1.
« Се человек »
Контекст цитаты: «Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел… (ибо дочь моя по желтому билету живет-с…) — прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. — Ничего, милостивый государь, ничего! — поспешил он тотчас же, и по-видимому спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. — Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и всё тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! “Се человек!”»2.
Слова Мармеладова. Цитата из Евангелия от Иоанна, где эти слова принадлежат Пилату и обращены к первосвященникам после бичевания Иисуса Христа: «“Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!” (19:5; в церковнославянском переводе слов Пилата запятая, как и в тексте Достоевского, отсутствует). Буквальный смысл этих слов: вот этот человек, перед вами» [27, 69]. Б. Н. Тихомиров замечает, что «в романе мармеладовское “Се человек!” контрастно соотнесено с вопросом, которым мучается Раскольников: “вошь ли я, как все, или человек?” <…>. Слова Мармеладова, бесспорно, отзываются и в финале романа, характеризуя отношение Раскольникова к Соне: “…в ней искал он человека, когда ему понадобился человек” <…>» [27, 69].
Выражение «се человек» следует соотносить с ближайшим контекстом, в котором оно оказывается (см. выше): у Достоевского речь идет о грехе и недостойном положении дочери Мармеладова («по желтому билету пошла»), о пренебрежительном отношении к «падшим». С. С. Серопян считает, что слова Мармеладова соотносимы не столько с изречением Понтия Пилата, сколько с мотивами Страшного Суда, имеющими значение для исповеди Мармеладова. Исследователь отмечает связь этих строк с содержанием сочинения св. Тихона Задонского «Наставление или образец увещателям, како увещавати и преклоняти подсудимых к раскаянию и признанию», в котором о грешнике сказано: «Тогда он со стыдом услышит пред всем миром: се человек, и дела его!» [26, 164].
Но, при несомненной значимости темы греха в исповеди Мармеладова и словах о Соне, нельзя не учитывать первичную отсылку к Евангелию от Матфея: Е. Г. Новикова, связывая цитату «Се человек!» с образом Сони Мармеладовой, считает, что посредством этих строк в роман вводится «тема земных страданий Богочеловека, которые станут для человека одновременно и указанием, и залогом грядущего спасения» [21, 95–96].
« …и всех рассудит и простит, и добрых и злых… »
Контекст цитаты : «И простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит… Я это давеча, как у ней был, в моем сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных…» (6, 21).
Слова Мармеладова, которые С. Сальвестрони считает «очевидной отсылкой к стиху из Евангелия от Луки, следующему за отрывком о благодати (“Но вы любите врагов ваших <…> и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым” — Лк. 6:35)» [24, 29].
Р. Л. Джексон, называя речь Мармеладова «мощной поэмой в прозе, поэмой о любви, сострадании и прощении», замечает, что в ней «слышны отзвуки Евангелия от Луки 7:36— 50» и «она являет собой антитезу гордому и мятежному гневу Раскольникова» [6, 153]. Речь идет об истории помазания ног Христа грешницей в доме фарисея, известные строки из нее: «А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит» (Лк. 7:47).
К. Накамура проводит другую параллель с евангельским текстом: «Слушая эти рассуждения, невольно вспоминаешь притчу о мытаре (Евангелие от Луки, 18:<9–14>), который находил себя недостойным Бога, но был прощен, поскольку, по слову Христа, “всякий возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится”. Эти слова и истолковывает в свою пользу Мармеладов. Прощение мытаря он соотносит с молитвой о спасении себя, человека недостойного» [20, 187].
Это разночтение в интерпретации текста заставляет признать, что не во всех случаях, когда речь идет о библейском подтексте, не имеющем в художественном произведении прямых лексических аналогий, их следует искать (из представленных трех трактовок более точной представляется вторая, принадлежащая Р. Л. Джексону). Вывод Джексона точнее потому, что учитывается в данном случае не прямое лексическое соответствие романных речей тексту Нового Завета, а другой уровень повествования — тематический, на котором выделение темы милосердия к грешникам обусловило связь романа не только с евангельским текстом, но и с его книжным и народным восприятием.
Роль исповеди Мармеладова объясняется романной коллизией и темой преступления. С. И. Фудель писал о неслучайности появления уже на первых страницах произведения «великого монолога Мармеладова о Страшном суде и о прощении смиренных»: Достоевский тем самым показывает главному герою выход из теории, «смиряя его сначала через Мармеладова-отца, a потом, и окончательно, через его дочь» [31, 47–48].
Л. М. Лотман соотнесла содержание исповеди Мармела-дова с легендой о бражнике; различие двух сюжетов, по ее мнению, состоит в том, что «герой Достоевского мечтает о воцарении правды, справедливости для всех людей и на все времена. Герой же повести XVII века помышляет лишь о своем личном вечном блаженстве» [16, 290].
Речь Мармеладова также связана с содержанием апокрифа « Хождение Богородицы по мукам » и духовными стихами , восходящими к нему, о чем писали Т. Б. Лебедева, В. А. Мих-нюкевич и др. Особенность развития темы заключается в том, что «картина “страшного суда”, которая в эсхатологических сочинениях завершает конец мира, отнесена в видение Мармеладова. Вопреки сложившейся традиции, она становится символом высшей гармонии, любви и примирения. Импульсы, идущие от нее, пронизывают весь роман, приглушают зловещую мелодию раскольниковского пророчества, сливаясь в эпилоге в гимн жизни и “воскресению”» [15, 98], [19, 84], [13, 241], [9, 91]. По мысли Т. В. Бузиной , «делая Христа милосердным и всепрощающим, Мармеладов не просто пытается оправдать себя и себе подобных, но и возвращает всем людям христианство милосердия и всепрощения, подавая надежду в будущем и слушающему его Раскольникову» [2, 272–273].
« Молитва » Раскольникова
Контекст цитаты: «Он почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и мирно. “Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!”» (6, 50).
Слова Раскольникова называет молитвой В. Е. Ветлов-ская, указывая источник этих строк — псалом 142: «Молитва Раскольникова: “Господи! <…> покажи мне путь мой…” повторяет слова псалма. Ср.: “Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою” (Псалт. 142:8). Просьба Раскольникова предполагает ответ, о котором герой пока не помышляет и который заключен в словах Христа: “Я есмь путь и истина и жизнь” (Иоан. 14:6)» [3, 84], см. также: [25, 10]. Б. Н. Тихомиров добавляет, что речь идет о покаянном псалме, и «в контексте романа в целом (см. эпизод чтения героями евангельского рассказа о воскрешении Лазаря) исключительно важно, что Раскольников безотчетно припоминает именно тот библейский текст, в котором псалмопевец утрату богообщения переживает как собственную смерть: “Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме , как давно умерших <…> дух мой изнемогает; не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. <…> Ради имени Твоего, Господи, оживи меня…” (Пс. 142:3, 7, 11)» [27, 115].
Н. Н. Епишев соотносит слова Раскольникова с текстом псалмов 24 и 118: «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим» (Пс. 24:4); «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца» (Пс. 118:33). По мнению исследователя, слово «путь» — «один из сквозных образов Библии. Путь символизирует жизнь человека, характеризует ее как движение к самоосуществлению. <…> Выбор между добром и злом — это выбор пути, представляемый свободной воле человека» [9, 90–91]. Эти библейские смыслы имеют непосредственное отношение к характеристике духовного пути главного героя романа.
«…до сих пор говорили: “возлюби” ~ рвал кафтан пополам, делился с ближним…»
Контекст цитаты: «Если мне, например, до сих пор говорили: “возлюби”, и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр Петрович, может быть с излишнею поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: “Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь”. Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано» (6, 116).
Слова Лужина, являющиеся аллюзией на библейский текст. По мнению Б. Н. Тихомирова, Лужин «утрирует и окарикатуривает вторую “наибольшую” заповедь Христа: “…возлюби ближнего твоего, как самого себя”» (Мф. 22:39) [27, 155]. П. Тороп называет монолог Лужина «примером па-стиша», когда герой «в качестве двойника Раскольникова обосновывает свою позицию, с одной стороны, развивая до крайности идеи, которые входили в теорию Раскольникова, с другой стороны, превращая в современную демагогию эпизод из Библии <…>» [29, 150]. Исследователь находит в этом эпизоде другие соответствия библейскому тексту: отсылкой к Библии стали «как слово “возлюби”, так и рассуждение о рваных и целых кафтанах, источником которого является сцена под крестом распятого Христа, где римские легионеры делили одежду Христа: “Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий…” (Ев. от Иоанна, 19:23–24)» [29, 150]. Однако прямая параллель именно с этим местом Нового Завета представляется не вполне обоснованной — в тексте Достоевского речь идет именно о необходимости делиться с ближним, поэтому точнее вывод В. Е. Ветловской о том, что в выражении «рвал кафтан пополам» прямого соответствия с текстом Священного Писания нет, но «заповедь делиться с ближним и последней вещью — в духе христианской проповеди любви» [4, 456].
Л. М. Розенблюм верно отмечает, что «любовь на языке Достоевского — понятие самое близкое к красоте. И это естественно. Любовь в самом широком и полном смысле, включая и любовь к врагам (Мф. 5:43–44), — главная заповедь Христа, которой в таком значении не было в Ветхом Завете и которая составляет душу Завета Нового» [23, 163]. Однако, по ее мысли, слòва «красота» «нет в Евангелии» [23, 157]. Это неточный вывод, обусловленный особенностями перевода евангельского текста на русский язык.
Впервые на это обращает внимание, говоря о «Преступлении и наказании», Г. А. Мейер, со ссылкой на статью С. Булгакова 1937 года. «Иуда Искариот Апостол-предатель», имея в виду сцену помазания Христа в Вифании, описанную в Евангелии от Матфея (26:1–13) и Марка (14:3–9): «Вот что говорится в Евангелии от Матфея в принятом переводе на русский язык: “Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастро-вым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидевши это ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня”. И далее, через два стиха: “Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала”.
О<тец> С. Булгаков исправляет неточность, допущенную в переводе, и слова Христа приобретают иной оттенок: не “она доброе дело сделала для Меня”, а — “она дело красоты сделала для Меня”, сказано в подлиннике» [18, 87]. Г. А. Мейер считал, что «переводчики Евангелия на русский язык заменили “красоту” “добром”, очевидно, также из соображений моралистических. Но где водворяется голая моралистика, там нет ни религии, ни искусства» [18, 88]. Необходимо также объяснение, данное в наши дни С. М. Капилупи: «Но есть другие места Евангелия, где использовано слово “доброе”, но оно не вполне соответствует греческому оригиналу. “Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь” (Мф. 3, 10). “Вы — свет мира <…>. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Мф. 5, 14–16). “По плодам их узнаете их <…>. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые” (Мф. 7, 16–17). Во всех таких местах греческое слово (“kalos”) было не “доброе”, а “красивое”: русский перевод еще раз опирается на латинскую версию» [12, 73].
Именно на латинскую версию ориентирован и перевод строк из сцены помазания Христа в Вифании (Мф. 26:10):
|
Др.-греч. |
Лат. |
Цслв. |
Русск. |
|
γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ |
Sciens autem Iesus ait illis: “Quid molesti estis mulieri? Opus enim bonum operata est in me; |
Разумѣˊвъ же Иисýсъ речé и́мъ: чтó труждáете женý? дѣˊло бо добрó содѣˊла о мнѣˊ: |
Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:3 |
Спектр лексических значений в данном случае следующий: Bonum — с лат.: 1) добро, благо, 2) польза, выгода, преимущество, 3) дарование, 4) имущество, состояние, достояние (на др.-греч. Άγαθωσύνη — благость, доброта)4;
καλὸν — с др.-греч.: 1) красота, краса, украшение (βίου Eur.); 2) наслаждение, удовольствие, радость (τὰ τοῦ βίου καλά Her.); 3) ( только dat. ) удобное место: κεῖσθαι ἐν καλῷ τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου Xen. быть (стратегически) выгодно расположенным в отношении Коринфского залива; ποῦ καθίζωμ᾽ ἐν καλῷ; Arph. где мне сесть поудобнее?; 4) удобный момент (εἰς κ. ἥκεις Plat.): νῦν κ. ἐστιν Arph. теперь наступило время, теперь пора; 5) прекрасный поступок, благородное деяние (τὰ καλὰ καὶ ἐπαινετά Arst.); 6) прекрасное, красота: τὸ καθ᾽ αὑτὸ κ. Arst. прекрасное в себе, абсолютная красота; 7) нравственно прекрасное (οὐδὲν κ. κἀγαθὸν εἰδέναι Plat.; πρὸς τὸ κ. ζῆν Arst.); 8) почетная должность, высокий пост: μηδενὸς τῶν καλῶν τυγχάνειν Xen. не допускаться к занятию высоких постов5.
Для Достоевского основным источником был Новый Завет на русском языке с вариантами «добро», «добрый», но писатель не мог не знать традицию, которая идеи Добра (Благости) и Красоты осмысливает в их синтезе: имеется в виду святоотеческая литература. О Боге как наивысшей Красоте писал, в частности, Дионисий Ареопагит, в сочинении «О Божественных именах» отметив, что «Добро воспевается священными богословами и как Прекрасное, и как Красота, и как Любовь, и как Возлюбленное» [7, 313].
Сам язык, точнее, характер функционирования языковых значений во взаимодействующих друг с другом языках и в определенном культурно-историческом сознании создает условия для синкретизма значений, позволяющих связать идеи Добра и Красоты. И именно в таком виде они отражаются во взглядах Достоевского на Христа как на идеал Красоты [8, 339] и важны для сюжета «Преступления и наказания», в котором тема красоты представлена как преодоление безобразного [30, 169] и восстановление образа Божия в человеке.
Итак, следует говорить о принципиально разных подходах к анализу романного текста. Безусловное значение имеют поиск и интерпретация текстуальных соответствий с библейским повествованием, тем более что именно в романе «Преступление и наказание» появляются обширные цитаты из Священного Писания. Вместе с тем не менее продуктивным оказывается толкование библейских интертекстов не только на текстуальном, но и на сюжетно-образном уровне, так как семантика тех или иных цитат и аллюзий в конечном счете определяется особенностями их включения в авторский текст и их взаимодействия с культурной традицией, представленной не только в библейском тексте, но и в духовной литературе (в том числе в агиографии), а также в народном восприятии библейских сюжетов. Разночтения в исследовательском толковании материала объясняются прежде всего этой причиной — новозаветная история о Христе заключает в себе идеи, исключительно важные в целом для христианского учения и его обоснования и представленные в разных эпизодах евангельского сюжета на разных примерах, — отсюда многообразие исследовательских ассоциаций и аналогий с библейским текстом, когда ставится задача найти прямое лексическое соответствие. Однако именно в этом случае для полноты и точности интерпретации оказывается важен более широкий контекст — как библейский, так и историко-литературный.
PECULARITIES OF FUNCTIONING
OF THE BIBLICAL TEXT IN A NOVEL’S PLOT:
ON THE PROBLEM OF INTERPRETATION
OF BIBLICAL QUOTATIONS AND ALLUSIONS
IN DOSTOEVSKY’S “CRIME AND PUNISHMENT”
Список литературы Специфика функционирования библейского текста в романном сюжете: к проблеме интерпретации библейских цитат и аллюзий в романе Достоевского «Преступление и наказание»
- Балашов Н. В. Спор о русской Библии и Достоевский//Достоевский: Материалы и исследования. -СПб.: Наука, 1996. -Т. 13. -С. 3-15.
- Бузина Т. В. Духовные стихи о Страшном суде как стилистическая модель и идейный противовес монолога Мармеладова//Достоевский: дополнения к комментарию/под ред. Т. А. Касаткиной; Ин-т мировой лит. им. A. M. Горького. -М.: Наука, 2005. -С. 270-273.
- Ветловская В. Е. «Арифметическая» теория Раскольникова//Достоевский и мировая культура. -СПб.: Серебряный век, 2000. -№ 15. -С. 77-91.
- Ветловская В. Е. Из комментария к произведениям Достоевского. 2//Достоевский: Материалы и исследования. -СПб.: Наука, 2010. -Т. 19. -С. 451-457.
- Ветловская В. Е. Приемы идеологической полемики в «Преступлении и наказании» Достоевского//Достоевский: Материалы и исследования. -СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. -Т. 12. -С. 78-98.
- Джексон Р. Л. Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны. -М.: Радикс, 1998. -287 с.
- Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. 4.7//Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим Исповедник. Толкования/пер. Г. М. Прохорова. -СПб.: Алетейя, 2002. -С. 207-565.
- Дудкин В. В. Достоевский и Евангелие от Иоанна//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. -Вып. 5: Евангельский текст в русской литературе ХVIII-ХХ веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 2. -С. 337-348.
- Епишев Н. Духовные источники творческого вдохновения Ф. М. Достоевского. Псаломские мотивы в произведениях писателя//Достоевский и современность. -Великий Новгород, 2003. -С. 88-97.
- Захаров В. Н. Достоевский и Евангелие//Евангелие Достоевского: в 2 т. -М.: Русскiй Мiрь, 2010. -Т. 2. -C. 5-35.
- Захаров В. Н. Тобольск, 1850: Обретение книги//Евангелие Достоевского: в 2 т. -М.: Русскiй Мiрь, 2010. -Т. 1. -C. 643-646.
- Капилупи С. М. «Трагический оптимизм» христианства и проблема спасения: Ф. М. Достоевский. -СПб.: Алетейя, 2013. -288 с.
- Касаткина Т. А. Время, пространство, образ, имя, символика цвета, символическая деталь в «Преступлении и наказании». Комментарий//Достоевский: дополнения к комментарию/под ред. Т. А. Касаткиной; Ин-т мировой лит. им. A. M. Горького. -М.: Наука, 2005. -С. 236-269.
- Кузьмина C. Ф. Тысячелетняя традиция восточнославянской книжной культуры: «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона и творчество Достоевского//Достоевский: Материалы и исследования. -СПб.: Наука, 2001. -Т. 16. -С. 32-45.
- Лебедева Т. Б. Образ Раскольникова в свете житийных ассоциаций//Проблемы реализма/под ред. проф. В. В. Гуры. -Вологда: Вологод. гос. пед. ин-т, 1976. -Вып. III. -С. 80-100.
- Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. (Истоки и эстетическое своеобразие). -Л.: Наука, 1974. -352 с.
- Малягин В. Достоевский и Церковь//Ф. М. Достоевский и Православие. -М.: Отчий дом, 1997. -С. 9-30.
- Мейер Г. А. Свет в ночи. (О «Преступлении и наказании»): Опыт медленного чтения. -Frankfurt a/M.: Посев, 1967. -517 с.
- Михнюкевич В. А. Духовные стихи в системе поэтики Достоевского//Достоевский: Материалы и исследования. -СПб.: Наука, 1992. -Т. 10. -С. 77-89.
- Накамура К. Словарь персонажей произведений Ф. М. Достоевского/перевод с японского А. Н. Мещерякова. -СПб.: Гиперион, 2011. -400 с.
- Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангельский текст и художественный контекст. -Томск: Изд-во ТГУ, 1999. -254 с.
- Пустовойт П. Г. Христианская образность в романах Ф. М. Достоевского//Русская литература XIX века и христианство/под общ. ред. В. И. Кулешова. -М.: Изд-во МГУ, 1997. -С. 82-90.
- Розенблюм Л. М. «Красота спасет мир»: О «символе веры» Ф. М. Достоевского//Вопросы литературы. -1991. -№ 11/12. -С. 142-180.
- Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского. -СПб.: Академический проект, 2001. -187 с.
- Серопян А. С. Серопян С. С.> Литургическое слово в русской литературе. Постановка проблемы//Проблемы исторической поэтики. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. -Вып. 10: Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 7. -С. 5-13.
- Серопян С. С. «Преступление и наказание» как литургическая эпопея//Достоевский и мировая культура. -М.: Издатель С. Т. Корнеев, 2009. -№ 25. -С. 158-177.
- Тихомиров Б. Н. «Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. -СПб.: Серебряный век, 2005. -460 с.
- Тихомиров Б. Н. Отражения евангельского слова в текстах Достоевского. Материалы к комментарию//Евангелие Достоевского: в 2 т. -М.: Русскiй Мiрь, 2010. -Т. 2. -C. 63-469.
- Тороп П. Поэтика чужого слова//Тороп П. Достоевский: История и идеология. -Тарту: Kirjastus, 1997. -С. 125-153.
- Трофимов Е. А. О логистичности сюжета и образов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»//Достоевский в конце XX века/сост. и ред. К. Степанян. -М.: Классика плюс, 1996. -С. 167-188.
- Фудель С. И. Наследство Достоевского/сост., подг. текста, комм. прот. Н. В. Балашова, Л. И. Сараскиной//Фудель С. И. Собр. соч.: в 3 т. -М.: Русский путь, 2005. -Т. 3. -С. 7-176.
- Якубович И. Д. Поэтика ветхозаветной цитаты и аллюзии у Достоевского: бытование и контекст//Достоевский: Материалы и исследования. -СПб.: Наука, 2005. -Т. 17. -С. 42-60.