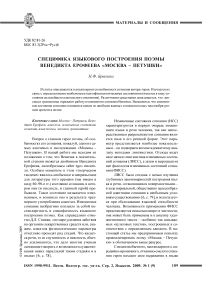Специфика языкового построения поэмы Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки»
Автор: Брыкина Наталья Фаридовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 1 (9), 2009 года.
Бесплатный доступ
На примере глагольной лексики говоров одного региона рассмотрено явление диалектного семантического словообразования, осуществляющегося путем расширения или сужения значения производящего слова. Выявлены причины и основные черты данных деривационных процессов. Проанализированы особенности функционирования семантических дериватов в контексте диалектной речи.
Семантическая деривация, расширение значения слова, сужение семантического объема слова, глагол, русские говоры удмуртии
Короткий адрес: https://sciup.org/14969359
IDR: 14969359 | УДК: 800.863
Текст обзорной статьи Специфика языкового построения поэмы Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки»
Вопрос о главном герое поэмы, об особенностях его сознания, пожалуй, один из самых ключевых в исследовании «Москвы – Петушков». В нашей работе мы исходим из положения о том, что Веничка в значительной степени является двойником Венедикта Ерофеева, своеобразным «alter ego» писателя. Особым моментом в этом «творческом тандеме» явилось необычное и непривычное для литературы того времени (мы имеем в виду 60–90-е гг.) состояние сознания, в котором они (и писатель, и главный герой) пребывали. Такое состояние называется измененным, и возникло оно в результате чрезмерного употребления алкоголя. Измененное сознание необратимо повлекло за собой нестандартность и специфичность языкового построения поэмы. Как справедливо отметил Д.Л. Спивак, «по мере усиления действия на организм лекарственных средств или, скажем, алкоголя физиологические параметры отчетливо проходят ряд стадий. Что касается речи, то ее спутанность и неясность обычно усиливаются, что дало многим ученым основание говорить о возможности существования неких параллелей таким стадиям и в языке» [6, с. 78].
Измененные состояния сознания (ИСС) характеризуются в первую очередь изменением языка и речи человека, так как непосредственным репрезентантом сознания является язык в его речевой форме. Этот параметр представляется наиболее показательным – он подвержен вполне адекватному анализу методами лингвистики. Отсюда ведет свое начало лингвистика измененных состояний сознания (ЛИСС), а затем и выросшая из нее филология измененных состояний сознания (ФИСС).
ЛИСС была создана с целью изучения глубинных закономерностей построения языка и речи, «становящихся поверхностными... в ходе нормальной, общественно целесообразной адаптации сознания к необычным условиям существования» [6, с. 79], и используется при обследовании языковой способности человека. Возможности применения ФИСС представляются несколько шире: в частности, она может быть применена и к анализу художественного текста – особенно так называемых «культовых текстов», построенных в соответствии с определенным каноном. В настоящей статье мы предпринимаем попытку проанализировать поэму «Москва – Петушки» в обозначенном выше ракурсе.
Стихия необычного, нестандартного, пародийно-ироничного, отчаянно-смелого сознания героя находит свое выражение в языке поэмы. Можно сказать, что в тексте Ерофеева действительно содержание есть форма, а форма есть содержание.
В монографии Д.Л. Спивака «Язык при измененных состояниях сознания» [7, с. 23– 77] были суммированы и систематизированы результаты специальных языковых тестов, с помощью которых по методике ЛИСС были проведены многочисленные наблюдения людей, находившихся в ИСС (спортсмены, полярники, больные, принимающие определенные препараты, и пр.), одновременно фиксировались их поведенческие и физиологические показатели. В результате выяснилось, что по мере углубления в ИСС в речи человека прежде всего:
-
- возрастает роль ударения и интонации в передаче лексических и грамматических значений, синтаксических отношений;
-
- повышается количество устойчивых сочетаний, эмоционально окрашенной, экспрессивной, оценочной, бранной лексики;
-
- глаголы количественно преобладают над именами (кроме эмоционально окрашенных).
Попробуем применить полученные выводы к тексту поэмы. О роли ударения и интонации в «Москве – Петушках» писал еще Ю.Б. Орлицкий в статье «Москва – Петушки как ритмическое целое». Исследователь выяснил, что « насыщенность прозы Ерофеева метрическими фрагментами превышает среднюю “норму” русской прозы его времени» [4, с. 66]. И далее: «Большинство метрических фраз в “поэме” отличается особой выразительностью – можно даже сказать, что это определенные формулы, клише, некоторые из которых повторяются в поэме несколько раз» [4, с. 67]. Владимир Муравьев, друг писателя, считает также: «Чтобы толком воспринимать ерофеевскую прозу, надо читать ее как поэзию, благо и в языке ее, и в ритмике то и дело чувствуется стихотворная ориентация» [3, с. 13].
От себя же добавим, что обилие самых разных повторов, устойчивых сочетаний – один из наиболее заметных способов ритмической упорядоченности в произведении. При этом, однако, большинство повторов носит чисто речевой характер, это – риторические повторения «ключевых» слов и фигур речи. Приведем несколько примеров: «О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до закрытия магазинов!» (с. 25) 1; «О, эта утренняя ноша в сердце! о, иллюзорность бедствия! о, непоправимость!» (с. 25); «О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!» (с. 31); «Зато по вечерам – какие во мне бездны! – если, конечно, хорошо набраться за день, – какие бездны во мне по вечерам!» (с. 35) и т. д. Сравните также в предпоследней главе троекратное (!) повторение роковой для героя фразы-открытия «Нет, это не Петушки!» (с. 163).
Можно сказать, что, с одной стороны, повторы на уровне чередования ударных и безударных гласных (метрические) и на уровне лексики образуют в тексте поэмы основу ритмической упорядоченности текста. С другой стороны, явный акцент на ударениях и особенность передачи интонации, в принципе не свойственные прозаическому тексту, позволяют нам, основываясь на заключениях Д.Л. Спивака, говорить о том, что «язык текста» находится в ИСС.
Неоспорим и тот факт, что вся поэма состоит из эмоционально окрашенной, экспрессивной лексики, а примеры оценочной и бранной (а зачастую и крайне маргинальной) лексики встречаются практически на каждой странице, причем обычно они объединяются в одно смысловое поле. Примеры: «...это Иван Козловский, мерзее этого голоса нет» (с. 28); «эти четыре мудака» (с. 46); «а это Алексей Блиндяев, потрепанный старый хрен <...> дряхлый придурок» (с. 47, 49).
Что касается последнего положения (о том, что в текстах ИСС глаголы количественно преобладают над именами), то здесь выясняется интересный момент. Помимо того, что в «Москве – Петушках» действительно глаголы преобладают над именами, они еще имеют характерное значение. По нашим наблюдениям, наиболее частотной по употреблению является группа глаголов с корнем от «пить» – «выпить», «напиться» и примыкающих к ним слов со смысловым значением «опохмелиться» (затем уже следуют имена: «пьяный», «пьянчуга»); следующей по частотности употребления и в определенном смысле близкой по семантическому наполнению оказывается группа имен с корнем «-дур-»,
(«дурной человек», «придурок», «крошечный дурак», «сдуру», «дурачина», «дурачиться», «одурачивание», «одурачить») и по смыслу близких к ним («бестолочь», «глупый» и даже «глупый-глупый», «идиот», «пустомеля», «очумелый», «угорелый», «умалишенный», «стеба-нутый» и т. д.). Однако можно сказать, что даже эта группа (группа имен) несет в себе значение последствия от глагола «выпить», так как перечисленные выше определения являются ненормальными в общепринятом понимании «нормальности человеческого сознания», а также последствиями употребления алкоголя.
Алкоголик в романе Ерофеева становится современным воплощением русского фольклорного дурака, и основой для переноса значения с инварианта на вариант становится не только внешнее подобие, но и народные выражения: «напиться до дури», «напился, как дурак» и т. п. В тексте Ерофеева сближение этих понятий находит свою реализацию: в рассказе о неудавшемся бригадирстве причиной «низвержения» героя послужило то, что Алексей Блиндяев «сдуру или спьяну» (с. 49) в один конверт вложил и соцобязательства, и «индивидуальные графики» пьянства членов бригады.
Дураки и пьяницы видят мир искаженно, делают неверные умозаключения, но, видимо, это именно то, к чему стремился Ерофеев (и автор, и герой): деконструировать известную систему ценностей, отказаться от привычных схем, усомниться в верности идеологии, заставить иначе взглянутъ на, казалось, очевидное. Пьяный, дурашливый герой Веничка Ерофеев голосом автора остроумно и весело, комично и незлобливо высказывает в поэме серьезные и откровенные соображения о том, «что есть истина».
Таким образом, мы выяснили, что речь поэмы отражает ИСС Венички-Венедикта. Здесь следует добавить, что лексика и грамматика не только отражают работу сознания, но и провоцируют ИСС – когда мы используем соответствующую лексику, то приводим себя в ИСС, – на этом основаны многие приемы психотерапии и аутотренинга. Получается, что автор намеренно вводит своего героя в ИСС как бы «с двух сторон»: во-первых, непосредственно употреблением алкоголя, во- вторых, использованием соответствующего строя языка.
Следует отметить и тот факт, что язык поэмы во многом составила субкультура определенной части советской интеллигенции 60–70-х годов. Эта речевая стихия была связана с тем, что В. Елистратов называет «клиническим комплексом», основанным «на актуализации языковой личности в смеховом ключе» [1, с. 628]. Поэзия Ерофеева выросла из сочетания обломков обыденной речи, красивой прозы и непристойностей. Язык писателя – безудержная смесь высокой и низкой лексики, стилистический замес научных и философских терминов, торжественного библейского слога и неологизмов советского жаргона, сквернословия алкоголиков и алкоголичек. Этим языком, призванным демифологизировать советское общество и его культуру, автор «Москвы – Петушков» владеет в совершенстве. Ерофеев решительно соединяет язык классической русской литературы с языком улицы, давно уже проникшим во все слои советского речевого обихода. Естественно, что «оперировать этим взрывоопасным материалом может себе позволить лишь тот, кто обладает абсолютным слухом, не допускающим его до детонаций» [5, с. 65].
В данной статье мы выяснили, что ИСС становятся одним из наиболее важных и показательных текстообразующих средств в поэме. Данная методика в целом представляется плодотворной именно в анализе текстов постмодернистского характера с их ориентацией на семантическую и структурную «многослойность» художественных построений, на неоднозначность и зашифрованность эстетически репрезентативной информации.
Список литературы Специфика языкового построения поэмы Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки»
- Балалыкина, Э. А. Приключения слов/Э. А. Балалыкина. -Казань: Изд-во Казан. унта, 1993. -169 с.
- Балалыкина, Э. А. Основные направления семантического развития слова/Э. А. Балалыкина//История русского языка. Словообразование и формообразование. -Казань: УНИПРЕСС, 1997. -С. 33-41.
- Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т./В. И. Даль. -СПб.: ТОО «Диамант», 1996.
- Коготкова, Т. С. Семантические заметки (К проблеме освоения литературной лексики в современных говорах)/Т. С. Коготкова//Диалектологические исследования по русскому языку. -М.: Наука, 1977. -С. 194-208.
- Коготкова, Т. С. Русская диалектная лексикология/Т. С. Коготкова. -М.: Наука, 1979. -335 с.
- Кронгауз, М. А. Семантика: учебник для вузов/М. А. Кронгауз. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. -399 с.
- Марков, В. М. О семантическом способе словообразования в русском языке/В. М. Марков. -Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1981. -31 с.
- Павленко, П. И. Семантико-стилистические особенности слов с приставкой воз-в русских народных говорах (В сопоставлении с литературным языком)/П. И. Павленко//Диалектная лексика 1977. -Л.: Наука, 1979. -С. 15-39.
- Падучева, Е. В. Метафора и ее родственники/Е. В. Падучева//Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. -М.: Языки славянской культуры, 2004. -С. 187-203.
- Прохорова, В. Н. Полисемия и лексико-семантический способ словообразования в современном русском языке: лекции по спецкурсу/В. Н. Прохорова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. -88 с.
- Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов/Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. -М.: Просвещение, 1976. -543 с.
- Симина, Г. Я. Структура производного слова в диалекте (К вопросу о связи словообразования и семантики)/Г. Я. Симина//Диалектная лексика 1977. -Л.: Наука, 1979. -С. 122-128.
- Словарь русских народных говоров/под ред. Ф. П. Филина. -Л.; СПб.: Наука, 1965-2004. -Вып. 1-38.
- Словарь русского языка: в 4 т./под ред. А. П. Евгеньевой. -М.: Рус. яз., 1985-1988.
- Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики/Д. Н. Шмелев. -М.: Наука, 1973. -280 с.
- Щербакова, Н. Н. Словообразование русской просторечной лексики XVIII в.: дис.... д-ра филол. наук/Н. Н. Щербакова. -Омск, 2006. -353 с.