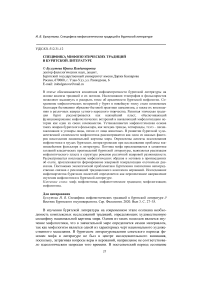Специфика мифопоэтических традиций в бурятской литературе
Автор: Булгутова Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается концепция мифоцентричности бурятской литературы на основе анализа традиций и их истоков. Исследования этнографов и фольклористов позволяют выдвинуть и раскрыть тезис об архаичности бурятской мифологии. Сохранение мифологических воззрений у бурят в новейшую эпоху стало возможным благодаря бытованию обрядово-бытовой практики шаманизма, а также их воплощению в различных жанрах устного народного творчества. Развитая эпическая традиция бурят рассматривается как важнейший пласт, обеспечивающий функционирование мифопоэтических воззрений и выявляющий мифологизацию истории как один из своих компонентов. Устанавливается мифопоэтическая основа таких жанров бурятского фольклора, как загадки-триады, четвериады, тээгэ - песни-заклинания и уговоры овцы, песни от лица животных. В развитии бурятской художественной словесности мифопоэтика рассматривается как один из важных факторов воссоздания национальной картины мира. Определены аспекты исследования мифопоэтики в трудах бурятских литературоведов при исследовании проблемы взаимодействия фольклора и литературы. Поэтика мифа прослеживается в семантике заглавий классических произведений бурятской литературы, выявляется реализация мифологического пласта в структуре романов различной жанровой разновидности. Рассматривается воплощение мифологических образов и мотивов в произведениях об охоте, прослеживается формирование жанровой генерализации охотничьих рассказов. Постановка экологической проблематики бурятскими писателями непосредственно связана с реализацией традиционного комплекса верований. Исследование мифотворчества бурятских писателей определяется как перспективное направление изучения мифопоэтики в бурятской литературе.
Миф, мифопоэтика, мифопоэтические традиции, мифологизация, мифологема
Короткий адрес: https://sciup.org/148316617
IDR: 148316617 | УДК: 821.512.31-12
Текст научной статьи Специфика мифопоэтических традиций в бурятской литературе
Булгутова И. В. Специфика мифопоэтических традиций в бурятской литературе // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 3. С. 27–35.
В изучении бурятской литературы на современном этапе осознана необходимость комплексных исследований традиций, определяющих художественную специфику национальной картины мира. Одним из таких подходов является изучение мифопоэтики, что в значительной мере определяется самим материалом, так как мифологизм является одной из характерных черт национального художественного мышления. В бурятском литературоведении советского периода феномен мифа в литературе не был в центре исследовательского внимания, поскольку, затрагивая вопросы веры и верований, направление не соответствовало идеологическим запросам того времени. В постсоветский период осознание специфики мифопоэтических традиций стало необходимым для более целостного представления картины развития национальной культуры.
В исследовании мифопоэтики значимых результатов достигла отечественная школа исторической поэтики, и ее задача «определить роль и границы предания в процессе личного творчества» [3, с. 493] включает в поле традиции и миф как его источник. Реализация мифосознания в индивидуально-авторском творчестве представляет собой сложный процесс, в котором, с одной стороны, миф – это часть традиции национальной культуры, а с другой – это одна из основ самой структуры человеческого мышления, в том числе и художественного. Методология сравнительно-исторического литературоведения, выявляющая важную роль традиции в литературном процессе, позволяет проследить ее преемственность в национальной культуре.
Мифологическая система бурят нашла свое отражение в многочисленных легендах и преданиях, в развитой эпической традиции, в живых культах и обрядах шаманизма, которые продолжают свое бытование. Начиная с XIX в. изучение мифологии бурят на материале легенд, преданий, шаманской поэзии идет в русле этнографических и фольклорных исследований. Как целостная система мифология бурят раскрывается в исследованиях по шаманизму. Исследователи отмечают особую роль шамана и в творческой созидательной деятельности, исполнении им произведений устного народного творчества: эпических сказаний, легенд и преданий. В бурятской традиции отмечается связь сказительства с шаманизмом: «Крупнейшие бурятские рапсоды ХХ века П. Тушемилов, П. Петров, П. Ханхаев, О. Хайнтаев и другие, от которых записаны десятки эпических произведений, в том числе «Гэсэр» – один из величайших памятников устного творчества монголов и бурят, выполняли также функции шаманов, пользуясь в этом качестве не меньшей популярностью в народе, чем на поприще сказительства» [6, с. 129]. Это важное обстоятельство, так как в эпических сказаниях бурят воплотилась и система мифологических представлений о мире.
Существовало представление о сакральности звучащего слова улигера, так же, как и слова шамана. Л. С. Дампилова рассматривает шаманские песнопения как ритуально-мифологический материал, отмечая, что «обряд наряду с мифом является синкретической формой архаической культуры» [5, с. 22]. Исследователь отмечает, что «картина мира в шаманских текстах строится по образцу мифологического мышления <…> Предполагая, что монгольская мифология в своей основе отражена в шаманской мифологии, и говоря об исконной монгольской мифологии, мы имеем ввиду в целом шаманскую мифологию» [5, с. 23]. Специфика бурятской мифологии, таким образом, по мнению исследователей, тесно связана с шаманистским комплексом верований, в котором значимое место занимает ритуально-обрядовая практика, что является свидетельством архаичности всей мифологической системы в целом.
Осознавая важность традиции мифопоэтического в бурятской литературе, С. И. Гармаева отмечает, что «мифопоэтика дала для организации прозы Бурятии большой набор средств художественной изобразительности и выразительности, способствовала во многом созданию и укреплению ее ведущей жанровой формы – романа» [4, с. 64].
Изучение мифопоэтики, роли и особенностей функционирования мифа в романном мире представляется актуальным аспектом в изучении литератур сибирских народов, позволяющим во всей полноте выявить как своеобразие национальных художественных традиций, так и общность, восходящую к универсалиям мифомышления. Своеобразие мифопоэтической модели в произведениях сибирских авторов рассматривалось чаще всего в рамках проблемы взаимодействия фольклора и литературы. При изучении роли легенд и преданий в структуре национального романа мифосознание определяется как важная часть этнографического пласта.
Таким образом, бурятская мифология сохранилась в живом бытовании, в сознании народа благодаря практике шаманистских ритуалов и обрядов, в различных жанрах шаманской поэзии, а также в эпических памятниках бурятского народа, в легендах, преданиях, родословных. Своеобразие бурятской мифологии состоит в сохранности архаических элементов.
Мифологический компонент достаточно четко выявляется в специфическом жанре бурятского фольклора или же жанровой разновидности загадок – триадах и четвериадах, когда выявляется общность атрибутивных характеристик различных вещей и явлений во Вселенной. Триады и четвериады оформляются иногда в виде вопросов-заданий и ответов как загадки, вторая часть также может существовать отдельно. Это своеобразные «спецификаторы», которые могут касаться цветовой характеристики («назовите три / четыре красных, синих, белых, черных и т. д.»), или же других качеств и параметров восприятия («назовите три долгих, три быстрых, три далеких, три легких, три трудных, три твердых, три острых, три удивительных, три неприятных, три опасных, три глухих, три страдания, три вида гордости, три глупых, три мудрых, три лучших, три приятных, три мягких и т. д.). Мифологизм усматривается в сближении-отождествлении явлений природного, космического, социального, нравственного порядков не только по внешней составляющей, а по сущностной характеристике, в результате чего происходит своеобразная субстантивация определения.
Рассмотрим триаду ясных в бурятском фольклоре: «Үүлэеэ хуряаhан тэнгэри сэлмэг. / Үhэеэ hамнаhан hамган сэлмэг. / Үнэhэеэ абхуулhан гал сэлмэг» [1, с. 242]. (Ясно небо, которое прибрало свои облака. / Ясно лицо женщины, причесавшей (прибравшей) свои волосы. / Ясен огонь, с которого убрали пепел). Тождественность явлений разного порядка оформляется и в единоначалии строк (анафоре) – традиционном аллитерационном стихе – «толгой холболго» (букв. «соединение голов»). Слова, которые ставятся в ряд в начале не только созвучны внешне, они связаны устанавливаемыми ассоциативными связями, выходя как бы из одного семантического гнезда. Так, здесь в начало поставлены слова в винительном падеже, обозначающие прямой объект действия: «үүлэеэ – үhэеэ – үнэhэеэ» (тучи – волосы – пепел), входя в разряд элементов и деталей, обозначающих временные «помехи». В подтексте намечена одна из сем слова «сэлмэг» – «ясный», которая может быть прочитана носителем языка как «сияющий», т. е. скорее прочувствована, но не обязательно осознана, так как эта сема отчетливо звучит только в третьей строке, где говорится об огне, но она проецируется на весь устанавливаемый ряд.
В следующий триаде происходит утверждение мировоззренческих представлений через констатацию отсутствия - это триада того, чего нет: «ХYнды тэнгэри гэшхүүргүй. / Худагай оёр загаhагүй. / Хуушанай үгэ худалгүй» [Алтар-гана, 2006, с. 210] (До полого неба лестницы нет. / В колодце рыбы нет. / В слове старинном (предании) лжи нет). Взгляд, идущий последовательно по вертикали вверх (небо) и вниз (колодец), позволяет наметить ассоциативные связи с ключевым элементом третьей строки - «словом предания», ценность которого утверждается в таком контексте. Ряд сопоставляемых явлений охватывает, пронизывает и внешнее, и внутреннее, и материальный мир, и духовный, здесь можно увидеть истоки символизации - характерной черты всего бурятского искусства.
Специфическим жанром бурятского фольклора является песня «тээгэ» -уговоры-заклинание овцы, не принимающей своего новорожденного ягненка. Мифопоэтика жанра - в представлении о возможностях функционирования ритмического, мелодического слова на уровнях архетипического, т. е. его воздействия в сфере инстинктов, в частности, в пробуждении материнского инстинкта. Этот жанр отражает сферу практической, обрядово-ритуальной жизни предков бурят.
Мифологическое осознание мира бурятами находит жанровое воплощение в песнях от лица животных и птиц. Так, в собрании С. П. Балдаева представлены песни коня, собаки, волка, коровы, дятла, вороны, полевого кулика, горлицы, бекаса ( морин, нохой, шоно, ухэр, тоншуул, турлааг, утагалжан, туутэй, hараалжан ), записанные от П. Петрова и П. Тушемилова. Это своеобразное «превращение» человека или же его «перевоплощение» в облике животного или птицы, что отражается в неразличении сфер и границ между ними [2, с. 261].
Так, в песне от имени собаки, к которой применены человеческие психологические категории и свойственный человеку предметный ряд, можно увидеть сочувствие к судьбе животного: «Шалагай hүниин хүйтэндэнь / Шэхэмни даарана лэ, / Шэхэтэйхэн толгойдоо / Малгайбай үтэлбэб; / Хуса hарын хүйтэндэнь / Хургадни даарана лэ, / Хургатайхан хүлдөө / Годоhобэй үтэлбэб; / Үбэлэй ехэ хүйтэндэнь / Үбсүүмни даарана лэ, / Үhэтэйхэн үбсүүндээ / Дэгэлбэй үтэлбэб». [Балдаев, 1961, с. 261] (От безмолвного зимнего холода / Уши мои мерзнут. / Хоть и есть уши на голове, / Без шапки я состарился. / От январского холода / пальцы мои мерзнут. / Хоть и есть пальцы на ногах, / без кожаной обуви я состарился. / От зимнего жестокого холода / Грудь моя мерзнет. / На волосатой груди своей / Без дэгэла я состарился). По-другому звучит песня от лица волка, в которой говорится о клыках и когтях: «Һобоймни бүхэ даа, / Һабарни хурса даа!» [2, с. 262] (Клыки мои крепки, / Когти мои остры).
В песне же от лица собаки говорится о пальцах, а не о когтях, - о части человеческого именно тела, о переживании прихода старости, присущем человеку. Своеобразная проекция своего тела и мира на другое «я» здесь очевидна. В структуре этих песен обязательно идет перечисление примет и признаков животного или птицы по принципу принадлежности: «у меня есть такие-то крылья, такой-то хохолок, такой-то хвост» и т. п. Также есть вопросы, относящиеся к сфере их интересов, иногда включаются звукоподражательные слова, имитиру- ющие язык животных и птиц. По нашему мнению, можно говорить о мифопоэ-тике жанров уже применительно к традиционному искусству бурят.
Говоря же об эпических традициях бурятской литературы в связи с мифом, необходимо наметить принципы разграничения эпического начала: как особенности жанра народного творчества, берущего свое начало от поэм и сказаний (эпопеи), и как рода литературы. Решение задачи достаточно проблематично, учитывая необходимость учета множества различных факторов. Бурятский эпос дошел до ХХ в. в устной традиции, что уже обусловливало его особую роль и значение в национальной культуре, являясь свидетельством древности ее истоков. Мифологический пласт в эпосе «Гэсэр», как у всех народов, характеризиру-ет долгий период его бытования. Фантастические образы, волшебные предметы, представления о магии слова (заговоре стрел и т. д.) отражают мифологию в развитии с самых ранних этапов ее становления.
Многие бурятские писатели первой половины ХХ в. в начале пути осваивали именно жанр поэмы о баторе, что закономерно обусловливалось фольклорной традицией. В осмыслении природы, космоса и социума в традиционной культуре бурят сложилась своя мифологическая модель, которая не могла не реализоваться в творчестве бурятских писателей. Общепринятым в бурятском литературоведении стало представление о формировании эпического сюжета в литературе в контексте фольклорных традиций. Процесс мифологизации истории в произведениях бурятских писателей происходит непосредственно вслед за ее легендарным осмыслением. Мифологизация истории в литературе отражает сложный процесс осознания фактов прошлого, принятия их и интерпретации с позиций своего времени, в то же время фабула оформляется в устно-поэтической традиции. Это явление отражается в жанровом обозначении произведений.
Говоря о мифологизации истории в бурятской литературе, следует, таким образом, иметь в виду своеобразие художественной традиции в целом, когда невозможно осознавать эпический сюжет произведений, посвященных ранним этапам истории, в отрыве от фольклорных первоисточников. Размежевание сложившихся традиционных представлений и индивидуально-авторского взгляда можно увидеть и проследить в пространственно-временной организации произведений, в зоне построения образа, когда, например, статике фольклорных образов противопоставляются динамика и эволюция характеров в литературе.
Формирование бурятской литературы в ХХ в. происходит в контексте советской литературы. При этом мифопоэтические традиции реализуются как элемент национальной картины мира в изображении сложившегося уклада жизни, в художественном осмыслении истории, природы, в этнографических экскурсах и т. д. Так, в семантике заглавия первой бурятской повести Ц. Дона «Затмение луны» (1932), посвященной сложным процессам коллективизации, содержится метафора, имеющая мифопоэтические истоки, со-полагающая различные моменты человеческой, социальной жизни с ритмами природной, космической жизни. Затмение луны становится кульминационным моментом повести, когда происходит переворот в сознании героя, позволяющий ему заново переосмыслить ценности своей жизни. Мифологически воспринимаемое и толкуемое как дурной знак затмение луны приобретает многозначность художественного образа, символизируя нарушение привычного, нормального порядка и хода вещей, ведь в созна- нии героя – честного труженика Радны, собирающегося поджечь колхозное сено, тоже происходит своеобразное «затмение», которое он осознает благодаря своей включенности в цикл природной жизни.
В первых романах бурятской литературы «Степь проснулась» (1949) Ж. Ту-мунова, «На утренней заре» (1950) Х. Намсараева происходит освоение историко-революционной темы, прослеживается пробуждение революционного духа бедняка, батрака, его приход к сознательной борьбе через отстаивание личных интересов, своей любви. В заглавии первых историко-революционных романов образ природной жизни становится метафорой социальных перемен. Мифопоэтические традиции воплощены в этнографическом пласте бурятских романов 5060-х гг. ХХ в. – историко-биографического романа Ч. Цыдендамбаева «Доржи, сын Банзара» (1952), историко-революционного романа А. Бальбурова «Поющие стрелы» (1956), трилогии Д. Батожабая «Похищенное счастье» (1959–1965). Имя отца, которое ставится впереди имени героя, – «Банзарай хүбүүн Доржо» – наглядное отражение генетического (родового) мышления бурят. В романе Ч. Цыдендамбаева мифопоэтика в изображении явлений природной и народной жизни воплощена на уровне языка и сюжетно-композиционной структуры. Ми-фопоэтика романа А. Бальбурова «Поющие стрелы» не раз становилась объектом научного осмысления в бурятском литературоведении. Образы солнца, луны, огня обоснованно рассматривались как мифологемы. Изображение обрядов и обычаев, повествование о них в отступлениях, включение легенд и преданий усложняет жанровую структуру этого романа, выводя ее за пределы историкореволюционной тематики. Название романа также имеет символическое значение, раскрывающееся в контексте национальной культуры: поющие (свистящие) стрелы – сигналы, предназначенные для всех в стане, пускались в начале и конце сражения. В легенде о хонгодорах, которая приводится в романе, стрелы попадают в сердце вождя по его приказу как признание собственной вины за отказ от преемственности духовного опыта своего народа.
Циклическая сюжетная схема и символика круга выявляется в структуре романа Д. Батожабая «Төөригдэhэн хуби заяан» (Заплутавшая доля-судьба). Общепринятый перевод «Похищенное счастье» не отражает концептуального характера понятия «хуби заяан» – судьбы, имеющей характер предопределения. Мифопоэтика романа определяется на композиционном уровне и в символике, восходящей к традиции. Связь символизации с мифосознанием, свойственная традиционной культуре бурят, сохраняется и получает выражение через призму авторского сознания: таков финальный образ жизни героя как кольца из тела ядовитой змеи, поедающей свой собственный хвост. Замыкающийся круг – ключевая метафора данного романа, оформляющая художественную философию автора.
Место действия первых романов, как правило, малая родина бурятских писателей (улус Табтанай у Ж. Тумунова, кижингинские степи у Х. Намсараева, улус западных бурят у А. Бальбурова, агинские степи у Д. Батожабая и т. д.). Возможно, в этом приеме воплощается тенденция освоения автором романной проблематики через призму своей личной судьбы. Нарушение идиллического покоя мирной жизни связано с мотивом странствий героя, что свойственно ранним формам романа и характерно для развертывания эпического сюжета.
В основе первых бурятских романов о современности «Хилок наш бурливый» Б. Мунгонова (1959), «Голубые сопки» Ж. Баданжабона (1965) - сюжетная схема производственного романа социалистического реализма. Однако сама тема изображения жизни и быта тружеников в гармонии с природой, стилистика национального художественного мышления, язык творчества определяют реализацию мифологического пласта в структуре данных произведений. Таково, например, уподобление героев образам деревьев, последовательное одухотворение природных явлений, изображение слияния человека с природой в романе Ж. Балданжабона.
В романном творчестве Ц. Жимбиева мифологизм выражается на разных уровнях. Автор включает фольклорный элемент в повествование (как маркер сознания героя), в символику образов и мотивов и т. д. Так, семантика заглавия романа о жизни в тылу в годы Великой Отечественной войны «Гал могой жэл» -«Год огненной змеи» (1972) содержит мифологическое толкование традиционного календаря. Представление о трудном и недобром времени испытаний - обозначение года начала войны приобретает символическое звучание. Изображение природных стихий в романах Ц. Жимбиева «Течение» (1967), «Степные дороги» (1976) также отражает во многом мифологическое восприятие и осознание природных явлений, намечая их связь с явлениями социального порядка.
Изображение колхозной жизни, трудовых будней, раскрытие при этом тесного общения человека с природой в привычном для кочевника пространстве степи - это одна из граней реализации мифопоэтических традиций в бурятской литературе. Жанровая генерализация намечается также в прозе, обращающейся к охотничьему быту, раскрывающей пространство тайги. М. Жигжитов и Д. -Д. Ду-гаров - писатели, пришедшие в бурятскую литературу, будучи профессиональными охотниками. Поэтому закономерно их обращение к теме охоты, к опыту пребывания в таежных условиях не только бурят, но и эвенков. Охотничьи рассказы занимают важное место в творчестве Б. Ябжанова, С. Доржиева и других прозаиков.
В повестях М. Жигжитова «Моя Малютка-Марикан» (1967), «Тропа Сама-гира» (1969), «За ущельем Семи Волков» (1070) и романе «Подлеморье» (1974– 1981) главные герои - охотники-эвенки, что отнюдь не случайно. Опыт этого автохтонного народа Сибири, сохранившего древнейшие мифологические верования, востребован в связи с постановкой экологической проблематики, с осознанием конфликта природы и цивилизации. Можно говорить о том, что на протяжении длительного периода истории сибирских народов складывается специфический культурный диалог, базирующийся на культовом отношении к миру природы и предкам у самых разных народов.
В рассказе «Эхо далеких выстрелов» (1969), повести «Черный соболь» (1969), романе «Хангай» (1984) Д.-Д. Дугарова большое значение в изображении жизни охотников, воспроизведении их верований и традиционных обрядов имеет мифологический образ духа-хозяина тайги Хангая, имеющий архетипические истоки. В рассказе С. Доржиева «Закон жизни» (2010) также говорится о постижении законов Хангая, имеющих огромное значение в формировании нравственноэтических убеждений человека.
Мифопоэтические традиции бурятской литературы проявляются в романе В. Митыпова «Геологическая поэма» (1975) не только в метафорическом образе живой планеты, соотносимой по своему устройству с внутренним миром человека, с одушевлением ландшафта, которое обозначается как «лирика», но и определяют сложную жанровую структуру произведения. Писатель расширяет границы мифологизирования, раскрывая в его рамках построение научных теорий в геологии, интеллектуальный поиск своих героев-геологов.
Выявление собственно литературоведческих аспектов изучения мифа остается важной задачей историко-литературных исследований по мифопоэтике. Разнообразие литературного материала позволяет высвечивать определенные стороны этой проблемы и намечает направления ее дальнейшего исследования. Мифопоэтические традиции – важный компонент национальной картины мира в бурятской литературе, фактор, определяющий этнокультурную специфику художественной словесности.
Список литературы Специфика мифопоэтических традиций в бурятской литературе
- Алтаргана: Из бурятской народной поэзии / пер. с бур. Б. Дугарова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. 256 с.
- Балдаев С. П. Бурятские народные песни (дореволюционные). Т. 1. Улан-Удэ: Буряадай номой хэблэл, 1961. 289 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Изд. 3-е. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 648 с.
- Гармаева С. И. Типология художественных традиций в прозе Бурятии. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1997. 170 с.
- Дампилова Л. С. Шаманские песнопения бурят: поэтика и символика. М.: Восточная литература, 2012. 263 с.
- Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции. Новосибирск: Наука, 1987. 288 с.