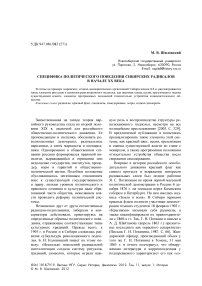Специфика политического поведения сибирских радикалов в начале ХХ века
Автор: Шиловский М.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере эсеровских, социал-демократических организаций Сибири начала ХХ в. рассматриваются такие элементы ритуалов и символов революционного подполья, как цветовая гамма, песни, презентация и оценка существующей власти, элементы программных положений относительно устройства социалистического общества.
Радикалы, красный флаг, социализм, самодержавие, эсеры, социал-демократы
Короткий адрес: https://sciup.org/14737645
IDR: 14737645 | УДК: 947.081/083
Текст научной статьи Специфика политического поведения сибирских радикалов в начале ХХ века
Заимствованная на западе теория партийного руководства стала во второй половине XIX в. аксиомой для российского общественно-политического движения. Ее проповедывали и пытались обосновать революционные демократы, радикальные народники, а затем марксисты и неонародники. Одновременно в общественном сознании россиян формировался правовой нигилизм, выражавшийся в отрицании или недооценке государства, институтов, процедур, норм и гарантий в общественнополитической жизни. Подобное положение обуславливалось негативным отношением масс к существующей государственности и праву, низким уровнем политического и правового сознания и культуры даже образованной части общества, нежеланием власти проводить реформу политической системы.
Независимо друг от друга отечественные радикалы-подпольщики, либералы и консерваторы действовали, ориентируясь на определенные образцы политического поведения, отражающие соответствующие типы культурных традиций. Прежде всего, к 1905 г. в России и в Сибири сложилась развитая субкультура революционного подполья. Б. И. Колоницкий пишет по этому поводу: «Несколько поколений радикальной интеллигенции создали систему ритуалов, традиций, символов, которые играли важ- ную роль в воспроизводстве структуры революционного подполья, несмотря на все полицейские преследования» [2003. С. 329]. В предлагаемой публикации я попытаюсь проанализировать такие элементы этой системы, как красный цвет, песни, презентация и оценка существующей власти во главе с монархом, а также программные положения относительно устройства общества после свержения самодержавия.
Впервые в истории российского освободительного движения красный флаг как символ протеста и выражение интересов радикальных слоев был поднят рабочим Я. С. Потаповым во время первой массовой политической демонстрации в России 6 декабря 1876 г. на площади перед Казанским собором в Петербурге. На нем имелась надпись «Земля и воля». В Сибири первыми красные флаги подняли участники демонстрации томских студентов 18 февраля 1903 г. «Красными» называли себя радикалы, а также квалифицировали их правоохранители с 1860-х гг. Так, Г. Н. Потанин в письме к А. Д. Шайтанову (апрель 1863 г.) презентовал последнего как «красного сепаратиста» [Письма Г. Н. Потанина, 1987. С. 66]. Жандармский офицер, производивший обыск у того же Г. Н. Потанина в Томске, 31 мая 1865 г. в отчете подчеркнул, что обнаруженная литература и корреспонденция у подозреваемого характеризует его как «со-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 1: История © М. В. Шиловский, 2012
чувствующего разных красных идей лицам» 1. К слову будет сказать, не конфузились тогда употреблять неприличную ныне в России дефиницию «коммунизм». Поэтому сибирский чиновник, князь Н. А. Костров, вспоминая о своих встречах с ссыльным М. В. Петрашевским, называет петрашевцев «несчастными коммунистами» [Шевцов, 2011. С. 166].
По всей видимости, красные флаги были заимствованы из Франции, где в ходе революций 1830, 1848 гг. рабочие выступали под красными знаменами. В 1848 г. они требовали признания красного флага, знамени революции и социальных преобразований, в качестве государственного символа, наряду с триколором. Под красными знаменами вели баррикадные бои сторонники Парижской коммуны в 1870 г.
Красная символика активно использовалась радикалами различной партийной принадлежности и беспартийными в период Первой русской революции. Красные флаги были подняты восставшими экипажами на броненосце «Потемкин» (июнь 1905 г.) и крейсере «Очаков» (ноябрь 1905 г.) Черноморского флота, на миноносцах «Скорый», «Сердитый» и «Тревожный» во Владивостоке (октябрь 1905 г.). «Красный флаг, флаг социализма развивался над баррикадой», сооруженной в Петербурге 9 января 1905 г., как утверждалось в листовке Томского комитета РСДРП [Революционное движение…, 1955. С. 23]. В последующем это краткое упоминание трансформировалось в легенду и в более поздней по времени листовке того же комитета (июнь 1905 г.) сообщалось: «Там далеко, за тысячи верст, как первая искра, блеснуло красное знамя. То – на баррикадах Васильевского острова умирала девушка-работница с рабочим красным знаменем в руках. И искра за искрой засверкали красные знамена по широкому полю Российской земли» [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 105].
Этот же комитет накануне вооруженной демонстрации 18 января 1905 г. специальной прокламацией призвал горожан «дружно выходить на улицу и смело соединяться с рабочими и студентами под красным знаменем социал-демократии» [Революционное движение…, 1955. С. 23–24]. В ходе же са- мой демонстрации ее участники «несли четыре красных флага, один из которых был с кистями, и пели песни революционного содержания» [Там же. С. 27]. Характерно, что в перечне трофеев правоохранителей на первом месте стояли красные флаги, полицейский получил серьезное ранение за попытку отобрать один из них. Революционной символике противоборствующие стороны уделяли особое внимание. В листовке Томского комитета РСДРП, посвященной памяти убитого в ходе упомянутой демонстрации рабочего-полиграфиста И. Е. Кононова акцентировалось, что «он пал со знаменем в руках, под сенью которого рабочий класс несет обновление всему старому миру» [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 58]. В их же листовке, датируемой августом 1905 г., звучал призыв подымать «то самое красное знамя, которое развивалась над восставшим броненосцем» [Там же. С. 127].
Соответствующая цветовая гамма использовалась в агитационных целях при проведении траурных церемоний. Например, большое значение для консолидации томских радикалов имели состоявшиеся 25 ноября 1905 г. похороны студента университета, социал-демократа И. В. Писарева. «Похоронная процессия с красным гробом прошла довольно медленно (умышленно) по главным улицам гор. Томска с пением вместо “святой боже…” революционных песен, – докладывал полицмейстер, – впереди процессии несли 17 венков с необычайно широкими красными лентами, на которых были разные надписи революционного содержания» [Революционное движение…, 1955. С. 84].
Красная символика использовалась не только социал-демократами. Красноярские эсеры в листовке, датируемой 10 декабря 1905 г., вопрошали, «что значит красное знамя», и далее пересказывали основные программные положения ПСР [Курускано-ва, 2000. С. 69]. Большое распространение в сибирской деревне получили прокламации Всероссийского крестьянского союза (ВКС) «Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом». Во время совместной демонстрации рабочих Красноярска и солдат железнодорожного батальона 6 декабря, как отмечалось в газетной корреспонденции, «около трибуны кроме знамен рабочих мастерских, депо и соц[иалистов]-рев[олюционеров]
гордо взвилось еще одно красное знамя с надписью «Свобода, равенство и братство» [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 298]. Кстати, и сегодня красный цвет как символ протеста используется не только политическими объединениями. Например, жители одного из микрорайонов Новосибирска в августе 2011 г., протестуя против решения местных властей, ущемляющего их интересы, изготовили 250 красных флагов и развесили на своем многоэтажном доме [Гайдукова, 2011].
Вместе с тем эсеры использовали для собственной индификации и другие цвета. Так, при описании митинга в красноярском Народном доме 15 октября 1905 г. сообщается: «На сцене кроме вчерашних комитетских знамен (местного комитета РСДРП. – М. Ш. ) развевалось еще два красных знамени с надписями: «Долой самодержавие» и одно черное знамя социалистов-революционеров с надписью: «Смерть врагам народа» [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 202].
Массовые протестные акции сопровождались исполнением революционных песен: «Вы жертвою пали», «Варшавянка» и особенно «Марсельезы» [Там же. С. 46, 207, 208, 267]. Читинский епископ Мефодий, вспоминая о событиях 1905 г. в городе, подчеркивал: «Не раз, когда в церкви шла служба, до меня доносилось с улицы пение этой разбойничьей песни «Марсельеза» 2. Ею начинали и заканчивали митинги, собрания, демонстрации. В пропагандистских целях Красноярский комитет РСДРП в октябре 1905 г. тиражом в 3 тыс. экз. издал листовку-песенник с текстами наиболее популярных революционных песен [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 232].
Сами протестные акции можно подразделить на митинги, демонстрации, стачки (забастовки), похороны (панихиды). Так, в Томске последний вид перечисленных мероприятий в отношении упомянутого выше И. Е. Кононова использовался дважды: во время похорон 30 января 1905 г. и 1 июля того же года при открытии памятника на его могиле. В Красноярске в подобном же духе прошли похороны рабочего-железнодорожника М. Чальникова 13 августа 1905 г., в Чите железнодорожника А. Е. Кисельникова
19 октября того же года, смертельно раненого при изъятии (грабеже) оружия из воинского эшелона.
Как правило, для проведения массовых протестных акций радикалы использовали центральные кварталы и улицы крупных сибирских городов. Там, где железнодорожные узлы (станции, депо, мастерские) находились на удалении от городских кварталов (Чита, Красноярск, Омск, Иркутск), там митинги, собрания, демонстрации проходили попеременно: утром в железнодорожных мастерских, после обеда – в городе. Особенность ситуации в октябре 1905 г. заключалась в проведении стационарных митингов в течение всего дня в культурно-просветительных учреждениях: Томск – театр, бесплатная библиотека, общественное собрание; Красноярск – Народный дом; Иркутск – общественное собрание, клуб приказчиков, Омск – железнодорожное собрание, Мариинск – Народный дом и т. д. В последнем группа местных интеллигентов получила разрешение на проведение в Народном доме публичных чтений по проблеме развития гражданских свобод. Прибывший для осуществления надзора полицейский чиновник был сильно удивлен, когда вместо запланированной лекции услышал пение «Марсельезы», революционные речи, получил комплект прокламаций и ознакомился с программой РСДРП.
В своих нелегальных (листовки, бюллетени, газеты) и легальных изданиях радикалы активно обличали существующие порядки, чиновников и императора. Уже в прокламации Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (1861) в отношении императора Александра II звучал рефрен: «Оболгал он вас (крестьян. – М. Ш.), обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно» [Освободительное движение…, 1991. С. 239]. Один из теоретиков революционного народничества П. Н. Ткачев в 1875 г. следующим образом характеризовал современное ему самодержавное государство: «Сегодня наше государство – фикция, предание, не имеющее в народной жизни никаких корней. Оно всем ненавистно, оно во всех, даже в собственных слугах, вызывает чувство тупого озлобления и рабского страха, смешанного с лакейским презрением» [Утопический социализм в России…, 1985. С. 378]. Примерно в таком же духе высказывались сибирские областники. Рукописная прокламация «Сибирским патриотам» (первая половина 1863 г.) начинается следующим образом: «Неспособность петербургского правительства разумно и либерально управлять подвластными ему народами, его тупоумие и недобросовестность признаны всеми честными людьми. Это правительство не хочет и не умеет ввести сколько-нибудь порядочного управления даже в своей резиденции – Петербурге, чего же доброго ждать от резиденции его – Сибири, где по отдаленности края от центра управления тиранство, самодурство важнее могут безнаказанно проявляться в полном блеске своего отвратительного величия. Чего ждать Сибири от этого идеального правительства? Когда оно смотрит на нее как только на золотую яму, сокровища которые оно может проматывать на бессмысленные кутежи и любовниц, на дворы и на заграничные поездки, на фаворитов, лакеев и а ватагу всегда любимых ему шпионов!» [Дело об отделении Сибири…, 2002. С. 123– 124].
В период революции 1905–1907 гг. резко увеличивается количество сатирических повременных изданий, достигнув 263 [Левин-тов, 1957. С. 269]. В Сибири тогда издавались следующие сатирические журналы и листки: «Да будет свет», «Сибирская саранча» (Омск); «Бич», «Бубенцы», «Ерш», «Красный смех», «Осы», «Рабочий юморист» (Томск); «Фонарь» (Красноярск); «Жало», «Овод», «Паут» (Иркутск). Местные издания в основном реагировали на общероссийские сюжеты и проблемы. Например, известный литератор, социал-демократ П. А. Казанский следующим образом прокомментировал в журнале «Ерш» (1906) смерть «усмирителя», генерала Д. Ф. Трепова: «Здесь Трепов погребен. Вреда он сделал много: / Патронов не жалел, свободу он губил». А вот как в журнале «Бубенцы» характеризовалась общероссийская общественнополитическая повседневность в 1906 г.:
«Заключенья», «выселенья»,
Плюс «особых прав лишенья», «Избиенья», «усмиренья», «Циркуляры», «донесенья», Тьма «проектов», «отношенья», «Усмотренья», «подозренья», Плюс «охраны», «положенья». При внимательном сложеньи,
По министров выраженью, Даст – «страны успокоенье»
[Стихотворная сатира…, 1969. С. 251, 589].
Одной из главных фигур обличений становится Николай II как воплощение всей бездарности и обреченности самодержавной системы. Радикалами была развернута мощная PR-кампания дискредитации императора и всей управленческой элиты государства с целью формирования антимонархического сознания. В прокламациях сибирских социал-демократических организаций царь ре-презентовался как: «венценосный негодяй», «Николай Обманов», «изверг-царь», «тиран», «коронованный злодей», «зазнавшийся, обезумевший поработитель и угнетатель», «осатаневший от крови палач и мучитель» [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 41, 172, 177, 179, 191, 440]. Не менее уничижительными были характеристики чиновников – «палачи», «опричники», «холопы», «башибузуки», «вооруженная банда», «верные псы», «негодяи», «прохвосты», «мерзавцы», «чиновники-крепостники», «кровавые старики Сухотины, Кутайсовы», «придворная свора» и т. д. [Там же. С. 186, 190, 195, 220, 225, 226, 274, 322, 330, 498]. Политические противники дискредитировались не только в режиме реального времени, но и в мемуарах, спустя длительное время. Так, А. Яропольская в 1925 г. следующим образом характеризовала своего вагонного попутчика, казачьего офицера, участника трагических событий 20–22 октября 1905 г. в Томске: «Более тупой, преступной рожи я еще не видела» 3.
Организациями партий социалистической ориентации предлагались радикальные проекты технократизации страны и ликвидации феодальных пережитков в духе социалистической парадигмы. В листовке томских эсеров (23 октября 1905 г.) утверждалось, «что та могучая сила социализма, которую исповедуют партии социалистов-революционеров и социал-демократов, начинает завладевать сердцами трудящегося темного народа» [Курусканова, 2000. С. 68]. Краеугольным камнем у них было требование ликвидации частной собственности. «Общий интерес всех рабочих без различия веры и племени, – подчеркивалось Сибирским союзом РСДРП (апрель 1905), – без различия мастерства и занятий, без различия страны и государства, общий интерес всего рабочего класса заключается в том, чтобы весь капитал, все, без чего нельзя работать – земля, фабрики, здания и машины, – чтобы все это принадлежало не частным лицам, не кучке капиталистов, как теперь, а всему обществу. Только при таком социалистическом порядке не будет эксплуатации одной части населения другой» [Большевики Западной Сибири…, 1958. С. 78].
Социал-демократы рассматривали обобществление средств производства как главное условие «водворения социализма». «Труд должен быть успешным, или, как говорят, производительным, – утверждали томские эсдеки. – В общественном труде необходимо применять все самые усовершенствованные машины, все способы, указываемые наукой, ибо они облегчают и ускоряют работу человека» [Там же. С. 519– 520]. Они же в листовке от января 1906 г. поясняли относительно перспектив построения социализма в России: «Но мыслимо ли ввести у нас в России социализм сейчас? Нет, наша деревня еще слишком темна и бессознательна. Еще слишком мало настоящих социалистов (социал-демократов) среди крестьян. Прежде всего нужно свалить самодержавие, которое держит народные массы во тьме. Нужно освободить деревенскую бедноту от всяких податей, нужно ввести подоходно-прогрессивный налог, всеобщее обязательное обучение, нужно, наконец, объединить деревенский пролетариат и полупролетариат в одну социалистическую армию. Только такая армия сможет совершить великий социалистический переворот» [Там же. С. 334–335]. Касаясь этой стороны общественно-политических взглядов российских интеллектуалов, П. Б. Струве замечал: «В основе нашего интеллигентского экономического миросозерцания может лежать либо тот безрелигиозный механический рационализм, из которого выросла доктрина западноевропейского социализма, своего рода общественный атеизм, либо то религиозное народничество, самым ярким выразителем которого является Лев Толстой и для которого идеал человека – Иванушка-дурачок» [Струве, 2000. С. 86].
THE SPECIFIC CHARACTER OF THE RUSSIAN RADICALS' BEHAVIOUR IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD (BY THE EXAMPLE OF SIBERIA)