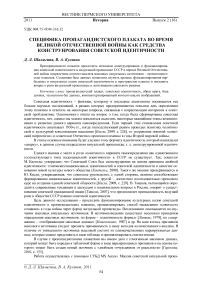Специфика пропагандистского плаката во время Великой Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности
Автор: Шалыгина Д.Л., Куликов В.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Историческая информатика
Статья в выпуске: 2 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Предпринимается попытка проследить механизм конструирования и функционирования советской идентичности в визуальной пропаганде СССР в период Великой Отечественной войны посредством контент-анализа массовых визуальных источников - пропагандистских плакатов. Созданная база данных позволила изучить процесс функционирования вербальных и визуальных кодов советской идентичности в пространстве плаката и поставить вопрос о роли визуальной пропаганды в легитимации советского режима.
Пропагандистский плакат, советская идентичность, образ врага, база данных, технологии баз данных, компьютеризированный контент-анализ изображений
Короткий адрес: https://sciup.org/147203337
IDR: 147203337 | УДК: 004.75+930+316.32
Текст научной статьи Специфика пропагандистского плаката во время Великой Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности
Советская идентичность – феномен, которому в последнее десятилетие посвящается все больше научных исследований, в рамках которых предпринимаются попытки дать определение этому понятию и ответить на некоторые вопросы, связанные с возрастающим интересом к советской проблематике. Однозначного ответа на вопрос о том, когда была сформирована советская идентичность, нет, однако мы можем попытаться выделить некоторые важнейшие этапы возникновения и развития данного варианта самоопределения. Если первый этап становления советской идентичности охватывает 1930-е гг., когда господствующий режим проводил политику политической и культурной консолидации населения [ Кисла , 2009, с. 226], то укоренение понятий «советский патриотизм» и «советское Отечество» произошло именно в годы Второй мировой войны.
В статье основное внимание будет уделено тому формату идентичности, который насаждался «сверху», в данном случае посредством визуальной пропаганды, т. е. сконструированной идентичности.
Единого мнения о месте и роли «советского» варианта самоопределения как единственного господствующего типа надсоциальной идентичности в СССР не существует. Так, социолог М. Кастельс утверждает, что Советский Союз был сконструирован на основе принципа двойной идентичности: этнических/национальных идентичностей и советской идентичности в качестве основания новой культуры нового общества [ Кастельс , 2000]. Такого же мнения придерживается и Ю. Кисла, утверждающая, что советское руководство, с одной стороны, активно способствовало формированию национальных идентичностей, с другой – достаточно последовательно проводило курс на создание единой советской общности [ Кисла , 2009, с. 229]. В. Тишков, пытающийся определить современные тенденции в дискуссии о национальном вопросе в России, говорит о существовании советской гражданской нации [ Тишков , 2007], что предполагает принадлежность ведущей роли в обществе СССР именно советской идентичности.
Цель данного исследования – проследить функционирование культурных кодов советской идентичности в пропагандистских плакатах, проанализировать способ насаждения «советского сознания» в годы войны через форму визуальной пропаганды. Исследование основывается на изучении массовых визуальных источников. В источниковедении существует несколько принципов определения массовых источников: по форме – «однотипность формы» [ Литвак , 1979], по содержанию – «отображающие массовые данные» [ Ковальченко , 1987] и др. На наш взгляд, признаком массового источника следует признать применимость к нему методов количественного анализа. В отличие от уникального источника массовый состоит из однокачественных варьирующихся данных, которые можно представить в виде таблицы и проанализировать статистически.
В случае с пропагандистскими плакатами мы имеем дело с гомогенным массивом данных, который может быть передан в табличной форме в виде варьирующихся признаков и на основе которого может быть создан новый источник с «двойным отчуждением от реальности» [ Гарскова , 2010, с. 155].
Работа осуществлялась с помощью СУБД MS Access. Массив советской визуальной пропа-
ганды (плакаты и «окна ТАСС»), составивший базу данных, был проанализирован на наличие в нем визуальных и вербальных маркеров советской или какой-либо другой (национальной или этнической) идентичности. База данных состоит из двух таблиц – «Плакат» и «Идентичность» – связанных как один со многими. Такая структура базы данных позволяет анализировать сразу несколько визуальных или вербальных кодов, находящихся в пространстве одного плаката.
На некоторых плакатах одновременно использовались маркеры советской и национальной идентичности. Под понятием «маркер идентичности» подразумевается наличие в пространстве плаката определенного кода, визуального или вербального. Так, серп и молот являются визуальным маркером советской идентичности, а термин «советский» и его словоформы – вербальным маркером. Визуальный маркер советской идентичности встречается в 53% пропагандистских плакатов выборки, включающей более 200 советских плакатов. В половине случаев советская идентичность воплощается в образе красной звезды, которая мгновенно позволяет идентифицировать тот или иной героический персонаж (или любой позитивный образ) как нечто советское, а значит – отечественное. Вполовину реже встречается такой маркер, как красный флаг (составляет 22% всех визуальных маркеров), обладающий также смысловым кодом победы. Важным визуальным маркером советской идентичности стало употребление красного цвета как такового. Это сделало советские пропагандистские плакаты времен войны уникальными по сравнению с визуальной пропагандой других стран. Речь не идет об отсутствии плакатов с доминирующим красным цветом, таких было достаточно много, особенно среди немецких и итальянских плакатов. Маркер, который при анализе базы данных был условно назван «абсолютный красный», был выявлен на плакатах, в пространстве которых появлялся героический (или просто некий позитивный) образ, окрашенный полностью в красный цвет. «Абсолютный красный» составляет почти 15% всех установленных в выборке визуальных маркеров. Интересно, что в 80% случаев появление такого маркера сопровождалось противопоставлением позитивного и негативного образов, т. е. «красный» воин, «красный» танк и т. д. почти не функционировали без противостоящего (зачастую черного цвета) врага. Таким образом, советская пропаганда использовала контраст цветов для построения определенной модели идентичности1.
Одним из часто встречающихся визуальных маркеров стало также изображение серпа и молота, которое, однако, в советской пропаганде использовалось реже, чем во вражеской. Так, серп и молот в качестве маркера советской позитивной идентичности можно обнаружить приблизительно на каждом четырнадцатом советском пропагандистском плакате, что является не слишком высоким показателем, по сравнению, к примеру, с показателем встречаемости образа красной звезды – на каждом третьем плакате. К маркерам советской идентичности были отнесены и такие визуальные образы, как портреты Ленина и других советских исторических персоналий, героев Гражданской войны.
Основным вербальным маркером советской идентичности стало, безусловно, употребление слова «советский» и его словоформ, а также украинского перевода «радянський», что было соотнесено с единым семантическим значением. Данный маркер составляет почти треть всех вербальных маркеров, встречающихся в титлах пропагандистских плакатов. Вторым по частоте употребления вербальным маркером советской идентичности явилось словосочетание «Красная Армия», соответствующее позитивному, героическому образу. «Красноармейский», «воин Красной Армии», «боец Красной Армии» становятся в плакатной пропаганде синонимами советской героики, а комбинация вербального кода с визуальным (упоминавшиеся ранее красная звезда, серп и молот, красный цвет и т. д.) позволяет идентифицировать данный вербальный маркер как проявление советской риторики. Синонимом «советскости» в пропагандистских плакатах служат также фамилия «Сталин» и производные от нее прилагательные («сталинский» и др.). Этот код составляет около 15% всех вербальных маркеров.
Исследование позволило выявить наличие противопоставления «отечественной» идентичности образа врага. Это дает возможность проследить механизм усиления идентичности через антиидентичность. Появление в пространстве плаката образа врага, который противопоставляется некоему позитивному образу, весьма характерно для военной пропаганды. При этом, если позитивный, героический и вражеский образы обладают каким-либо кодом, свидетельствующим об их отношении к определенной общности, то мы можем говорить о формировании идентичности посредством противопоставления. Ярчайшим примером может служить дихотомия «звезда – свастика» или «серп и молот – свастика». Тем не менее прием противопоставления в персонифицированных образах Сталина и Гитлера на советских плакатах не использовался ни разу. Очевидно, идея изобразить в одной плоскости Гитлера и Сталина (пусть даже в роли Добра, побеждающего Зло) казалась советским художникам-карикатуристам кощунственной. При анализе титлов плакатов было также обнаружено вербальное противопоставление такого типа: «Очистим советскую землю от фашистской нечисти!» (курсив мой. – Д. Ш.). Подобные противопоставления встречаются достаточно часто. Так, на более чем 50% плакатов, в которых появляется вербальный маркер советской идентичности, для увеличения его функциональной роли используется также единица, семантическое значение которой будет негативным. Наиболее часто отмечаются дихотомии «фашистский – советский», «советский – немецкий» (или немецкий захватчик), «Красная Армия – гитлеровцы» и т. д. Что касается визуального противопоставления, то оно встречается еще чаще: в 60% случаев визуальный маркер советской идентичности находится в одном плакатном пространстве с образом врага, наделенным кодом анти-идентичности. Конкретные примеры подтверждают тезис об образе врага как центральном факторе формирования советской идентичности [Шпорлюк, 1998, с. 380]. Роль образа врага в советской пропаганде, по мнению некоторых исследователей, действительно была решающей в процессе легитимации режима в СССР и укоренения советской идентичности. Наличие образа «чужого» явилось важным фактором установления связи между социальным «мы», репрезентируемым властью, и своим «я», которое принадлежит к этому «мы»; образ врага в советской пропаганде сыграл роль мобилизации, консолидации, консервации и т. д. [Шліхта, 2011, с. 89].
Стоит также сказать несколько слов о присутствии элементов национальной идентичности в советской плакатной пропаганде. Годы Великой Отечественной войны стали довольно противоречивым периодом для функционирования национальной риторики в Советском Союзе. По мнению некоторых ученых, это время наибольшей степени актуализации патриотического контекста и отождествления советской идентичности с российской. Годы советско-немецкого противостояния являются своего рода исключением, когда «наступление нацистов заставило Сталина воскресить Александра Невского» [ Кастельс , 2000]. В то же время это один из немногих периодов, когда произошло усиление и даже инспирирование «национальных» версий советского патриотизма. Как и в визуальной (плакаты, журнальные карикатуры), так и в вербальной (листовки, газетные и журнальные материалы) пропаганде все большее внимание уделялось героическому историческому прошлому, национальным героям, которые либо воскрешаются, как, например, Суворов, Кузьма Минин, Богдан Хмельницкий, либо создаются заново. И если обращение Сталина к российскому наследию произошло уже в 1930-е гг., когда началось возрождение позитивного образа российского прошлого, то в национальных республиках процесс реабилитации национальных героев отмечается позднее – с конца 1930-х гг. [ Кисла , 2009, с. 230].
Тем не менее ни в этот период, ни непосредственно в годы Великой Отечественной войны такие проявления национальной патриотической риторики никоим образом не препятствовали формированию общесоветского сознания. Доля патриотических образов, несущих код национальной идентичности, ничтожно мала по отношению к общему количеству визуальной пропаганды. И, хотя мы можем выделить как визуальные, так и вербальные маркеры, встречающиеся на пропагандистских плакатах и обладающих национальной идентичностью, их процент от общего количества очень мал. Можно упомянуть встречающиеся в плакатной пропаганде маркеры русской, украинской, кавказской и другой идентичности. Интересен случай появления вербальных маркеров возрожденной «славянской» идентичности, к примеру, на плакате с титлом «К оружию, славяне! Разгромим фашистских угнетателей!» Этот пример является отражением общей тенденции советской пропаганды в военный период, которую А. В. Фатеев определил как сочетание патриотизма с панславизмом [ Фатеев , 1999, с. 12]. Такой вербальный код наряду с некоторыми визуальными (например, образ богатыря) становится аналогом (по качеству, но не по распространенности) советской идентичности, которая по своей сути является надсоциальной. В то же время появление «славянских» маркеров может свидетельствовать о попытке напомнить о надэтнической идентичности народов СССР.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о значимости пропагандистского плаката периода Великой Отечественной войны в процессе конструирования советской идентичности. Благодаря систематическому употреблению определенного набора визуальных и вербальных кодов происходит героизация советской риторики и образов советского. Все эти образы невольно становились «своими» в системе групповых идентичностей. Режим с помощью регулярного повторения совокупности кодов, содержащихся в пропагандистских материалах, начал отождествляться с Отечеством и в годы войны благодаря противопоставлению себя реальному врагу смог получить легитимацию. Это позволило и в послевоенные годы использовать память о войне и само понятие «Великая Отечественная» как эффективнейшее средство пропаганды и свидетельство законности режима.
Список литературы Специфика пропагандистского плаката во время Великой Отечественной войны как средства конструирования советской идентичности
- Гарскова И. М. Источниковедческие проблемы исторической информатики//Рос. история. 2010. № 3.
- Гудков Л. Идеологема «врага», 2004 [Электронный ресурс]. URL: http://psyfactor.org/lib/gudkov4.htm (дата обращения: 23.01.2011).
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М., 2000.
- Кисла Ю. Конструювання української iсторичної пам'ятi в УРСР впродовж сталiнського перiоду (1930-тi -1950-тi рр.)//Мiжкультурний дiалог. Т. 1. Iдентичнiсть. Киев, 2009.
- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987.
- Литвак Б. Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX -начала ХХ в. М., 1979.
- Тишков В. Российский народ и национальная идентичность, 2007 [Электронный ресурс]. URL: http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3105272/(дата обращения: 25.02.2011).
- Фатеев А. В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг.: моногр./отв. ред. Н. К. Петрова; Ин-т рос. истории РАН, 1999.
- Шлiхта Н. Iсторiя радянського суспiльства. Киев, 2010.
- Шпорлюк Р. Комунiзм i нацiоналiзм. Карл Маркс проти Фрiдрiха Лiста/пер. з англ. К., 1998.