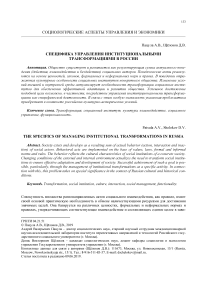Специфика управления институциональными трансформациями в России
Автор: Пацула Андрей Валерьевич, Щлоков Денис Викторович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики
Статья в выпуске: 5-1 (119), 2019 года.
Бесплатный доступ
Общество существует и развивается как результирующая сумма актуального поведения (действия, взаимодействия и бездействия) социальных акторов. Поведенческие акты реализуются на основе ценностей, законов, формальных и неформальных норм и правил. В поведении отражаются культурные особенности социальных институтов конкретного общества. Изменение условий внешней и внутренней среды актуализирует необходимость трансформации социальных институтов для обеспечения эффективной адаптации и развития общества. Успешное достижение подобной цели возможно, в частности, посредством управления институциональными трансформациями как специфической деятельности. В связи с этим особую значимость указанная проблематика приобретает в контексте российских культурно-исторических условий.
Трансформация, социальный институт, культура, взаимодействие, социальное управление, функциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/148320096
IDR: 148320096
Текст научной статьи Специфика управления институциональными трансформациями в России
Совокупность множества разнонаправленных актов социального взаимодействия, как правило, имеет своей основой практическую необходимость в обмене наличествующими ресурсами для достижения значимых целей. Она базируется на различных ценностях, формальных и неформальных нормах и правилах, упорядочивающих соответствующее взаимодействие и составляющих единое целое в зави-
ГРНТИ 04.21.51
Андрей Валерьевич Пацула – доктор социологических наук, старший научный сотрудник междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории института перспективных направлений и технологий Российского государственного социального университета (г. Москва).
Денис Викторович Щёлоков – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и психологии управления Государственного университета управления (г. Москва).
Статья поступила в редакцию 09.06.2019.
симости от сферы реализации контактов. Подобное образование является социальным институтом, детерминирующим поведенческие модели в конкретных областях социального взаимодействия и оказывающим существенное влияние на процессы взаимодействия в различных сферах общественных отношений.
Существенным аспектом эффективного функционирования рассматриваемых элементов социальной реальности является их соответствие условиям внешней и внутренней среды. Это предполагает их изменения в зависимости от требований конкретно-исторического момента. Такие процессы могут носить как эволюционный, так и революционный характер.
В первом случае происходит постепенная реализация целенаправленного плана, что выражается в равномерном расходовании наличествующих ресурсов с поэтапным совершенствованием различных элементов социальной системы. К таковым относятся и социальные институты. Соответствующие процессы репрезентируются постепенной корректировкой ценностей, законов, формальных и неформальных норм и правил повседневной жизни, регулирующих различные аспекты социального взаимодействия.
Во втором случае реализуется сценарий радикальных изменений в социальных институтах. При таком варианте развития событий происходят качественные изменения ценностей, формальных и неформальных норм и правил общественного поведения, что негативно отражается на стабильности действующих социальных институтов. Это происходит потому, что подавляющее большинство индивидов не успевает адаптироваться к новым внутренним условиям, которые не являются стабильными по причине интенсивного воздействия внешних факторов. Таким образом, актуализируется дополнительный аспект необходимости регулирования социальных трансформаций.
В контексте сложившихся внутренних и внешних условий успешность осуществления целенаправленных трансформаций зависит от учета специфики сложившихся культурно-исторических черт социума, поскольку на их фундаменте строятся наиболее значимые стороны успешного взаимодействия. В подобном контексте актуальными становятся стимулы и мотивы, которые выступают движущей силой для реализации различных социальных процессов. Иными словами, профилируется устойчивая взаимосвязь между всеми сферами человеческой жизни, влияющая на общую специфику трансформаций: корректировка элементов в одной области человеческого взаимодействия, как правило, влечет изменения в остальных областях. Вопрос заключается в том, насколько существенными будут подобные последствия и через какое время они проявятся в других областях.
Поясним наши выводы на конкретном примере. Первому канцлеру Германской империи, осуществившему план объединения Германии, генерал-фельдмаршалу и дипломату Отто фон Бисмарку принадлежат афористические мысли о России, в которой он проработал в ранге посла Пруссии три года, с 1859 по 1862 гг. Немецкому дипломату по воле случая удалось прикоснуться к разгадке тайны загадочной русской души. Будучи заядлым охотником [1, с. 527], однажды зимой, находясь в России, Бисмарк за умеренную плату нанял местного ямщика, но выразил сомнение, что его лошади могут ехать достаточно быстро. На что ямщик бодро и оптимистично воскликнул: «Ничего-ничего!», хлестнул коней и быстро помчался по разбитой дороге. Бисмарк заволновался: «Ты меня не выронишь?» «Ничего-ничего!» – ответил ямщик. Внезапно сани опрокинулись, посол Пруссии полетел в снег и разбил в кровь лицо. Побелев от злобы и боли Бисмарк поднял на ямщика трость. Но ямщик невозмутимо взял пригоршню снега и стал оттирать окровавленное лицо Бисмарка. Вытирал кровь и всё время приговаривал: «Ничего-ничего, барин… ничего!»
После этого происшествия Бисмарк заказал кольцо из той трости с надписью латинскими буквами: «Ничего-ничего!». В трудные минуты жизни он испытывал облегчение, произнося это русское слово. Когда «железного канцлера» Германии обвиняли в толерантном отношении к России, то он отвечал: «В Германии только я один говорю «ничего», а в России – весь народ» [2]. Анализируя содержание указанного словосочетания, мы приходим к выводу о том, что оно является своеобразной культурноисторической и социально-психологической установкой или мантрой (формулой) русских людей, имеющей резонансное, активирующее зоны сознания и тела, духовное и моральное воздействие.
Подкреплением нашего вывода может служить тезис русского философа, социолога и политолога Н.А. Бердяева, который, размышляя о судьбе России, в 1918 году опубликовал очерк «О власти пространства над русской душой», в котором написал: «От русской души необъятные русские пространства требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство без- опасности» [3, с. 67]. Таким образом, любой социальный институт сочетает в себе совокупность правил, которые позволяют соответствующему элементу эффективно выполнять изначально приписанные ему функции. В таком контексте социальная трансформация предполагает, что происходит качественное изменение правил и норм деятельности и взаимодействия в соответствии с реальными условиями внешнего окружения.
При изменении отдельных элементов поведения, в случае положительного результата, происходит закрепление обновленных норм и правил. Это позволяет социуму не только выживать, но и эффективно функционировать для достижения наиболее значимых для него целей. Вместе с тем, существуют факторы, в основном внутреннего генезиса, которые значительно тормозят развитие подобных процессов. Достаточно показательным примером, иллюстрирующим низкую динамику трансформационных процессов в социальной системе, нам представляется современная ситуация в России.
Сохраняющиеся у большинства граждан в значительной мере архаические модели восприятия мира, ставшие базисом реальных процессов взаимодействия, оказывают непосредственное влияние на реакции относительно сигналов внешней среды. Таковой является преобладающая терпимость россиян к ряду недавних управленческих шагов власти (увеличение пенсионного возраста, НДС, акцизов и др.) по причинам сложности оказания на нее реального влияния, утраты веры в социальную справедливость и гражданскую направленность принимаемых парламентом официальных законов.
Пассивность в сфере политической и социальной активности, а также отчуждение народа от власти и управления приводят к переключению внимания людей на личные и семейные проблемы в ущерб социальным и политическим. Негативное влияние на общественное сознание и поведение оказывает преобладание крайне отсталой экспортно-сырьевой модели организации отечественной экономики. Попытки властей развивать архаичный технологический уклад выступают тем деструктивным фактором, который не позволяет в должной мере раскрыться модернизационному потенциалу великой страны и фактически ставит ее на одну доску с государствами « третьего мира» (Нигерия, Сомали, Эфиопия, Мозамбик, Эритрея и др.), где консервация вековой отсталости стала институциональной нормой.
На вопросы о том, что мы строим, какую стратегическую цель ставим перед страной в настоящее время, в общественном мнении нет однозначного ответа. Сознание большинства людей отражает сложившуюся дихотомию представлений о социуме. С одной стороны, граждане убеждены, что исторически, учитывая опыт прошлого, Россия – великая держава, победившая Германию, Японию и их союзников во Второй мировой войне, оснащенная передовым ракетно-ядерным, лазерным и гиперзвуковым оружием, способная достойно ответить на внешние агрессивные угрозы и вызовы. С другой стороны, люди недовольны проведением пенсионной реформы, испытывают страх перед ростом реальной безработицы, возмущены хроническим снижением доходов, инфляцией, коррупцией, ростом преступности и загрязнением окружающей среды.
Социологи Левада-центра, десятилетия осуществляющие мониторинг общественного мнения в стране, после проведения макросоциологического опроса по репрезентативной выборке в РФ 17 января 2019 года, диагностируют, что «в отличие от чувства гордости, обращенного преимущественно в прошлое, чувство стыда сфокусировано на настоящем. Проблема бедности становится для населения всё актуальнее, а проблема межличностного недоверия в постсоветском обществе сохраняется» [4]. В связи с этим важно подчеркнуть, что нечто аналогичное наша страна уже испытывала в конце XIX – начале XX вв., когда в Российской империи наблюдался застой промышленности, сокращение стоимости произведенной валовой продукции, падение ценности рубля, резкое сокращение иностранных инвестиций в отечественную экономику, отток капиталов за рубеж, банкротство предприятий, недостаток ликвидности в банках, неплатежи по кредитам, рост корпоративного внешнего долга.
Явная перекличка современного состояния российской экономики и социально-психологического климата в стране с экономической ситуацией и общественными настроениями более чем столетней давности приводит ряд российских и зарубежных исследователей к выводу о частичном заимствовании или даже о попытке полной реставрации отсталой самодержавной модели руководства страной, характерной для николаевской России, отрицающей разделение властей, репрезентирующей режим «ручного управления», персонализацию и приватизацию власти, концентрацию политических и финансовых ресурсов в руках узкой группы лиц, силу личных связей, отношения вассалитета, корпоративные картельные сговоры и войны [5, с. 11-28; 6, с. 209; 7].
Другие исследователи, не соглашаясь с аргументацией сторонников гипотезы заимствования или реставрации, говорят о том, что причины кризиса социальной идентичности в России имеют более сложную и скрытую от невооруженного взгляда природу. Так, В.Э. Шляпентох обращает внимание на глубокий раскол в разных сферах общества – экономической, социальной, политической, идеологической, культурной и этнической – и заявляет о невозможности объективной спецификации указанного кризиса на основе применения интегративно-системного подхода [8, с. 35]. Для точной диагностики векторов трансформации макросоциальной идентичности названный автор предлагает метод сегментированного анализа, благодаря которому открывается возможность рассматривать общество и идентичность не в рамках единой системы или одной конкретной модели, а как «конгломерацию общественных сегментов – либерального, авторитарного / тоталитарного и феодального, – которые обладают определенной степенью влияния и независимости, меняющуюся с течением времени» [8, с. 36].
С.Г. Кордонский, опираясь на собственные статистические подсчеты (по его утверждению «в РФ начиная с 1991 года было примерно пятьдесят разного рода реформ, и ни одна из них не привела к планируемому результату» [9, с. 36]), заявляет о необходимости изучения скрытой войны сословий в современной России, поскольку «нет у нас теперь рабочих, крестьян и служащих, и начала формироваться классовая структура с соответствующим социальным расслоением: появились реально богатые и реально бедные. Причем в реально бедные попали привилегированные группы, сословия Советского Союза – военнослужащие, бюджетники, ученые, врачи» [10]. По мнению указанного исследователя, в России идет процесс возникновения смешанной сословно-классовой структуры общества, при этом «классы и сословия перестали быть только теоретическими конструктами и превратились в обыденные различения социальной практики, в саму реальность общественного устройства. Они существуют «объективно», но эта объективность воспроизводится только в деятельности классифицируемых людей, самой их жизнью, а не привносится извне. При этом понятия классовой стратификации закрепляются в обычае и обычном праве, в то время как понятия сословного устройства фиксируются в особых законах или традиции, имеющей силу закона» [11, с. 10].
Произошедшая резкая смена устоявшейся системы ценностей и норм в начале 90-х годов XX в. значительно скорректировала актуальные ранее цели деятельности как отдельных индивидов и групп, так и отечественного социума в целом. При отсутствии реальной замены это привело к возникновению кризиса идентичности, что выражалось в деградации элементов системы личностных ценностей и, как следствие, утрате самоидентификации. В подобных условиях наиболее естественной защитой является замещение нефункциональных элементов модели интерпретации реальных процессов архетипическими образцами. Это предполагает трактовку институциональных изменений в отечественном социуме как проявление воли вышестоящего индивида. Значимым отличием соответствующих интерпретаций в контексте российских реалий является приписывание благоприятных результатов исключительно верховному правителю. В то же время, все негативные последствия от принятия решений власть предержащими относятся субъектами отечественного социума к деятельности нижестоящих исполнителей.
Содержательным аспектом реализации социальных трансформаций, в подобных условиях, представляется коррекция социальных институтов в направлении устранения нефункциональных организационных барьеров, а также уменьшение сложности процессов взаимодействия между элементами социальной системы. Последнее предполагает упрощение правил контактирования настолько, чтобы для достижения значимой цели между элементами социальной системы осуществлялось как можно меньше промежуточных контактов.
Важным аспектом успешности реализации трансформаций, как в целом, так и в российских условиях, представляется их содержательное соотнесение с культурными особенностями и традициями организации общественной жизни. Это предполагает ориентацию указанных процессов в направлении реального увеличения благосостояния членов социума за счет планомерной организации системы государственного управления. Показателем успешности реализации подобной деятельности представляется рост производства и доходов населения, а также стабильности системы государственного законодательства. Последнее выражается в количестве или отсутствии поправок, вносимых в законы и подзаконные акты за некоторый промежуток времени. Сравнение указанных показателей за разные годы позволяет получить объективные данные относительно динамики указанного показателя. Значимым аспектом реализации управленческого воздействия на трансформационные процессы является также постепенность внедрения в реальные практики властного влияния посредством более тонких ситуативных форм.
При этом, важно подчеркнуть, что указанные процессы связаны не только с изменениями в социальной, политической и духовной сферах жизни общества, но и с появлением новых поколений техники, формированием сопряженных с этим актуальных экономических отношений. Иными словами, становление нового технологического уклада предполагает трансформацию используемых в реальных производственных процессах методов и технологий. Следствием этого является объективная необходимость овладения соответствующими практическими навыками индивидами, занятыми в реальном производственном процессе.
При такой ситуации возможны два варианта развития событий. Первый предполагает обучение непосредственно на производстве что, однако, сопровождается отвлечением специалистов от реального производственного процесса. Следствием этого представляется снижение объемов и качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Решением проблемы является либо ликвидация программ обучения, либо выделение данной функции в отдельную сферу деятельности организации, что сопровождается увеличением штата сотрудников и затрат на его содержание. Вместе с тем, возможен и второй вариант. Он включает в себя создание новых образовательных стандартов и программ в рамках соответствующих социальных институтов.
Важным является и то, что подобные нововведения затрагивают как тех, кто занят непосредственно на производстве, так и управленцев, регулирующих внутрисистемные процессы. Первых – потому что трансформируются, то есть качественно изменяются, технологические аспекты. Вторых – по причине изменения отношений на производстве, уменьшения времени создания единицы продукции при увеличении ее качества (что предполагает повышение требований к работнику и оборудованию, а также трансформацию других схожих элементов производственного процесса).
Результатом развития указанных явлений становится появление товаров и услуг нового качества, что способствует существенному повышению уровня бытовых условий. Это послужит базой для формирования у социума новых запросов, предполагающих расширение товарного ряда и повышение качества уже имеющейся продукции. Следствием этого будет улучшение отношения, как к верховной власти, так и между отдельными индивидами. Наиболее ярким примером из отечественной истории, иллюстрирующим подобные процессы, является начальный период времени правления Л.И. Брежнева. Важно подчеркнуть, что процессы изменений касаются не только материального, но и духовного производства. Это положительно сказывается на культуре социума в целом, поскольку происходит положительная трансформация норм и правил взаимодействия, реализуемых в обществе.
В настоящее время правомерно констатировать, что, несмотря на все предпринимаемые меры по совершенствованию системы управления в России, а также выстраивание властной вертикали, регулирование социальных процессов происходит в «ручном режиме». Это предполагает непосредственное участие руководителей высокого ранга в функционировании управленческого механизма на более низких уровнях социальной иерархии. Значительной проблемой также является и то, что подобная дисфункциональная практика многократно повторяется не только на федеральном уровне министерств и ведомств, но также и на региональном и местном уровнях в контексте взаимодействия руководителей соответствующего ранга и чиновников – исполнителей. Негативным аспектом данных процессов является и то, что, повторяясь многократно на различных уровнях социального взаимодействия, они становятся привычными и приобретают форму постоянных рутинных практик.
Оптимальным выходом из подобной ситуации, на наш взгляд, является внедрение практики назначения (и ротации) на руководящие должности таких людей, которые будут работать не за страх, а на совесть. Реализация такой управленческой модели предполагает наличие четко обозначенной и ненавязчиво прививаемой государственной идеологии «государство и человек – социальные партнеры». Это предполагает наличие взаимной ответственности между участниками взаимодействия, а ее базисом становится ситуация равновесия. Она заключается в том, что при некотором состоянии социальной системы элементам, взаимодействующим в ее рамках, становится невыгодно его нарушать по причине высокой цены издержек, возникающих при корректировке баланса сил.
Таким образом, несмотря на наличие общих черт у трансформационных процессов, в российском социуме наличествуют и специфические процессы. Они отражают культурно-исторические особенности организации общественной жизни, которые репрезентируют самобытность мировосприятия кон- кретным социумом окружающей реальности. Они сформировались под влиянием внешних факторов и общности интересов у разных субъектов, распределенных на определенной географической территории. Это актуализирует значимость учета культуры и истории как элементов, детерминирующих специфику управленческих процессов в контексте регулирования институциональных трансформаций. Постепенное воздействие на мировоззрение социальных акторов, его актуализация в контексте наличествующей социально-экономической и культурно-исторической ситуации позволит задействовать те аспекты модели мировосприятия граждан России, которые представляются наиболее функциональными и перспективными.
Список литературы Специфика управления институциональными трансформациями в России
- Так говорил Бисмарк. М.: АСТ, 2014.
- Щербина Э. Бисмарк и русское «ничего». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://polzam.ru/index. php/istorii/item/955-bismark-i-russkoe-nichego (дата обращения 30.04.2019).
- БердяевН.А. О власти пространства над русской душой / В кн.: Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Сов. писатель, 1990.
- Две трети россиян устыдились развала СССР и «вечной» бедности в стране. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.levada.ru/2019/01/17/dve-treti-rossiyan-ustydilis-razvala-sssr-i-vechnoj-bednosti-v-strane (дата обращения 02.05.2019).
- Данилов В. П. Падение советского общества: коллапс, институциональный кризис или термидорианский переворот? // Куда идет Россия? Кризис институциональных систем: век, десятилетие, год: шестой межд. сим-поз., 15-16 янв. 1999 г. М.: Логос, 1999.