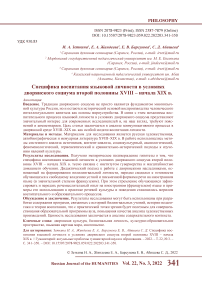Специфика воспитания языковой личности в условиях дворянского социума второй половины XVIII - начала XIX в
Автор: Зеткина Ирина Александровна, Жиндеева Елена Александровна, Барсукова Елена Викторовна, Абишева Сауле Джунусовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Традиции дворянского социума не просто являются фундаментом многоязычной культуры России, но и остаются исторической основой воспроизводства человеческого интеллектуального капитала как основы мироустройства. В связи с этим механизмы воспитательного процесса языковой личности в условиях дворянского социума представляют значительный интерес для современных исследователей и, на наш взгляд, требуют пояснений и комментариев. Цель статьи заключается в анализе коммуникативного процесса в дворянской среде XVIII-XIX вв. как особой модели воспитания личности. Материалы и методы. Материалом для исследования является русская художественная, автобиографическая и мемуарная литература XVIII-XIX в. В работе использовались методы системного анализа источников, контент-анализа, социокультурный, аксиологический, феноменологический, герменевтический и сравнительно-исторический подходы к изучению явлений культуры. Результаты исследования. Получено эмпирическое подтверждение гипотезы о том, что специфика воспитания языковой личности в условиях дворянского социума второй половины XVIII - начала XIX в. тесно связана с институтом гувернерства и масштабностью домашнего обучения. Дидактический подход к работе с дворянскими наследниками, основанный на формировании полилингвальной личности, нередко сводился к готовности обучающихся к свободному владению устной и письменной формами речи на иностранном языке (в значительной степени французском). При этом стремление обучающихся зафиксировать и передать речемыслительный опыт на иностранном (французском) языке и примеры его использования в практике речевой культуры и поведения становились мерилом воспитательного и образовательного процессов. Обсуждение и заключение. Результаты исследования могут быть использованы при разработке содержания программ, связанных с историей билингвальных учений, истории педагогики и теории воспитания, что с практической точки зрения будет полезным для совершенствования образовательной программы вуза, повышения качества анализа художественных произведений. Ценность исследования заключается в анализе содержательного контекста.
Дворянская культура, билингвальная личность, культурно-образовательное пространство, языковая картина мира, многоязычие
Короткий адрес: https://sciup.org/147238921
IDR: 147238921 | УДК: 930.85 | DOI: 10.15507/2078-9823.059.022.202203.341-350
Текст научной статьи Специфика воспитания языковой личности в условиях дворянского социума второй половины XVIII - начала XIX в
В настоящее время процессы глобализации спровоцировали рост речевой активности, что в свою очередь детерминировало научный интерес к проблеме воспитания языковой личности. Учитывая, что категория «языковая личность», наряду «с психологическими характеристиками и определенным набором языковых средств и приемов, включает и исторически определенный образ жизни» [10, с. 66], по нашему мнению, сегодня возникла настоятельная необходимость проследить влияние дворянского социума второй половины XVIII – начала XIX в. на формирование языковой картины мира. Угроза внедрения постепенного иноязычая (англоязычия) в современное культурное пространство России имеет прямые отсылки к сложившейся в обозначенный период языковой ситуации в стране. К тому же анализ триединства – язык, культура, языковая личность – дает возможность выявить динамику ценностных ориентаций личности в историческом хронотопе, вскрыть механизмы преодоления современного кризиса духовности и обретения нравственного стержня, который позволяет последовательно преодолеть «жестокий разрыв настоящего с прошлым», при котором «все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого» [20, р. 211].
Если учесть, что в XVIII–XIX вв. русское дворянство определяло основной вектор культурного развития страны, «великую русскую культуру», по выражению Ю. М. Лотмана [9], то описание формирования языкового самовыражения личности способно послужить неким индикатором развития социума, системой ценностного измерения нравственных идеалов и уровня претензий личности на образованность. При этом сословное самосознание периода определялось категориями личного достоинства, чести, общественной значимости личности, что в свою очередь требовало просвещенности и умения идентифицировать себя как гражданина.
Просвещенность и образованность воспринимались общественным сознанием постпетровской России как производная от европейской культуры, что делало знание языков ярким маркером сословной принадлежности. Знание иностранного языка вошло в перечень обязательных характеристик дворянской культурной идентичности, закрепив тем самым билингвальную сущность общения и востребованность двуязычия как отличительной сословной черты.
Воспитание языковой личности (билинг-вальной или мультилингвальной) в обозначенный период стало обязательной задачей семьи в условиях превалирования домашнего образования в XVIII в. и домашней подготовки к вступительным испытаниям в учебные заведения в XIX в. Традиции дворянского социума, хорошо известные и описанные в значительном количестве источников, не просто являются фундаментом многоязычной культуры России, но и нацелены на постоянное воспроизводство человеческого капитала как основы мироустройства и стабильности. В связи с этим механизмы воспитательного процесса языковой личности представляют значительный интерес для современных исследователей и, на наш взгляд, требуют пояснений и комментариев. Таким образом, основной целью нашего исследования считаем описание коммуникативного процесса в дворянском социуме в XVIII–XIX вв. как особой среды воспитания личности образованного российского гражданина.
Обзор литературы
В работе над статьей использовались труды российских и зарубежных исследователей социальной истории, философии и истории культуры и сословной истории дворянства: А. В. Беловой [2], Д. С. Лихачева [8], Ю. М. Лотмана [9] и др. В диссертации Е. В. Барсуковой языковая культура личности стала объектом специального исследования [1]. Авторы учитывали выводы исследований лингводидактики о динамическом понимании языковой личности в коммуникативном подходе (работы Н. Х. Хорнбергер, С. Мойранд и др.) [21; 22].
Материалы и методы
Материалом для исследования (источниковой базой) стала русская художественная, главным образом автобиографическая, и мемуарная литература XVIII–XIX вв. В изучаемый период эпистолярный жанр переживал время наибольшей популярности как в Европе, так и в России. В результате сложилось самостоятельное литературное ответвление, которое в литературоведении сегодня определяется термином «нон-фикшен»: дорожные записки; письма путешественников; романы в письмах; автобиографии; дневники – что, собственно, и является объектом нашего исследования.
Современная гносеология позволяет привлекать эти сложные в анализе источники, используя их субъективный характер в изучении разных сторон истории культуры и истории повседневности.
В работе использовались методы, свойственные междисциплинарному исследованию: системного анализа источников, контент-анализа, социокультурный, аксиологический, феноменологический, герменевтический, функциональный, сравнительно-исторический, сравнительно-переводной и текстологический подходы к изучению явлений культуры.
Результаты
Личность как субъект культуры того или иного общества живет по определенным правилам и традициям, включенным в социокультурный опыт среды, который вырабатывает идеалы воспитания и управляет развитием человека. В этом отношении языковая ситуация в России XVIII–XIX вв. – явление уникальное, требующее пристального внимания и описания коммуникативного опыта.
Общеизвестно, что в начале XVIII в. аристократия при русском дворе говорила на голландском, немецком, реже английском языках. Во второй половине века в дворцовом этикете установилось знание французского языка. В екатерининскую эпоху французский язык подчеркивал близость двора передовым идеям Просвещения и одновременно позволял дистанцироваться от немецкого (Ангальт-Цербстского) происхождения императрицы.
Как замечал П. Лафарг, «в Европе Франция была единственной большой страной, где дворянство создало обширный двор, свою культуру и достигло галантности и изящества, которыми восхищалась и которым подражала аристократия многих государств Европы, в том числе и России» [7, с. 32]. Началась новая эпоха мультилингвизма дворянства в России. Национальный русский язык оказался в ситуации диалогической сопоставленности с французским как универсальным языком европейской дипломатии и европейской образованности.
Во второй половине XVIII в. знание или незнание иностранного языка во многом стратифицировало не только дворянство, но и аристократию. Е. Р. Дашкова (урожденная Воронцова) получила блестящее, согласно взглядам того времени, европейское образование, обязательной частью которого были языки: французский, итальянский, немецкий и один из древних [4, с. 38]. Выйдя замуж, Екатерина Романовна оказалась в большом затруднении: она плохо говорила по-русски, а ее свекровь совсем не знала иностранных языков [4, с. 42]. Описанный опыт был не единичен, но по-своему уникален. Ведь именно Е. Р. Дашкова как директор Санкт-Петербургской академии наук и председатель Российской академии станет вдохновителем и соавтором первого толкового словаря русского языка.
В аристократической среде второй половины XVIII в. незнание иностранного языка могло не вызвать коммуникативных проблем только в условиях усадебного изолированного быта. Политика просвещенного абсолютизма, проводимая Екатериной Великой, сформировала определенный культурный ценз к дворянству как к «главному сословию» страны. Создание «новой породы людей», которая обеспечит государству передовой тип развития, предполагало создание надежного культурного фундамента, отличающегося широким кру- гозором, что априори требовало знакомства с иноязычной европейской культурой, а следовательно, знания европейских языков.
При этом наблюдались избирательность и приоритетность в выборе иностранного языка: знание немецкого языка или латыни мерилом принадлежности к дворянству не являлось. В воспоминаниях Д. И. Фонвизина предстает весьма показательная сцена: «Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного г-на, которому физиономия моя понравилась; но как скоро он меня спросил, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять… Тут узнал я, сколько нужен молодому человеку французский язык, и для того твердо предпринял и начал учиться оному, а между тем продолжал латинский, на коем слушал логику у профессора Шадена… Знание мое в латинском языке пособило мне весьма к обучению французского» [19, с. 255].
Знание французского языка и в первой половине XIX в. определяло, по замечанию Л. Н. Толстого, деление на людей comme il faut (благовоспитанных) и на comme il ne faut pas (неблаговоспитанных), где comme il faut в «отличном французском языке» [15, с. 140]. В произведениях другого русского классика представлен взгляд общества на достойное или недостаточное воспитание и образованность в зависимости от владения французским языком. «Сергей Петрович [Гедеоновский] воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит, но он, воля ваша, приятный человек» [16, с. 125]. «Глафира завидовала брату; он так был образован, так хорошо говорил по-французски, с парижским выговором, а она едва умела сказать “бонжур” да “ко-ман ву порте ву?” Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого не было легче» [16, с. 145–146]. «Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски» [18, с. 179].
Закономерно, что одной из важнейших задач домашнего обучения обозначенного периода стало приобщение ребенка к французской языковой культуре. Проблема изучения французского языка в дворянских семьях столицы и провинции решалась через наем гувернеров и гувернанток. Задача обучить детей именно французскому языку сформировала традицию именовать домашних наставников как французов. В провинции их называли «мадам», «мамзель», «месье» независимо от национальной принадлежности. Так, воспитательницу дочери пушкинского помещика-англомана Григория Ивановича Муромского звали мадам мисс Жаксон.
По мнению Н. А. Бердяева, западная культура XVIII в. в России была «поверхностным барским заимствованием и подражанием» [3, с. 45]. В этой обстановке для претендента в гувернеры было достаточно всего лишь национальной принадлежности к чужой культуре. В России работали «достойные высокообразованные европейские учителя и воспитатели, принадлежащие порой к разорившимся фамилиям английской или французской аристократии» [6]. Но ситуация, когда в домах российского дворянства гувернерами становились иностранцы, бывшие на родине прачками, кучерами, парикмахерами, квартирмейстерами наполеоновской армии, кондитерами (вспомним, что именно о такой профессиональной карьере мечтал несостоявшийся гувернер Саши Шереметьева француз Дефорж из «Дубровского» А. С. Пушкина), сохранялась достаточно долго, что нашло отражение в художественной литературе.
Подобные учителя формировали определенный лексический и фонетический строй языка у воспитанников, что в значительной степени сказывалось на развитии культуры дворянского общения.
В идеале целью работы гувернеров было развитие у обучаемых черт вторичной языковой личности, позволяющей человеку понять и принять новую для него культуру. Иными словами, рассматриваемый период развития русскоязычной культуры обучения иностранным языкам был направлен на приобщение обучаемых к концептуальной системе «чужого» лингвосоциума. Однако именно бонны (няни-иностранки для детей до четырех лет) и гувернантки решали не только проблему знания французского языка, но и проблему многоязычия, прежде всего через раннее функциональное вхождение в иноязычную культуру посредством постоянного общения на языке носителя.
Источники фиксированной письменноустной речи эпохи свидетельствуют о том, что речемыслительная деятельность образованных представителей общества предельно разнообразна в языковом отношении, т. е. полилингвистична, как это было в случае Е. Р. Дашковой, которая в равной степени свободно владела русским, итальянским, французским, английским языками и свободно смешивала их в отдельных фразах [4, с. 296].
Мультилингвальность была механизмом вхождения в европейское культурное пространство в условиях развивающейся коммуникации. С другой стороны, полилинг-вальность уже в начале XIX в. стала «одной из нитей, связующих семейные культурные традиции» [2, с. 69]. Дворянская семья периода являла собой форму плотного культурно-языкового взаимодействия ее членов, где в зависимости от различных обстоятельств могли функционировать разные языки. Для формирования и развития билингвальной (мультилингвальной) личности семья создавала базу постоянного функционирования иноязычной речи, актуализировала изучение языка или языков через зримую предметную потребность. Культивирование иностранной речи в быту создавало естественную иноречевую коммуникацию, формирующую ядро лингвоязычной личности.
Культурное пространство семьи создавало условия для изучения языков через взаимодействие с текстом. В специфических условиях домашнего воспитания в семье, помимо родителей и гувернеров, воспитателями молодых дворян были книги, склонность к чтению и литературе. Интерес к книгам, преобразующая роль которых в культуре России XVIII–XIX вв. неоспорима, и, как следствие, стремление к чтению знаменуют выход на самообразование, самовоспитание, самоактуализацию.
Чтение книг на языке оригинала определялось как отсутствие богатой антологии беллетристической и научной литературы на русском языке в конце XVIII – начале XIX в., так и стремлением приобщиться без посредников к образцам европейской литературы в XIX столетии.
В домашних библиотеках русского дворянства в начале XIX в. были главным образом произведения французских авторов «от Монтескьё до романов Кребильона» [11, с. 152; 14, с. 117]. Обязательными в «хорошо составленных библиотеках» были «произведения Расина, Корнеля, Буало и других французских писателей»1. А. С. Пушкин объяснял это молодостью русской словесности [14, с. 117].
Указывая на значение иностранного языка в формировании культурно-исторического и воспитательного пространства русского дворянства, необходимо констатировать и важность интереса к родному языку. Д. С. Лихачев отмечал, что «двуязычие никогда не мешало своему языку. Пушкин был двуязычным. В лицее у него было прозвище Пушкин-француз. Думаю, что превосходное чувство русского языка, точность и правильность языка Пушкина неразрывно связаны с его двуязычием. Он видел словесный мир “в цвете”» [8].
«Многоцветие» восприятия родного языка при знании других языков определяет дворянскую языковую личность и обогащает ее культурную индивидуальность. Параллельное изучение иностранных и русского языка было весьма распространенной практикой периода. В автобиографической записке А. Р. Воронцова, датированной 1805 г., читаем: «Я должен сказать, что воспитание (образование), которое нам дали, <…> имело многие хорошие стороны. Главное его достоинство заключалось в том, что в то время мы не пренебрегали изучением русского языка»2. Русский посол в Англии С. Р. Воронцов писал о занятиях сына: «Миша ежедневно переводит с английского на русский так же, как и с французского. Он изучает правила нашего языка по грамматике Ломоносова и читает церковные книги, чтобы выучить славянский язык – так необходимый для знания нашего языка, который от него происходит»3.
Вместе с тем в первой половине XIX в. в языковой картине мира российского дворянства родной язык занимал периферическую позицию. Дворянство, владевшее одним или нескольким иностранными языками, легко пренебрегало русским языком в культурной жизни и повседневном общении. «...Я признаю язык российский, язык указов и постановлений правительственных; я дорожу его чистотою! <...> Но русский, так сказать, ежедневный язык . разве он существует?» [17, с. 199].
Лишение русского языка его «бытовизма» порождало отчуждение от всего русского. «Можно сказать, что Россия – это единственная страна, где пренебрегают изучением своего родного языка и всего того, что касается страны, в которой родились. Люди, слывущие просвещенными в Петербурге и Москве, заботятся об обучении своих детей французскому языку, окружают их иностранцами <…> и не обучают их родному языку, так что <…> это ведет к полному незнанию своей страны, к безразличию <…> и к привязанности к нравам заморских стран, главным образом, к Франции»4. «. Мне сдается, - замечал М. Н. Загоскин, – что и Наполеон-та не затеял бы к нам идти, если б не думал, что его примут с хлебом да с солью. Ну, а как ему этого не подумать, когда первые люди в России, родовые дворяне, только что, прости Господи! не молятся по-французски» [5, с. 88].
Типично, что героиня А. С. Пушкина, «русская душою» Татьяна Ларина, пишет свое письмо по французски: «Она по-русски плохо знала, / Журналов наших не читала / И выражалася с трудом / На языке своем родном, / Итак писала по-французски» [12, с. 233–234].
А. С. Пушкин объяснял ситуацию влиянием иностранных книг: «Все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке. <…> …И леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны» [13, с. 21]. Как следствие, в сложившихся условиях двуязычия особую нишу занимает письменная форма речи. Переписка, ведение дневников, сочинительство с ранних лет требовали твердого знания языков, а его избирательность в качестве транслятора идей и устремлений самовыражения в значительной степени зависела от личностного подхода и нередко была дифференцирована адресантом.
Обсуждение и заключение
Итак, языковая личность, причастная к дворянской культуре XVIII–XIX вв., в идеале должна была свободно владеть русским и иностранными языками на уровне активного и творческого пользователя, тем самым подтверждая постулат о серьезной образовательной подготовке представителя описываемого социума. По сути, русское дворянство было носителем культурного русско-французского двуязычия: определенные сферы русской культуры обслуживались французским языком, который в общественно-языковой практике российского дворянства занимал особое положение. Закономерно, что коммуникативное умение служило критерием принадлежности к сословию.
Одновременно с этим специфика воспитания языковой личности в условиях дворянского социума второй половины XVIII – начала XIX в. тесно связана с институтом гувернерства и масштабностью домашнего воспитания. Дидактический подход к работе с дворянскими наследниками, основанный на формировании полилингвальной личности, нередко сводился к готовности обучающихся к свободному владению устной и письменной формами речи на иностранном языке (в значительной степени французском). При этом стремление обучающихся зафиксировать и передать речемыслительный опыт на иностранном (французском) языке и примеры его использования в практике речевой культуры и поведения становились мерилом воспитательного и образовательного процессов.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке содержания программ, связанных с историей культуры и историей российской повседневности.
Список литературы Специфика воспитания языковой личности в условиях дворянского социума второй половины XVIII - начала XIX в
- Барсукова Е. В. Языковая личность как категория исторической культурологии (на материале «Архива князя Воронцова»): автореф. дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. - М., 2007. - 22 с.
- Белова А. В. Домашнее воспитание дворянок в первой половине XIX в. // Педагогика. -2001. - № 10. - С. 69-74.
- Бердяев Н. Русская идея. - СПб.: Азбука-классика, 2008. - 318 с.
- Дашкова Е. Р. Записки. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 493 с.
- ЗагоскинМ. Н. Рославлев, или Русские в 1812 году. - М.: Гос. изд-во худож. лит., 1955. - 504 с.
- Зеткина И. А., Николаева Е. А. Новые профессии в зеркале истории и литературы. - Саранск, 2008. - 187 с.
- Лафарг П. Язык и революция (Очерки происхождения современной буржуазии). - М.; Л.: Академия, 1930. - 98 с.
- Лихачев Д. С. О языке устном и письменном, старом и новом. - URL: https://lihachev.ru>pic/ site/files/fulltext/russ.. .23.pdf.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. - URL: https://nsportal.ru/sites/default/ files/2017/04/01/lotman_yu._besedy_o_russkoy_kulture.pdf.
- Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусств. - М.: АСТ, 2003. - 270 с.
- Пушкин А. С. Дубровский // Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. - М., 1987. - Т. 3. - C. 126-190.
- Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. - М., 1986. - Т. 2. -С. 186-353.
- Пушкин А. С. О причинах, замедливших ход нашей словесности // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 9 т. - М., 1937. - Т. 2. - 617 с.
- Пушкин А. С. Рославлев // Пушкин А. С. Сочинения: в 3 т. - М., 1987. - Т. 3. - С. 116-125.
- Толстой Л. Н. Юность. - М.: Сов. Россия, 1983. - 220 с.
- Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. - Пермь: Перм. кн. изд-во, 1972. - 625 с.
- Тургенев И. С. Дым. Новь. Вешние воды. Стихотворения в прозе. - М.: Худож. лит., 1981. -608 с.
- Тургенев И. С. Записки охотника. Повести и рассказы. - М.: Худож. лит., 1979. - 607 с.
- Фонвизин Д. И. Избранное. - М.: Сов. Россия, 1983. - 335 с.
- Germain C. Evolution de l'enseignement des langues: 5000 ans d'histoire. - Paris: CLE International, 1993. - 351 p.
- McKlay S. L., Hornberger N. H. Sociolinguistics and Language Teaching. - Cambridge University Press, 1996. - 483 p.
- Moirand S. Enseigner à communiquer en langue étrangère. - Paris: Hachette, 1982. - 227 p.