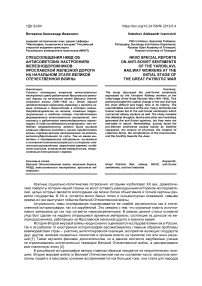Спецсообщения НКВД об антисоветских настроениях железнодорожников Ярославской железной дороги на начальном этапе Великой Отечественной войны
Автор: Ветерков Александр Иванович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам антисоветских настроений среди работников Ярославской железной дороги на начальном этапе Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). Этот период предшествовал коренному перелому и являлся самым сложным и трагическим в истории войны. Непредсказуемость ее итогов, тяжелые территориальные и людские потери способствовали формированию антисоветских настроений, что касалось и работников железнодорожного транспорта. В ходе исследования установлено, что подобная направленность мнений была вызвана главным образом голодом и иными трудностями войны, пораженческими настроениями, не являясь антигосударственной по сути. Тем не менее выявлены и прогерманские настроения, вызванные в основном политикой репрессий со стороны сталинского руководства, закрытием церквей, созданием колхозов, всевластием коммунистов, неприязненным отношением к евреям.
Великая отечественная война, железная дорога, нквд, антисоветские настроения, архивные материалы
Короткий адрес: https://sciup.org/149133994
IDR: 149133994 | УДК: 93/94 | DOI: 10.24158/fik.2019.6.4
Текст научной статьи Спецсообщения НКВД об антисоветских настроениях железнодорожников Ярославской железной дороги на начальном этапе Великой Отечественной войны
ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Крупные социально-политические потрясения, которыми изобиловал XX век, драматические повороты истории нашей страны не могут оставить равнодушными историков-исследователей, целью которых является воссоздание как можно более объективной и полной картины развития государства. В XX в. остается много белых пятен и конъюнктурных искажений, самыми яркими из них выступают события Великой Отечественной войны.
Актуальность темы исследования подчеркивается ее слабой изученностью как в отечественной историографии, так и в зарубежной. Это связано с тем, что огромные пласты источни-кового материала до сих пор остаются нерассекреченными. В рамках данной статьи основной упор был сделан на недавно открывшиеся архивные материалы, состоящие из доносов на железнодорожников, работавших на Ярославской железной дороге в военное время.
История Второй мировой войны неоднозначно оценивается исследователями как в России, так и за рубежом. В иностранной историографии рассматривались главным образом проблемы взаимодействия стран – участниц антигитлеровской коалиции, восприятия воюющих государств друг другом, влияния конкретных личностей и органов власти на принятие тех или иных решений [1]. Также изучался феномен доносительства, но в данном контексте зарубежные ученые не ограничивались исключительно периодом Великой Отечественной войны, а рассматривали всю сталинскую эпоху [2].
В российской историографии авторы главным образом находятся на патриотических позициях. Вторая мировая война (и Великая Отечественная как ее составная часть) затронула миллионы людей и в массовом сознании воспринимается как большое горе, она стала для народов
СССР поистине отечественной. Однако, как утверждает А.В. Окороков, специалист по изучению антисоветских воинских формирований в военные годы, «ни в одной стране, подвергшейся германскому нашествию, не нашлось столь значительного количества людей, надевших форму вражеской армии и в той или иной степени принявших участие в войне фактически против собственного государства и его союзников» [3].
Помимо открытого перехода на сторону коалиции враждебных воюющих государств, значительная доля советских граждан выражала антисоветские взгляды в годы войны. Наша задача заключалась в выявлении мотивов людей, высказывавших подобные суждения, на основании доступных архивных материалов.
Уже в первые дни войны на партийных заседаниях в разных организациях принимались следующие решения: «партийному активу и рядовым коммунистам сообщать секретарям парторганизаций о политических настроениях работников» [4]. Особенно тщательно требовалось выявлять распространение среди коммунистов слухов контрреволюционной направленности.
Война усилила бдительность советских граждан. Однако увеличилось и количество доносов на друзей, коллег, родственников. Именно эти доносы, объединенные в спецсообщения о политических взглядах железнодорожников, послужили важным историческим материалом, позволяющим судить об антисоветских настроениях на железной дороге. Парадоксом того времени был высокий уровень свободомыслия. Люди доверяли собеседникам, которые являлись информаторами НКВД. При этом доверие возникало лишь внутри тесного круга общения, особенно в условиях тотального контроля власти над гражданами.
Проводя исследовательскую работу над архивным материалом, мы пришли к выводу, что антисоветские настроения на Ярославской железной дороге на начальном этапе Великой Отечественной войны можно классифицировать на две большие группы. Первой, наиболее многочисленной, следует считать проявления недовольства бытовой неустроенностью, вызванной военным лихолетьем, в частности голодом. Ко второй группе относятся мнения, обусловленные иными социально-бытовыми проблемами.
Голод стал тяжелейшим испытанием для всей страны. На сельскохозяйственной отрасли лежала ответственность за снабжение фронта и городов продовольствием. Однако острый дефицит трудовых ресурсов и вывод из оборота крупнейших сельскохозяйственных предприятий не могли способствовать решению проблемы. По данным отечественных специалистов, «на оккупированной территории проживало около 40 % населения и производилась значительная часть сельскохозяйственной продукции» [5, с. 13].
Тема голода, дефицита продовольствия являлась основной и самой острой. Ее поднимали дежурные по станциям, учителя железнодорожных школ, стрелочники, инженеры, экспедиторы и другие работники железной дороги и смежных с этой стратегической отраслью предприятий. В спецдонесениях НКВД прослеживается человеческая трагедия военного времени: 30 ноября 1942 г., дежурный по станции Рыбинск-товарная Б.Н. Казнин: «немного повоевали, а уже сколько людей умерло с голода и сейчас полуголодные живем»; 1 октября 1942 г., учитель железнодорожной школы К.К. Зенина: «падать скоро начнем. Ведь организм у людей до того истощен и напряжен, что дальше ехать некуда»; учитель той же школы К.С. Добротина: «до войны говорили, что у нас хлеба столько в запасе, что хватит на несколько лет... Очевидно, врали все!»; 15 октября 1942 г., старшая стрелочница станции Рыбинск-товарная Л.А. Ракшина: «все голодные, я только думаю, за что бойцы воюют на фронте» [6].
Накануне годовщины главного праздника Советской страны, 6 ноября 1942 г., экспедитор телеграфа управления дороги Леоненко в присутствии свидетелей воскликнул: «какой может быть праздник, когда жрать нечего!» Его поддержал работник восстановительного поезда Федосеенко: «да уж, какой тут праздник, когда нет ничего и карточки не отоварены» [7]. Ужасающе звучит реплика дежурного станции Струнино Лазарева от 1 марта 1942 г.: «в Ленинграде... на рынке появился студень, и когда стали интересоваться, из чего его делают, то оказалось, что вырывают у мертвых мягкие места и варят» [8].
Итак, большинство спецдонесений касались именно голода и дефицита продовольствия. Это неудивительно, поскольку голод перекрывал все остальные проблемы, связанные с хозяйственно-бытовой неустроенностью в годы войны. Часто фиксировались случаи голодных обмороков, однако о смертях от истощения на Ярославской железной дороге информации не выявлено.
Гораздо в меньшей степени представлены сведения об иных бытовых сложностях, которые мы объединили во вторую группу. Они касались проявлений антисоветских либо прогерманских настроений. Данную группу донесений можно также разделить на ряд подгрупп: первая основана на положительном отношении к немцам главным образом за счет лучшего снабжения, вторая состоит из профашистски настроенных людей, сознательно стоящих на антисоветских или антисемитских позициях.
Например, к первой подгруппе относится высказывание ремонтного рабочего 7 околотка 11 дистанции пути А.К. Василевской (по национальности польки, муж репрессирован): «немцы -культурные люди, они хорошо должны обращаться с населением. Я вот в первую [мировую] войну жила в Польше, и тогда у нас были немцы, то они очень хорошо кормили нас. Так что пусть приходят скорей немцы, а то жить тяжело... Если немцы победят, то бояться нечего, хуже не будет, а будет, наоборот, лучше, потому что немцы - люди культурные, обходительные и хорошо обращаются, а русские это не люди, а хамы» [9].
Примечательно мнение сторожа Колосова, высказанное 1 марта 1942 г.: «моя семья жила в захваченной немцами Калининской области 52 дня. Я узнал, что немцы не издевались над мирным населением, даже хлеб и другие продукты не отбирали до последнего, как наши пишут и сообщают по радио о грабежах, насилии над женщинами... Все это наши пропагандисты. У них у каждого с собой есть масло, вино, сигареты и другие продукты... Немцы хорошо вооружены, одеты и сыты, не так, как наши красноармейцы в недостатке. Немцев нечего бояться. Если вас заберут на фронт, то не будьте дураками, переходите на сторону врага. Они только отсылают всех в тыл на работу, кормят хорошо и платят своими деньгами. У кого было много продуктов, забирали и платили. У кого взяли овечку - заплатили 6 марок. Когда готовят обед, кушают вместе с колхозниками. В Калининской области немцы вместе с колхозниками обмолотили хлеб, часть зерна взяли себе, за что заплатили своими марками. Всем жителям давали по 0,5 кг хлеба, а у нас в Ленинграде которые находятся в окружении - кушают человек человека» [10].
Осмотрщик вагонов станции Лосиноостровская И.Н. Рыжков высказывался так: «я сам видел в сумках у убитых немецких солдат по одной банке консервов, колбасу, вино, хлеб и другие продукты, а у наших красноармейцев сухарь в сумке, а то и ничего» [11]. Бригадир паровозного депо Сонково С.И. Степанов 18 июня 1942 г. говорил следующее: «если бы у нас в СССР установилась немецкая власть, то за два года не узнал бы, какой зажиточной жизнью зажили наши рабочие и крестьяне» [12].
Рассматривая вторую подгруппу высказываний, можно отметить их ярко выраженную антисоветскую направленность. Она включает выступления против власти, лично против Сталина, а также суждения, отражающие антисемитские настроения. Проанализировав архивные материалы, мы пришли к выводу, что таковых было гораздо меньше.
Радикальное высказывание принадлежит машинисту станции Александров Короткову: «в газетах пишут, что немцы вешают коммунистов, комсомольцев, красноармейцев и из наших русских ставят старостами, которые помогают немцу в борьбе с коммунистами, выдавая ему таковых. Доведись и до меня - если немец займет Александров, то я тоже встречу немцев и буду помогать уничтожать коммунистов. Это сделает у нас каждый» [13]. Сторож станции Берендеево Н.И. Михайлов говорил о том, что «хорошо, советскую власть сшибут, и наша Россия будет разделена на две части - часть возьмет Америка, а часть Германия» [14]. Идеи против колхозов и антирелигиозной пропаганды развивал электромонтер завода № 50 Ярославля А.М. Дашкин: «у нас в колхозе уже ждут нового приказа от Англии и Америки и не только об открытии церквей, но и роспуске колхозов» [15].
Из антисемитских выступлений можно выделить следующее. 24 февраля 1942 г. осмотрщик вагонов станции Рыбинск по фамилии Козак (также указано, что он эвакуирован из Латвии) высказывался так: «у нас в Латвии все господа были, придешь к своему начальству, а он меня называет господин Козак, а у вас вся власть евреи, вот они и пьют нашу кровь. У вас не свобода, а хуже каторжного права. Ну, после войны евреи не будут пить нашу кровь. После войны этого не будет» [16].
Таким образом, можно сделать вывод, что в годы военного лихолетья большая часть антисоветских выступлений имела социально-бытовой характер, главным образом связанный с проблемой голода. Исходя из контекста, следует отметить, что большая часть донесений не имела антисоветского характера по сути. Обострение материально-бытовых трудностей, необходимость борьбы с врагом привели к изменению образа жизни, а вместе с ним и к трансформации осмысления окружающей действительности. Многие вопросы, которые не были актуальными к моменту начала войны, приняли острый характер. Душевное и физическое состояние тружеников железных дорог далеко не всегда находилось на высоком уровне. Нередкие обвинения как власти, так и непосредственных руководителей в нечистоплотности, обмане, отсутствии веры в победу наблюдались в высказываниях железнодорожников. В основном они квалифицировались как антисоветские, но в большей степени мы можем оценить их как жесты негодования и отчаяния.
В меньшей степени встречались и прогерманские настроения. Они носили главным образом политический характер и были нацелены на изменение политической системы и социальноэкономического развития страны, но не на уничтожение и порабощение народов Советского Союза. В целом анализ спецсообщений приводит к выводу о том, что в большей степени донесения
НКВД на Ярославской железной дороге касаются недовольства тяжестью военных лет и не могут квалифицироваться как антисоветские.
Ссылки:
наук. М., 2001. 479 с.
Ф. 3125. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
Список литературы Спецсообщения НКВД об антисоветских настроениях железнодорожников Ярославской железной дороги на начальном этапе Великой Отечественной войны
- Costigliola F. Archibald Clark Kerr, Averell Harriman, and the Fate of the Wartime Alliance // Journal of Transatlantic Studies. 2011. Vol. 9, no. 2. P. 83-96. DOI: 10.1080/14794012.2011.568161
- Costigliola F. Roosevelt's Lost Alliances: How Personal Politics Helped Start the Cold War. Princeton, 2012
- Kahn M. From Assured Defeat to the 'Riddle of Soviet Military Success': Anglo-American Government Assessments of Soviet War Potential 1941-1943 // The Journal of Slavic Military Studies. 2013. Vol. 26, no. 3. P. 462-489. DOI: 10.1080/13518046.2013.812488
- Wheeler M. Resistance From Abroad. Anglo-Soviet Efforts to Coordinate Yugoslav Resistance, 1941-1942 // Special Operations Executive: a New Instrument of War. L., 2006. P. 103-122.
- Rosefielde S. Stalinism in Post-Communist Perspective: New Evidence on Killing, Forced Labour and Economic Growth in the 1930s // Europe-Asia Studies. 1996. Vol. 46, iss. 6. P. 959-987. DOI: 10.1080/09668139608412393
- Rosefielde S. Documented Homicides and Excess Deaths: New Insights into the Scale of Killing in the USSR during the 1930s // Communist and Post-Communist Studies. 1997. Vol. 30, no. 3. P. 321-331.
- Окороков А.В. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2001. 479 с
- Центр документации новейшей истории Государственного архива Ярославской области (ЦДНИ ГАЯО). Ф. 3125. Оп. 1. Д. 4. Л. 2
- Просеков А.Ю. Ретроспективы голода: уроки прошлого и вызовы будущего // Техника и технология пищевых производств. 2017. Т. 47, № 4. С. 5-20.
- DOI: 10.21603/2074-9414-2017-4-5-20
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 8
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1419. Л. 24.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 21.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 3 об.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 13.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 15.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 36.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 12.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 5 об.
- ЦДНИ ГАЯО. Ф. 740. Оп. 1. Д. 420. Л. 7 об.