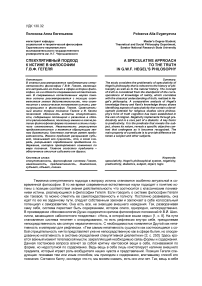Спекулятивный подход к истине в философии Г.В.Ф. Гегеля
Автор: Полозова Алла Евгеньевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика спекулятивности философии Г.В.Ф. Гегеля, являющаяся актуальной не только в сфере истории философии, но и в области современного естествознания. В современных естественных науках понятие истины рассматривается с позиции соответствия знания действительности, что соотносится с классическим пониманием истины, реализующимся в философии Гегеля. Сравнительный анализ теории познания Гегеля и И. Канта позволяет обозначить аспекты спекулятивности, содержащие потенциал к развитию в области религиоведения, поскольку именно в ключе религии философская форма познания истины получила становление. Негативность реализуется предикативностью и является образующим звеном диалектики. Ключевое значение имеет предикативность. Именно предикат раскрывает субъект, показывает его сущность, что, в свою очередь, раскрывает определенное предметное содержание, которое претерпевает изменения по мере познания. Главное свойство предиката - обеспечение отличия субъекта от других.
Спекулятивность, философская система гегеля, негативность, предикативность, диалектика, субъект, объект, логика
Короткий адрес: https://sciup.org/149134824
IDR: 149134824 | УДК: 130.32 | DOI: 10.24158/fik.2020.6.11
Текст научной статьи Спекулятивный подход к истине в философии Г.В.Ф. Гегеля
Тематика спекулятивного подхода к вопросу истины становится особенно актуальной в современной философии. В то же время современные естественные науки подходят к понятию истины с позиции соответствия знания действительности, что соотносится с классическим пониманием истины, реализующимся в философии Гегеля. Если говорить о системе философии Гегеля как таковой, то можно отметить ее самотождественность и полноту. Постоянно развиваясь, она идет по ею же заданному пути, следует собственным законам и заключает в себе колоссальный потенциал к саморазвитию. Она есть все, не знающее внешнего назидания. Так, разворачивая саму себя, система перестает быть содержанием, которое слепо, однородно, непосредственно. В произведении «Феноменология Духа» содержится критика философских положений Ф.В.Й. Шеллинга, касающихся «абсолютного тождества»: «Ночь, в которой все кошки серы» [1, c. 8]. На пути становления система тяготеет к опосредованию, то есть рефлексии внутри себя, преодолевая непосредственность как слепую неразличенность. С необходимостью появляется Другой как негативность и материал для рефлексии. «Тем самым негативность сущности как соотносящаяся с собой отрицательность ничто представляет уже не непосредственную как в сфере бытия, но опосредованную негативность в системе определений спекулятивной диалектики» [2, c. 250]. Здесь кроется важный момент гегелевской мысли, закрепляющий необходимую связь формы и содержания. Данная постановка вопроса влечет за собой критику кантовской вещи в себе, познаваемой по форме, но недоступной по содержанию. Ведь вещь в себе лишь констатирует наличие внешнего предмета, который играет роль возбудителя наших чувств и представлений. Позиция Гегеля следующая: познавая тем или иным способом, мы приходим к содержанию, впитавшему способ его познания. Согласно Канту, исследуя что-то, мы можем сказать, есть оно или нет. Так, вещь в себе с необходимостью существует, но никогда не раскроет своего содержания, поскольку человеческий разум здесь ограничен, свойства и характеристики – категории для дифференциации содержания, – увы, беспомощны в мире вещей в себе. Позиция Гегеля иная: способ и содержание взаимно влияют друг на друга, метод как инструмент поглощается содержанием как изделием, и потому познаваемое меняется по мере познавания. Отсюда проистекают два момента.
Во-первых, расставляет акценты над кантовской теорией познания, ибо нельзя доверять методу познания, который не ведет нас к содержанию как сущности вещи. Если метод не помогает нам приоткрыть завесу над вещью, не упрочивает нас от истины, тогда, согласно концепции Гегеля, данный метод ненадежен. Чистый разум не способен дотронуться до сферы божественного. В соответствии с концепцией Канта, спекуляции недостаточно для обоснования понятий о боге, свободе и бессмертии, которые могут быть рассмотрены лишь в практическом отношении. И идея боге, равно как идея о свободе и идея о бессмертии, служит отправной точкой для перехода в область трансцендентного. «По этой же причине кантовское трансцендентальное исследование не покидает границ человека и имеет своим полноправным партнером в деле познания антропологию» [3, c. 27].
Во-вторых, рушится постулат о неподвижной латентной субстанции как константе и постоянно меняющемся под эгидой ее законов субъекте. Контекст позволят нам усмотреть параллель философии Гегеля с философией Б. Спинозы, провозглашавшей единую субстанцию с производными модусами. «Система единых модификаций понятия есть мир» [4, c. 282]. С другой стороны, имеет место быть другой аспект, а именно стремление Гегеля придать спинозовской субстанции имманентное движение, традиционно принадлежащее как атрибут субъекту. Русский философ и богослов С. Булгаков в своей работе «Философия хозяйства» пишет: «Другими словами, не может быть единой философской системы, в которую верил Гегель вместе с другими идеалистами, смешивая абстрактность со всеобщностью и принимая систему наибольшей отвлеченности за систему наибольшей универсальности» [5, c. 63]. Таким образом, вопросы вызывает основание гегелевского панлогизма в целом. «Природа – живое выражение и образ разума» [6]. Наблюдается «живость», сущностная характеристика отнюдь не иллюзорного, поскольку речь идет не о наложении замерших статичных идей разума на внешний мир, а об имманентном изменении и развитии их в соответствии как субъекта, так и объекта. Субъект задает постоянный дискурс, делает субстанцию динамичной и этим сам обретает дискурсивность. «Философ имеет дело не только со статично-данным Бытием (Sein), или с Субстанцией, которые представляют собой Объект Дискурса, но также и с Субъектом Дискурса и философии: ему недостаточно говорить о Бытии, которое ему дано; он должен также говорить о самом себе и объяснить самого себя в качестве говорящего о Бытии и о себе» [7, с. 323].
Так нам открывается спекулятивный подход к поиску истины, то есть познанию. Данный подход не сосредотачивает внимание на объекте, поскольку лишает его статуса единоличного носителя истины. Чтобы определить область, в которой заключена истина, нужно внимательно отнестись к термину «спекулятивность» . В учении Гегеля спекулятивность носит характер иной, нежели тот, который рисует предшествующая философия. Безусловно, спекулятивность сродни мышлению. Однако какие требования Гегель предъявляет к тому самому мышлению? Если мышление – атрибутивное свойство субъекта, то оно попадает в позицию зависимости от субъекта, становится субъективным в том значении, которое роднит его с индивидуальным. Мышление есть свойство, то есть то, что делает проявленным субъективное наряду с волением, мечтанием, способностью к надежде. Гегель же не может допустить такого подхода к мышлению и потому определяет его как объективную сущность, первооснову мира, заключающую в себе логический контекст. Тем самым мышление становится свободным и развивается по собственным законам. Современному человеку такое представление дается с трудом, ведь любая попытка помыслить, выраженная в слове, закрепляется за говорящим и становится его визитной карточкой. В погоне за стремлением закрепостить свободную мысль мы создаем институты, оправдывающие наши эгоистичные интересы, – сделать мысль принадлежащей себе. Таким институтом выступает авторское право. Данный подход, хотя и заботится о субъекте мысли, выводя его на первый план, но саму мысль в наших глазах обедняет. Все чаще наше внимание приковано к говорящему, который в свою очередь охвачен не только потоком мысли, но и присущими человеческой природе слабостями. Излишняя прикованность к субъективным предпосылкам мысли – личным качествам говорящего, времени, месту и прочим обстоятельствам – не позволит нам пойти дальше ее предтечи. В отношении мира вещей позиция Гегеля соответствует вышесказанному. Если рассматривать вещи со стороны их полезности, то их самость будет утеряна, поскольку обращенная лишь к субъекту вещь есть бытие для Другого. Для достижения абсолютной свободы, раскрытия полного потенциала, необходимо возвращение вещи к себе.
Спекулятивное мышление на пути к своему становлению проходит три этапа: рассудочный [8], диалектический [9], спекулятивный [10].
Достигая предельной конкретности, мышление отождествляется с бытием, поскольку в данном контексте конкретность обретает бытийность. Но вместе с тем и бытие стремится вобрать субъективный аспект. Бытие так же, как и мышление, взаимно стремятся к тождеству. «Познание есть процесс преодоления того разрыва между субъектом и объектом, мышлением и бытием, который опосредует их переход на вторую стадию становления» [15, с. 538]. Таким образом, обретая характер субъективного и объективного, истина представляет собой единство субъекта и объекта, а способ достижения истины спекулятивный.
Так, Кант показал, что каждое понятие независимо, но может образовывать синтез с другими. Кантовская логика отличалась от формальной тем, что ее не интересовал объем суждений, ее интересовало, как образуются суждения. Согласно его учению, априорность есть принцип, имманентная закономерность. Это способность мыслить именно таким образом – абстрактно, даже если мы избавим мышление от категорий, то сам способ сохранится. Но сама эта всеобщая форма связи материала должна быть синтетической, соединяющей в единство разнородное, противоположное. Фактически Кант углубил водораздел мышления и бытия. Г.В.Ф. Гегель на поставленный его предшественником вопрос дал иной ответ. Истинное знание и высшие цели разума, в соответствии с его концептуальными взглядами, достигаются путем спекулятивного мышления, выраженного в триаде (тезис, антитезис, синтез). Так, на стадии синтеза мышление обретает предельную конкретность, что противоречит кантовскому стремлению приписать истине абстрактность. Конкретность как предельная полнота и завершенность. Классическая формула суждения «субъект + предикат» была рассмотрена Гегелем с новых позиций. Основной акцент был сделан на предикативность. Именно предикат раскрывает субъект, показывает его сущность. Без предиката субъекты будут неотличимы друг от друга. Следовательно, мы не сможем фиксировать их, связать с понятием. «Единство идеальной и материальной форм понятия образует природу идеи как единство противоположностей» [16, с. 39]. Здесь необходима негативность как момент наличия Другого. Через Другого сущность определяет себя, получает определенное содержание. «Негативность, по мысли Гегеля, проявляется в самом движении реальности, поэтому ничто из существующего не есть истинное в его наличной форме» [17, с. 34]. Обеспечиваемая предикативностью негативность – основа гегелевского метода – диалектики, которая, в свою очередь, и позволила формальной логике продвинуться в своем развитии. Гегель заставил застывшие логические формы двигаться на пути становления. Таким образом, Гегель не только предложил отличный кантовскому подход к истине, но саму истину представил иначе. Кроме того, что истина носит «одежду» конкретного, она носит характер не всеобщего, но тотального. Гегелю чужда кантовская всеобщность, запертая рамками мышления. Встать на позицию трансцендентального субъекта для Гегеля означает обратить философию в мистику, то есть учение о тайных сущностях. «Познание у Канта отвлеклось от внимания к предметам и, перестав заниматься ими, обратилось к самому себе к формальной стороне, отсюда «автократия субъективного разума», которая лишает всякой возможности признавать объективную истину» [18]. Истинное знание, коим, с точки зрения последнего, является философия, тотально. Кантовская дихотомия, полагающая, с одной стороны, явления, с другой, – мир сверхчувственный, была расценена Гегелем как предметность, восходящая на уровень всеобщего. Всеобщее достигается путем диалектики, объединяющей в гносеологии, как целом, противоположные стороны сущего: мир, явленный нам, и мир вещей в себе. Однако теория познания Канта охватывает лишь одну сторону сущего – внешнее содержание, положенное, как предметность. Сознание видит предмет, говорит о предмете, исследует его, оставаясь лишь методом, но не возвращается к себе. Согласно Гегелю, метод как процедура получения знания экстраполируется в само знание. «Я поставил себе целью, – писал Гегель в предисловии к «Феноменологии духа», – поработать над тем, чтобы философия приблизилась к форме науки, чтобы... она могла оставить свое имя любви к знанию и стать действительным знанием» [19]. Тогда как кантовская философия, стремящаяся к трансценденции, останавливается на полпути. «Кант утверждал, что сущность вещей не доступна нашему познанию, что оно ограничивается только явлениями» [20, с. 123]. Гегелевская имманентность движет систему к абсолютной са-мотождественной полноте. «Лишь в абсолютном знании полностью преодолевается разрыв между предметом и достоверностью самого себя, и истина стала равной этой достоверности, так же, как и эта достоверность стала равной истине» [21]. Самотождественность здесь не является выражением идентичности себя, ибо сознание примеряется с самосознанием.
Ссылки:
-
1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. В 14 т. Т. 4. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. М., 1959. 487 с.
-
2. Протопопов И.А. Понятие ничто и принцип негативности в гегелевском абсолютном идеализме : дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2014. 428 с.
-
3. Селиванов Ю.Р. Феноменология отчужденного духа. М., 2015. 504 с.
-
4. Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. Т. 1. Учение о Боге. М., 2002. 447 с.
-
5. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 2009. 464 с.
-
6. Ильин И.А. Указ соч. С. 207.
-
7. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М., 1998. 208 с.
-
8. Ильин И.А. Указ соч. С. 179.
-
9. Там же. С. 174.
-
10. Там же. С. 124.
-
11. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3 т. Т. 1. М., 1970. 501 с.
-
12. Там же. С. 206.
-
13. Гегель. Г.В.Ф. Сочинения… С. 76.
-
14. Гегель Г.В.Ф. Наука логики… С. 204.
-
15. Бочковой Д.А. Тождество философии и религии как высшая цель их становления // Политематический электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар, 2016. № 115. С. 534–582.
-
16. Черезов А.Е. Диалектическая логика Г. Гегеля // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. М., 2020. № 2 (34). С. 38–45.
-
17. Наумова Е.И. Проблема негативности в философии Гегеля // Вестник СПбГУ. СПб., 2011. № 1. С. 34–38.
-
18. Гегель Г.В.Ф. Наука логики… С. 20.
-
19. Гегель Г.В.Ф. Сочинения… С. 51.
-
20. Гогоцкий С.С. Обозрение системы философии Гегеля. М., 2016. 210 с.
-
21. Гегель Г.В.Ф. Наука логики… С. 202.
Редактор: Шейхетова Ирина Александровна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Спекулятивный подход к истине в философии Г.В.Ф. Гегеля
- Гегель Г.В.Ф. Сочинения. В 14 т. Т. 4. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. М., 1959. 487 с
- Протопопов И.А. Понятие ничто и принцип негативности в гегелевском абсолютном идеализме: дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2014. 428 с
- Селиванов Ю.Р. Феноменология отчужденного духа. М., 2015. 504 с
- Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. Т. 1. Учение о Боге. М., 2002. 447 с
- Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 2009. 464 с