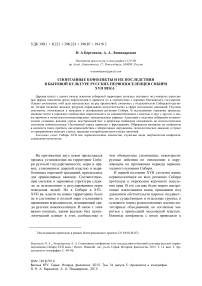Спонтанные конфликты и их последствия в бытовой культуре русских первопоселенцев Сибири XVII века
Автор: Березиков Николай Александрович, Люцидарская Анна Алексеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Царская власть с самого начала освоения сибирской территории пыталась поставить под контроль агрессивные формы поведения среди переселенцев и привести их в соответствие с нормами Московского государства. Однако достижение этой цели натолкнулось на ряд препятствий, связанных с отдаленностью Сибирского региона. Острая нехватка людских ресурсов оправдывала попустительство в сфере исполнения наказаний. Изучены документы, относящиеся к западным и центральным регионам Сибири. В исследовании отражены процессы, имевшие место в городских сообществах переселенцев и их взаимоотношениях с властью и друг с другом, а также причины и подоплека неконтролируемых эмоциональных взрывов. Адаптация к местным сибирским климатическим условиям, военная угроза, неустроенный быт и проблемы снабжения сказывались на психологическом состоянии новопоселенцев. Постоянный стресс приводил к фрустрациям. Обращается внимание на конфликты в контексте таких проблем, как взаимодействие с аборигенным окружением, психологическое давление и стресс от приграничных военных стычек, традиции употребления алкогольных напитков.
Сибирь, xvii век, первопоселенцы, казачество, служилые люди, антропология конфликта, социальная психология
Короткий адрес: https://sciup.org/147219345
IDR: 147219345 | УДК: 398.1
Текст научной статьи Спонтанные конфликты и их последствия в бытовой культуре русских первопоселенцев Сибири XVII века
На протяжении двух веков продолжался процесс установления на территории Сибири русской государственности, норм и правил, узаконенных царской властью и выработанных народной традицией, приемлемых для православных канонов. Соответствующие светские и церковные структуры следили за исполнением и регулированием норм поведения людей. Но в Сибири в XVI– XVII вв. власти на новых территориях были не в состоянии в полной мере отслеживать проявления агрессивности, возникающей среди русских новопоселенцев. В связи с этим важно показать, каким реально был психологический климат в этих сообществах и чем объяснялись спонтанные, неконтролируемые действия по отношению к окружающим на протяжении периода первоначального освоения Сибири.
В первой половине XVII столетия жизнь первопоселенцев во всех регионах Сибири протекала в окружении коренного населения края. В его составе были мирно настроенные плательщики ясака, принявшие под давлением обстоятельств царское подданство, но существовали и отдельные группы, в основном члены родоплеменных военно-по-тестарных объединений, не согласные мириться с пришедшей московской властью. Военные конфликты с ними приводили к
∗ Исследование проведено в рамках Интеграционного проекта СО РАН (№ 87).
Березиков Н. А ., Люцидарская А. А. Спонтанные конфликты и их последствия в бытовой культуре русских первопоселенцев Сибири XVII века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 5: Археология и этнография. С. 90–96.
ISSN 1818-7919
Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 5: Археология и этнография
тому, что некоторые выплески агрессивных эмоций в среде русского населения колонистов было проще и удобнее приписать стычкам с «немирными» иноземцами.
Именно так случилось в 1645 г. в Мур-гинской слободе Тюменского уезда. Драка, произошедшая среди местных крестьян и гулящих людей, была выдана поначалу за «нечаянный» приход «калмацких людей». Позже выяснилось, что «гулящие люди и крестьяне бились на кулаки и подрались» [Миллер, 1941. С. 510]. Не удалось выяснить причину этой стычки, но, судя по тексту документа, она не представляла интереса для властей, что свидетельствует об ординарности такого события. Представленные сведения о драке обращают на себя внимание именно отношением местных властей к произошедшему инциденту.
Любопытно, что в драке участвовали крестьяне – наиболее бесконфликтная, но социально организованная часть сибирского сообщества. Гулящие же люди, напротив, являлись самым социально неорганизованным слоем населения Московского государства. Представители этой категории переселенцев использовались на вспомогательных работах, охраняли грузы при перевозке, выполняли случайные поденные работы. Человек XVII в., позиционировавший себя как «гулящий», зачастую не имел постоянного места жительства, а значит, не состоял прихожанином определенной церкви, что было весьма существенно для православной России. Соответственно, поведение этих людей мало поддавалось контролю и регламентации со стороны общества и государства.
Спонтанные проявления агрессии чаще всего были напрямую связаны с пьянством или наркотическим воздействием специфических растений. Обыденным оправданием неадекватных, греховных поступков служили формулировки «спьяну» либо «кореньем объелся». Как правило, агрессивные действия чаще всего проявлялись в праздничные дни, свободные от привычных забот и обязанностей. Это были дни выхода из обычного, привычного будничного ритма. Церковных праздников было множество, кроме этого, существовали причины «расслабиться» по различным семейным поводам. В Верхотурском документе 1706 г. констатировалось, что к семейным торжествам заранее готовили спиртное: «...А кому случиться к родинам, или именинам пива наварить или браги...» [Памятники…, 1882. С. 277]. Пиво и брагу повсеместно варили в домашних условиях, кроме того, с конца XVI столетия в сибирских городах существовали заведения, где торговали спиртными напитками. «Кружечные дворы» и кабаки облагались налогом и приносили существенный вклад в казну. Наряду с кружечными дворами вводились в строй винокурни, сначала в Западной Сибири, позднее – в восточных регионах [Раев, 2005. С. 123–125]. Спиртное подогревало агрессивные настроения среди сибирского населения, живущего в сложной внутриполитической и бытовой обстановке.
Вызванная хмельным питьем агрессия нередко заканчивалась трагически. Так, в Верхотурье в 1637–1638 гг. расследовалось убийство подьячего съезжей избы Г. Зорина, который пострадал от руки откупщика площадного письма С. Сутанова. Убийца оправдывался, говоря, что «...убил де он подьячего... неумышленною статьею, в хмелю подрався» 1.
Под «горячие руки» дерущихся попадались порой ни в чем не повинные родственники. В феврале 1684 г. на Чичюйском волоке в ходе пьяной ссоры в избе Олег Евфимов зарезал своего сводного брата Ивана Анисимова, а мать, пытавшуюся их разнять, «толкнул и окосматил, и за волосы... таскал». На следствии О. Евфимов полностью признал свою вину, а в оправдание сказал, что сделал это «ни по чьему наущению; учинилось у нас с ним с пьянства о делу розсчет» [ДАИ, 1869. С. 27]. «Пьянским обычаем» объяснил свой поступок чичюйский казак Иван Соколов, пришедший поздним зимним вечером 1684 г. к пушкарю Филиппу Вячеслову на «пир» и учинивший драку с его женой Маврицей, которая не хотела впускать в дом пьяного казака. «И он де, Ивашко, учал ее бить и нос до крови у ней розщиб, и ухватя де нож у себя из ножней и метался на нее с ножем; и он де, Микитка, не допуща до нее, Маври-цы, его, Ивашка, вывертел де нож у него, Ивана, из рук, и у него де Микитки тем но-жем изрезаны руки» [Там же. С. 36].
Типичный пример пьяной застольной драки представлен документальным материалом из Пелыма начала 70-х гг. XVII в. Дело произошло в гостях у местного попа.
За столом собрались случайные люди: ехавший с Верхотурья стрелец с государевыми грамотами Митька Ворошилов, хозяин дома, священнослужитель, и зашедшие пьяные вогулы (Техтерка Перментаев с детьми и товарищами в количестве 7 человек). Вогулы затеяли со стрельцом спор и брань о подводах, которые, вероятно, были взяты у вогульского населения для нужд Митьки Ворошилова. Претензии закончились дракой. Непрошенные гости стали «...через стол доставать, за волосы драть... и Митька ухватя церковный ключ ударил Техтерку в голову» 2. Надо полагать, что увечье привело к смерти, если разбирательство достигло Московских властей. Особое внимание обусловлено тем, что пострадавший был ясачным налогоплательщиком, а жизнь каждого ясачного старались сохранять.
По вполне понятным причинам агрессивные настроения, как уже отмечалось, наиболее часто проявлялись в праздничные дни. В Кузнецком остроге в 1672 г. на Пасху произошел инцидент, нашедший отражение в документальном материале. Источник сообщает об извете конного казака Никиты Лобка, что «апреля в 7 день в Светлое Христово Воскресенье, пеший казак Макарка Бородкин с братом своим Ивашкою приезжал к нему, Никитке, ко двору, и вынимал наголо татарский нож, хваляся... на него и на жену его и на детей смертным убойст-вом... и бранил его Никитку и жену его матерною и всякою непотребною лаею». В этот праздничный день на городских улицах, по-видимому, было многолюдно, поскольку свидетелей разыгравшегося действия оказалось немало, причем в этническом отношении они были разнородны: русские, бухарцы, крещеные аборигены, выходец из Восточной Европы. Когда новокрещен Би-ченко отвел разбушевавшихся братьев от двора Никиты, они с кольями наперевес начали ходить по улицам, выкрикивая угрозы. По окончании праздничных дней зачинщик инцидента «Макарка... поговоря со своим противником, не ходя в суд помирились» [Исторические акты…, 1897. С. 43–44].
Данный незначительный бытовой эпизод помимо выражения агрессии, явно спровоцированной «праздничным загулом», интересен составом присутствующих свидетелей, втянутых в происходящее. В небольшом сибир- ском городе, каким являлся Кузнецкий острог, на улице во время православного праздника оказались люди самой разной этнической принадлежности и культурной ориентации. Причем новокрещен взял на себя роль «усмирителя».
В начале 1640-х гг. в Сибирский приказ пришло известие из Красноярска о том, что служилый человек Иван Халдей убил пятидесятника. Началось разбирательство, в ходе которого стала очевидна спонтанность этого действия. Ситуация складывалась следующим образом: красноярские служилые люди делили между собой казенный свинец. При этом действии было совершено убийство. Обвиненный в происшествии оправдывался так: «...И я де взял палицу дровотную, а Захар стал ту палицу у меня отнимать и я де ему не стал давать и он Захарка меня Ивашка стегнул ремнем безменным и я де тот ремень у него выхватил и тем де безменом его Захарка ударил в голову и он де Захарка немного полежал и умер...» 3. Обвиняемый настаивал на непреднамеренном, случайном убийстве, и следствие с ним согласилось. В данном случае имеет место попытка «настоять на своем», своеобразным образом самоутвердиться. Согласно мнению многих психологов, проводящих исследования в этой области, агрессия берет начало в стимулах экзогенной природы. Не случайно возникновение агрессии зачастую приписывается влиянию особых условий окружающей среды [Бэрон, Ричардсон, 2001. С. 46]. Эта точка зрения обоснованно согласуется с условиями Сибири XVII столетия, в которых оказались русские поселенцы. Вполне оправданно, что большое количество нарушений в служилой среде происходило в Красноярске, перманентно подвергавшемся нападениям со стороны кыргызов, иногда выступавших вместе с джунгарами.
В этот же период из Красноярска поступили сведения о драке служилых людей прямо в административном помещении: «...В съезжей избе служилые люди меж собой подрались и друг друга резали» 4. Этот эпизод свидетельствует не только о свободе нравов красноярских казаков, но и их отношении к власти. В съезжей избе висели образа православных святых, находилась документация и ценные для того времени вещи, но это не смутило разгоряченных казаков. Они начинали жить своим собственным миром, теряя при этом традиционные ценностные ориентиры. Не случайно наиболее ярко окрашенные выступления против воеводской власти происходили именно в «вынужденно воинственном» Красноярске [Бахрушин, 1959. С. 65–84].
В условиях продолжающихся боевых действий и военной опасности драка среди служилых людей могла вспыхнуть из-за чего угодно. В осажденном манжурами Албазине летом 1685 г. собравшиеся передохнуть и попить кваса у атамана А. И. Бейтона казаки «учинили между собой... драку и квас выпустили и посуду приломали и сверх той драки Артюшка Толмач атамана ножем дернул не до смерти, ожил» [Паршин, 1844. С. 187].
Необходимо учитывать, что помимо служилых людей, переведенных в Сибирь правительственными мерами, среди населения было немало ссыльных не только по политическим, но и по уголовным делам. Ссыльные начали поступать в отдельные регионы почти сразу после начала их освоения. Только в мае 1601 г. в Верхотурье привезли 9 колодников, среди которых оказались татарский голова, поп, литвин, стрельцы и др. [Верхотурские грамоты…, 1982. С. 99]. В Томске в 70-е гг. XVII в. среди ссыльных, поверстанных в казаки, отмечены: разбойник, костромитин сын боярский Левка Скрыцын; разбойник, Троицко-Сергиевского монастыря стрелецкий сын Золко Скоробогатый и пр. Кроме того, в документах XVII в. отмечено немало сосланных беглых крестьян из всех областей европейской части России 5. Ссылка не являлась определяющим фактором для создания неуравновешенной, агрессивно настроенной среды колонистов, однако было бы неверно совершенно отрицать влияние ссыльных на психологический, эмоциональный климат, царивший в Сибири. Свидетельством тому является множество документов судного стола, например, города Томска. За период с 1658 по 1665 г. здесь осело около двухсот дел, включающих в себя жалобы, изветы, констатацию самых различных преступлений – от неуплаты долгов до убийств. К сожалению, большинство документации судного стола Томска (по иным городам подобных сведений у автора нет) ограничены лишь обращением в судебную инстанцию и редко раскрывают суть дела. Однако уже сами жалобы колонистов самого различного социального статуса свидетельствуют о нежелании и невозможности договариваться и улаживать конфликты без вмешательства воеводской администрации. Это в определенной степени свидетельствует о существующей напряженности в сибирском сообществе. Среди фигурантов дел отмечены служилые люди, представители духовенства, торговцы, крестьяне, гулящие люди, ясачные и новокрещены, немало женщин 6.
Более всего обращений (52) в судебный стол поступило по поводу оскорблений бранными словами, названными в документах «бесчестьем». Например, «...искал посадский человек Сенька Черков на пешим казаке Артюшке Логинове да на казачьих детях Агапитке Исакове да на Ивашке Абрамове бесчестья своего» 7. Также достаточное количество (более 30) исков было предъявлено в связи с неуплатой долгов. Около 40 обращений в судебную инстанцию можно квалифицировать как жалобы по различным поводам. Побои и нанесение увечий тоже нашли отражение в документах судного стола. Однако их сравнительно немного (14). Столько же зафиксировано обвинений в курении табака и винокурении. В судном столе также фиксировались кражи, изъятия наркотических кореньев, обвинения в порче, отраве и «блудном деле» 8.
Разрозненные материалы томского судного стола за 1658–1665 гг., несомненно, являются любопытным источником и дают представление о быте и «диалектике повседневности» переселенцев в Сибирь. Само обращение в судебные инстанции подводит к пониманию системы ценностных ориентиров того времени. Такие проявления агрессии, как брань, нанесение побоев, увечья и убийства, нарушали установленные законодательством и обществом нормы поведения. Непотребной брани, «матерному лаю» безрезультатно пытались противостоять сибирские власти. Воевода Г. Ф. Нарышкин предписывал в конце 80-х гг. «уличенных в матерной ругани наказывать – бить батогами и взимать штраф» [Вершинин, 1998.
С. 108–109]. Известно, что обращение к инвективной лексике в определенной степени снимает напряжение и предотвращает физическое применение силы. Однако же, с другой стороны, именно грубая брань могла провоцировать драки и иные неадекватные действия. Употребление ненормативной лексики воспринималось обществом как отклонение от христианских норм поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы на унижения от бранных слов, рассматривавшиеся как «бесчестье».
Необходимо заметить, что само исследование судебных документов сибирского города XVII в. весьма проблематично, так как полученные сведения отрывочны и не поддаются статистической обработке. Кроме того, неясно, как существовал в Томске в этот период параллельно с воеводским судным столом церковный суд. Для населения Сибири воеводский суд был необходим вследствие затрудненности, а иногда и невозможности переноса дел в московские приказы. Вероятно, предъявлялось множество претензий к воеводскому судебному делопроизводству, но это не умаляет его значимости для людей XVII в. [Вершинин, 1998. С. 137].
Не всегда адекватное поведение первопоселенцев Сибири обусловливалось, помимо бытовых трудностей, связанных с адаптацией и угрозой со стороны «немирных» сибирских этносов, еще и попустительством местной администрации, остро нуждавшейся в людях. Нарушителям порядка грозили лишь батоги или, в худшем случае, отсылка в восточные города и остроги. Довольно часто в служилой среде применялась практика коллективной ответственности за дальнейшее поведение нарушителя спокойствия – его брали «на поруки» и следили за поведением. «Бить батоги и дать на поруку, чтоб ему впредь таких непригожих слов не говаривать...», – такова, например, была резолюция по делу служилого человека Федора Кузьмина из Кузнецка 9.
В большинстве случаев агрессивные поступки в среде сибирских первопроходцев и старожилов совершались под действием фрустрации (в данном случае нарушение ожиданий, обман, неудача). Сдерживающим фактором при агрессии могло служить неотвратимое своевременное жесткое наказание, чего в условиях Сибири трудно было ожидать.
Исследование архивных сибирских материалов XVII в. для выявления случаев поведения, которое не соответствовало требованиям принятых в обществе норм, приоткрывает путь к пониманию психологического климата, царившего среди пионеров-первопоселенцев, преобразователей новых территорий. Неконтролируемые агрессивные действия в их среде вполне вписываются в реальную обстановку в пространстве, перманентно заполняемом людьми различных социальных слоев с непохожими культурными традициями и ориентациями. Между тем при направляющей роли государственных структур колонисты сумели преобразить новые земли, наладить систему жизнеобеспечения и создать предпосылки для успешного поступательного развития Сибирского региона.
Список литературы Спонтанные конфликты и их последствия в бытовой культуре русских первопоселенцев Сибири XVII века
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Издво АН СССР, 1959. Т. 4. 214 с.
- Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII в. М., 1982. 298 с.
- Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург: Развивающее обучение, 1998. 204 с.
- Дополнения к Актам историческим, собранным и изданным Археографической комиссией. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1869. Т. 11. 312 с.
- Исторические акты XVII столетия. Материалы для истории Сибири. Томск: Типолит. Михайлова и Макушина, 1897. Вып. 2. 143 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. Т. 2. 640 с.
- Памятники сибирской истории XVIII в. СПб.: Тип. Министерства внутренних дел, 1882. Т. 1. 551 с.
- Паршин В. П. Поездка в Забайкальский край. М.: Тип. Н. Степанова, 1844. Ч. 1. 246 с.
- Раев Д. В. Кружечные дворы городов Западной Сибири (вторая половина XVII - начало XVIII в.). Новосибирск: СовА, 2005. 273 с.