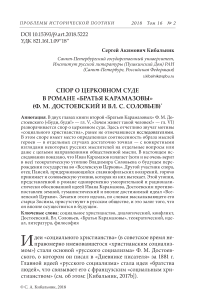Спор о церковном суде в романе "Братья Карамазовы" (Ф. М. Достоевский и Вл. С. Соловьев)
Автор: Кибальник Сергей Акимович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.16, 2018 года.
Бесплатный доступ
В двух главах книги второй «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского («Буди, буди!» - гл. V, «Зачем живет такой человек!» - гл. VI) разворачивается спор о церковном суде. Здесь отчетливо звучат мотивы «социального христианства», ранее не отмечавшиеся исследователями. В этом споре имеет место определенная соотнесенность образа мыслей героев - в отдельных случаях достаточно точная - с конкретными взглядами некоторых русских мыслителей на отдельные вопросы или даже с целыми направлениями общественной мысли. В настоящем исследовании показано, что Иван Карамазов излагает (хотя и не очень верит в нее) теократическую утопию Владимира Соловьева о будущем перерождении государства во «Вселенскую Церковь». Другой участник спора, отец Паисий, придерживающийся славянофильских воззрений, горячо принимает и соловьевскую утопию, которая из них вытекает. Этой утопии, представленной в романе одновременно умозрительной и рационалистически обоснованной идеей Ивана Карамазова, Достоевским противопоставлен земной, гуманистический и вполне достижимый идеал «Вселенской Церкви». Зачатки этого идеала, по словам высказывающего его старца Зосимы, присутствуют в русском обществе, и это залог того, что он вполне осуществится в будущем.
Социальное христианство, диалогический, конфликт, достоевский, вл. соловьев, "братья карамазовы", теократический, идеал, литература, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/147226158
IDR: 147226158 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2018.5222
Текст научной статьи Спор о церковном суде в романе "Братья Карамазовы" (Ф. М. Достоевский и Вл. С. Соловьев)
И деи «социального христианства» (в советское время неправомерно именовавшегося «христианским социализмом») стали основой «русского социализма» Ф. М. Достоевского, о котором он писал в «Дневнике писателя» за 1881 г. Главной идеей «русского социализма» стала идея «братства людей», что связывает его с французским «социальным христианством» (см. об этом: [Кибальник, 2017b]).
Мотивы «социального христианства» отчетливо звучат в главе «Буди, буди!» «Братьев Карамазовых» (гл. V, часть первая, книга вторая), в которой герои обсуждают статью Ивана Карамазова о церковно-общественном суде:
«О любопытнейшей их статье толкуем, — произнес иеромонах Иосиф, библиотекарь, обращаясь к старцу и указывая на Ивана Федоровича. — Нового много выводят, да, кажется, идея-то о двух концах. По поводу вопроса о церковно-общественном суде и обширности его права ответили журнальною статьею одному духовному лицу, написавшему о вопросе сем целую книгу…
— К сожалению, вашей статьи не читал, но о ней слышал, — ответил старец, пристально и зорко вглядываясь в Ивана Федоровича.
— Они стоят на любопытнейшей точке, — продолжал отец библиотекарь, — по-видимому, совершенно отвергают в вопросе о церковно-общественном суде разделение церкви от государства.
— Это любопытно, но в каком же смысле? — спросил старец Ивана Федоровича.
Тот наконец ему ответил, но не свысока-учтиво, как боялся еще накануне Алеша, а скромно и сдержанно, с видимою предупредительностью и, по-видимому, без малейшей задней мысли.
— Я иду из положения, что это смешение элементов, то есть сущностей церкви и государства, отдельно взятых, будет, конечно, вечным, несмотря на то, что оно невозможно и что его никогда нельзя будет привести не только в нормальное, но и в сколько-нибудь согласимое состояние, потому что ложь лежит в самом основании дела. Компромисс между государством и церковью в таких вопросах, как например о суде, по-моему, в совершенной и чистой сущности своей невозможен. Духовное лицо, которому я возражал, утверждает, что церковь занимает точное и определенное место в государстве. Я же возразил ему, что, напротив, церковь должна заключать сама в себе всё государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества»1.
В комментариях В. Е. Ветловской к 15-му тому академического издания Полного собрания сочинений Достоевского
(см.: 15, 534) и в ее работах названа «книга» «духовного лица», с которой полемизирует Иван. Это статья протоирея М. И. Горчакова, которая содержит существенные параллели с описанной в романе книгой:
«Прообразом этого “лица” явился протоирей М. И. Горчаков (1838–1910), профессор Петербургского университета и автор статьи “Научная постановка церковно-судного права” (Сборник государственных знаний. Под ред. В. П. Безобразова. СПб., 1875. Т. 2. С. 223–270 (этот том имелся в библиотеке Достоевского <…>)). Горчаков пытается примирить “государственников” и “церковников”. Симпатии его лежат на стороне последних, однако, стараясь согласовать желания духовенства с существующим государственным правом и считая это право незыблемым, он невольно оказывается в лагере “государственников”. Значение статьи Горчакова для дискуссии о церковном суде в “Братьях Карамазовых” указано Л. П. Гроссманом: (см.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. М., 1956. С. 490)» [Ветловская, 2007: 441] (cм. также: [Ветловская, 2015: 812–813]).
Противоположную в указанной книге точку зрения в споре развивает Иван и в ответ на возмущение вступившего в дискуссию Миусова — поддерживает старец Зосима.
По поводу идела, который высказывается Достоевским в «Братьях Карамазовых», Е. В. Трубецкой писал:
«Мысль Достоевского, “о царстве Церкви”, которому должно быть подчинено все земное, <…> является вместе с тем руководящим началом того теоретического учения, которое излагается в “Критике отвлеченных начал” Соловьева» [Трубецкой: 353]2.
При этом Трубецкой не останавливается на том, какие герои «Братьев Карамазовых» развивают этот идеал, и не разъясняет, почему, по его мнению, они выражают точку зрения автора.
В отличие от Трубецкого, В. А. Викторович прямо пишет о позиции старца Зосимы:
«Идея Церкви как идеального устройства земной жизни человека исповедуется в романе тем же Зосимой. И вновь генезис этой идеи возвращает нас к Соловьеву, особенно к его “Чтениям о Бого-человечестве”. “Царство Божие”, — полагал философ, — должно обладать царством мира “сего”, при этом “подчинение мирских начал началу божественному должно быть свободным и достигаться внутреннею силой подчиняющего начала”» [Викторович: 18].
Однако идея «Вселенской Церкви» утверждается в романе и Иваном Карамазовым, а не одним Зосимой, который только повторяет высказывания Ивана:
«…если бы все общество обратилось лишь в церковь…»;
«…теперь общество христианское <…> пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую церковь» (14, 61).
В свою очередь такая формулировка Ивана, как:
«…напротив, церковь должна заключать сама в себе всё государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества» (Здесь и далее выделено полужирным мной. — С. К.) (14, 56–57) — почти точно воспроизводит соответствующую мысль Вл. Соловьева:
«…если церковь есть действительно царство Божие на земле, то все другие силы и власти должны быть ей подчинены … » [Соловьев, 1994: 45];
« … духовное общество или церковь, в свободном внутреннем союзе с обществами политическим и экономическим, образует один цельный организм — свободную теократию или цельное общество » [Соловьев. Философские начала цельного знания…: 262];
«…для человека, последовательно стоящего на религиозной точке зрения, церковь как Царство Божие должно обнимать собою все безусловно» [Соловьев. Критика отвлеченных начал…: 159].
Чтобы разобраться в том, какова разница между словами Ивана и Зосимы и какие в большей мере воспроизводят теократическую утопию Соловьева или близки самому
Достоевскому, обратимся к соответствующим страницам романа.
Во-первых, вспомним, что статья Ивана не выражает его подлинных убеждений. Когда Зосима говорит ему: «Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе», — то Иван почти соглашается с этим: «Может быть, вы правы!.. Но всё же я и не совсем шутил…» (14, 65)3.
Речь же Зосимы в поддержку идеи Ивана о церковном суде не только выражает его убеждения, но и, по-видимому, воспроизводит пафос горячо сочувствовавшего Соловьеву Достоевского.
Впрочем, одна из формулировок Ивана напоминает убеждение самого Достоевского — причем не только по вопросу о преступлении, но и о главной задаче современного искусства4:
«…возьмите взгляд самой церкви на преступление: разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого, и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне для охранения общества, преобразиться, и уже вполне и не ложно, в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его … » (14, 59).
Во-вторых, обратим внимание на то, что как раз сразу после этих слов Ивана и недоуменной реплики Миусова Зосима высказывает свою мысль о том, что именно таково значение церкви для преступника и сейчас:
«— Да ведь по-настоящему то же самое и теперь, — заговорил вдруг старец, и все разом к нему обратились, — ведь если бы теперь не было Христовой церкви, то не было бы преступнику никакого и удержу в злодействе и даже кары за него потом…» (14, 59).
В этих словах ощущается собственный, каторжный, опыт Достоевского и его художественный опыт создания «Записок из Мертвого дома» и «Преступления и наказания», в которых приверженность большинства преступников из народа христианской вере передана в ряде ярких и убедительных образов.
И, главное, слова Зосимы свидетельствуют о том, что, по его мнению, идеал Вселенской Церкви в России отчасти уже осуществляется: в отличие от «лютеранских земель» и Рима, «кроме установленных судов, есть <…>, сверх того, еще и церковь, которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и всё еще дорогим сыном своим, а сверх того, есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но всё же живущий для будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом души его, признаваемый» (14, 61)5.
По сути, Зосима как бы предваряет другую идею Ивана, о которой Миусов будет говорить в следующей главе:
«Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести» (14, 60).
Это не что иное, как теоретическое обоснование положения, из которого следует практический постулат Ивана: «Если Бога нет, то все позволено»6— с той разницей, что для Зосимы и, очевидно, для самого Достоевского из него следует не вседозволенность, а существование Бога.
Заметим, что к этому постулату Ивана, восходящему в конечном счете к возражению М. Штирнера на отрицание Бога Л. Фейербахом7, находим прямые параллели у Соловьева:
«Итак, после того, как философский рационализм отверг всякую объективную реальность в теории, отвергаются теперь в практике всякие объективные начала нравственности. Единственным жизненным началом становится безусловное исключительное самоутверждение я » [Соловьев. Кризис западной философии…: 118]8.
Таким образом, обе упомянутые в двух главах идеи Ивана воспроизводят убеждения Соловьева, высказанные им еще в «Чтениях о Богочеловечестве» и затем не раз повторенные впоследствии.
В то же время Зосима повторяет прошлые высказывания самого Достоевского (а одновременно и Соловьева) против католической и протестантской церквей:
«…во многих случаях там церквей уже и нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как церковь, в высший вид, как rocударство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство» (14, 60–61).
И, наконец, старец прямо возвещает осуществление в будущем идеи вселенской Церкви:
« если бы всё общество обратилось лишь в церковь …»;
«теперь общество христианское <…> в ожидании своего полного преображения < … > во единую вселенскую и владычествующую церковь » (14, 61).
Отметим, что еще один участник этого спора, отец Паисий занимает позицию, которая отсылает нас к славянофилам. Он возмущается словами автора книги: «…церковь есть царство не от мира сего» (14, 57) — и пытается опровергнуть его ссылками на Священное Писание. Также отец Паисий воспроизводит характерное для славянофилов противопоставление православного Востока католическому Западу:
«— Совершенно обратно изволите понимать! — строго проговорил отец Паисий, — не церковь обращается в государство, поймите это. То Рим и его мечта. То третье диаволово искушение! А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что совершенно уже противоположно и ультрамонтанству, и Риму, и вашему толкованию, и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет» (14, 62).
Фигура отца Паисия символизирует внутреннюю связь теократической утопии Соловьева с концепциями славянофилов, которую прекрасно сознавал как сам Соловьев, так и Достоевский.
Когда Миусов истолковывает пророчество Зосимы о перерождении государства в церковь противоположным образом — в смысле перерождения церкви в государство — то отец Паисий, в полном согласии с самим Достоевским, указывает на то, что это идея католицизма. По-видимому, не в последнюю очередь автократическая позиция К. Н. Леонтьева9
(а, возможно, в ряду прочих и Жозефа де Местра) имеется в виду в реплике отца Паисия:
«… по иным теориям, слишком выяснившимся в наш девятнадцатый век , церковь должна перерождаться в государство, так как бы из низшего в высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации» (14, 58).
Указание отца Паисия на ошибочность понимания идеи Ивана Карамазова Миусовым подчеркивает преемственность мысли Соловьева о «Вселенской Церкви» по отношению к славянофильству:
«По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более» (14, 58).
Вспомним теперь, что прототипом Миусова по первоначальному плану романа, о котором Достоевский писал в письме от 25 марта 1870 г. А. Н. Майкову, был П. Я. Чаадаев:
«Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). <…> К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский, наприм<ер>, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.)» (29 1 , 118).
Разумеется, от замысла к воплощению «дистанция огромного размера» и, как мы видим, в романе герой, литературным прототипом которого, возможно, является Чаадаев, сам приезжает в монастырь к старцу Зосиме, прообразом которого был известный старец Амвросий.
Если первоначальное намерение Достоевского вывести на сцену в «Братьях Карамазовых» Петра Яковлевича Чаадаева действительно вылилось в конечном итоге в образ Петра Александровича Миусова (а других кандидатов на эту роль, кажется, нет), то фигура Чаадаева представлена в романе в трансформированном виде — всего лишь как «тип»10. Тем не менее, имеет значение, что Чаадаева называли «русским Ламенне» и, следовательно, видели в нем (и небезосновательно)
одного из главных представителей «социального христианства» в России (см. об этом: [Кибальник, 2017b]).
Что касается самого Фелисите Робера де Ламенне, то он вошел в историю европейского общественного движения в первую очередь именно как страстный борец против «ультрамонтанства» (против которого выступает на протяжении всей пятой главы Миусов). Имевшие огромный издательский успех «Слова верующего» (1834) Ламенне, которые отозвались в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизитор» (см. подробнее: [Кибальник, 2017a: 155]), были осуждены энцикликой римского папы.
В конце пятой главы Миусов-Чаадаев усматривает в идее Зосимы «не то что ультрамонтанство», а «архиультрамонтанство» (14, 61) и рассказывает «парижский анекдот» о том, что, по словам некоего парижского сыщика, «социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника». В свою очередь отец Паисий «без обиняков» спрашивает его:
«— То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов?» (14, 62).
Миусов не отвечает, но кивает на Ивана:
«— <…> Вот Иван Федорович на нас усмехается: должно быть, у него есть что-нибудь любопытное и на этот случай. Вот его спросите.
— Ничего особенного, кроме маленького замечания, — тотчас же ответил Иван Федорович, — о том, что вообще европейский либерализм, и даже наш русский либеральный дилетантизм, часто и давно уже смешивает конечные результаты социализма с христианскими. Этот дикий вывод — конечно, характерная черта. Впрочем, социализм с христианством смешивают, как оказывается, не одни либералы и дилетанты, а вместе с ними, во многих случаях, и жандармы, то есть заграничные разумеется» (14, 64).
Подчеркнем, что в данном случае Иван определенно высказывает мысль самого Достоевского. Так, в рабочей тетради 1864–1865 гг. писатель сделал помету: «NB. О социалистах (
глубокая противуположность
писал: «Моя идея в том, что социализм и христианство — антитезы » (291, 262).
При этом, судя по всему, Соловьев был одним из прототипов некоторых героев романа. М. Н. Стоюнина считала, что это утверждение верно по отношению к Алеше, А. Г. Достоевская — к Ивану [Стоюнина, 1993: 202]11, а Г. М. Фридлендер и вслед за ним многие другие исследователи — что и к Алеше12, и к Ивану (см.: 15, 472). Возможно, что какие-то отдельные черты характера Соловьева преломились даже и в образе старца Зосимы: различие в их возрасте и положении в данном случае ни в коей мере не может служить аргументом против этого. Впрочем, вопрос о прототипах — это область, в которой возможны только гипотетические суждения.
С большей определенностью можно говорить о том, что если какие-то черты личности Соловьева отразились в Алеше, то весь образ его мыслей, с небольшими трансформациями, передан Ивану и отчасти Зосиме. Хотя последний, будучи наделен также отдельными деталями поведения старца Амвросия (см., напр.: 15, 532), в основном все же, по-видимому, передает образ мыслей самого Достоевского последних лет его жизни. Такая расстановка героев соответствует личным взаимоотношениям Достоевского и Соловьева, который при жизни был «в некотором духовном подчинении» Достоевскому [Розанов: 251].
Остается еще два важных вопроса: чем идеи «русского социализма» отличаются от теократической утопии Соловьева и как они преломились в художественном целом романа?13
В последнем выпуске «Дневника писателя» (1881) Достоевский сформулировал свое понимание «русского социализма» как «неустанной жажды в народе русском, всегда в нем присущей, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово», как веры его в то, что «спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово» (27, 19). Тем самым он как бы перекладывал основной пафос французского «социального христианства», ранее сыгравшего, как и русское славянофильство, значительную роль в формировании «почвенничества», на славянофильские рельсы14. Соответственно, это порождало органическое восприятие Достоевским идеи «Вселенской Церкви».
Оговоримся, что эта идея, поскольку в общем виде она высказывалась еще русскими славянофилами, а сам Достоевский в 1870-е гг., как и Соловьев, двигался в их русле, — органично вытекала из его собственного развития. Однако, получив в соловьевских «Чтениях о Богочеловечестве» чисто рационалистическое обоснование, которое отличает некоторая умозрительность, абстрактность и холодность, идея «Вселенской Церкви» обрела характер теократической утопии. Этот характер сохраняется и в изложении ее Иваном Карамазовым. В переложении же Зосимы и затем в особенности в его «беседах и поучениях» (14, 284–294) эта утопия представлена как действительный земной, гуманистический и вполне достижимый идеал современного человечества. Иначе, по-видимому, и не могло быть: ведь «в творчестве Достоевского преобладал элемент бессознательного вдохновения, в Соловьеве же преобладала логическая, сознательная мысль, державшая, так сказать, в руках его вдохновение» [Радлов: 323].
Соловьев в Боге видел всеобъемлющую любовь, выделял в нем «трех единосущных и нераздельных субъектов»: безусловное Первоначало, Слово и Дух святой, а в Софии видел «идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе, или Христе» [Соловьев. Чтения о Богочеловечестве…: 144]. Идеи о том, что «всякий пред всеми за всех виноват» (14, 270), что «кто <…> уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе» (14, 267), что «от народа спасение Руси» (14, 285), о «служении братолюбию и человеческому единению» (14, 285), о «смиренной любви» (14, 289) и о принесении жизни «в жертву любви» (14, 293) в «Беседах и поучениях старца Зосимы» представлены через ряд ярких и конкретных образов: послушника Порфирия, брата Маркела, «таинственного посетителя», денщика Афанасия и др. Так что Достоевский в «поучениях» Зосимы остается предан своей почвеннической вере в народ, которому и в его концепции «русского социализма» отводится существенная роль на пути к единению человечества.
Сам Соловьев в «Трех речах в память Достоевского (1881– 1883 гг.)» стремился представить «церковь как положительный общественный идеал <…> центральной идеей» романа «Братья Карамазовы», а «русский социализм» писателя — как такое учение, которое « возвышает всех до нравственного уровня церкви как духовного братства» [Соловьев. Три речи в память Достоевского…: 239]. Ему вторят многие исследователи. Так, В. А. Викторович полагает, что не только «учение Зосимы, изложенное в романе <…> становилось художественной обработкой теории всеединства Вл. Соловьева», но и «весь роман подтверждает единство трансцендентного и имманентного» [Викторович: 18].
Подтверждается ли это, и если да, то является ли художественное воплощение этой идеи в романе развитием, дополнением или коррекцией философских убеждений Соловьева? Для того, чтобы в полной мере ответить на этот вопрос необходим целостный анализ «Братьев Карамазовых» под таким углом зрения15. Однако уже «беседы и поучения» Зосимы представляют собой, с нашей точки зрения, не просто «художественную обработку теории всеединства Вл. Соловьева», а, судя по уже приведенным выше цитатам, некоторую ее трансформацию — или, скорее, даже развитие собственного мировосприятия Достоевского, — в которой есть, возможно, элементы притяжения и отталкивания от идей молодого философа.
В этих «беседах и поучениях» выразилась и внутренняя художественная полемика Достоевского с Соловьевым по вопросу о Вселенской Церкви. Намек на это содержится уже в замечании об идее Ивана, сделанном в начале пятой главы библиотекарем, иеромонахом Иосифом: «Нового много выводят, да, кажется, идея-то о двух концах» (14, 56). Суждение о некоторой неясности и утопичности этой идеи, по-видимому, отчасти разделяемое автором романа, — при всем скептическом изображении этого героя — высказывает Миусов: «…опять какая-то мечта. Что-то бесформенное, да и понять нельзя» (14, 59).
Зосима же — при том, что он, казалось бы, поддерживает идею Ивана — одновременно существенным образом ее перетолковывает. Он утверждает, что и сейчас, «если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести» (14, 60). Сознавая связь между неверием и преступлением, которую далее будет декларировать сам Иван, Зосима предвидит в случае отлучения преступника от церкви возможное укоренение его во зле:
«Что было бы, если б и церковь карала его своим отлучением тотчас же и каждый раз вослед кары государственного закона? Да выше не могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для преступника русского, ибо русские преступники еще веруют. А впрочем, кто знает: может быть, случилось бы тогда страшное дело — произошла бы, может быть, потеря веры в отчаянном сердце преступника, и тогда что?» (14, 60).
На место понятия «деятельной любви» у Зосимы приходит здесь идея «деятельной кары», от которой «церковь, как мать нежная и любящая <…> устраняется» (14, 60). Однако именно эта «деятельная кара», по его мнению, настигает (и здесь уже читатель «Братьев Карамазовых» невольно вспоминает швейцарские страницы романа «Идиот», посвященные Мари, и рассуждения Мышкина о европейском правосудии) «иностранного преступника», который, «говорят, редко раскаивается, ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступление его не есть преступление, а лишь восстание против несправедливо угнетающей силы. Общество отсекает его от себя вполне механически торжествующею над ним силой и сопровождает отлучение это ненавистью (так по крайней мере они сами о себе, в Европе, повествуют), — ненавистью и полнейшим к дальнейшей судьбе его, как брата своего, равнодушием и забвением» (14, 60).
Таким образом, теократической утопии Соловьева, представленной в романе как несколько умозрительная и рационалистически обоснованная идея Ивана Карамазова, Достоевским противопоставлен земной, гуманистический и вполне достижимый идеал современного человечества. Зачатки этого идеала, по словам высказывающего его старца Зосимы, уже теперь присутствуют в русском обществе, и это залог того, что он вполне осуществится в будущем.
Примечания
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10034, ИРЛИ РАН.
-
1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1979. Т. 14. С. 56–57. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома, книги (нижний индекс) и страницы в круглых скобках.
-
2 Следует также отметить, что основы этого учения Вл. Соловьев излагает уже в «Чтениях о Богочеловечестве» (1878).
-
3 Следует отметить, что Миусов, заметивший Ивану: «Я подозреваю, вы просто потешаетесь, Иван Федорович» (14, 59), — также сомневается в правдивости его слов. Кстати, и сам Соловьев отличался склонностью к отстаиванию противоположных, взаимно исключающих друг друга позиций, неоднократно отмеченной мемуаристами.
-
4 Как известно, это убеждение Достоевского вполне усвоил Соловьев, развив его впоследствии в концепцию теургического искусства.
-
5 По мнению Э. Л. Радлова, высказанному безотносительно к позиции старца Зосимы в романе, для Достоевского была только одна возможность «соединить в одно целое учение о вселенском христианстве, в котором сольются все народности и уничтожатся все разногласия, с представлением о Боге как народной синтетической личности, с представлением об особом Боге каждого народа, о том, что народность есть тело Божие». Эта возможность заключалась «в представлении о той миссии, которая, по его мнению, возложена на Россию, а именно — в утверждении, что вселенское христианство не есть задача будущего и что оно уже осуществлено — и именно в православии русского народа» [Радлов: 326].
-
6 Дословно это высказывание в романе отсутствует, зато встречаются многочисленные вариации на эту тему. См. об этом: Кибальник С. А. «Если Бог есть, то все позволено». Достоевский в современной европейской философии // Вопросы философии. 2018. № 6 (в печати).
-
7 См. об этом: [Кибальник, 2012].
-
8 Ср. также в «Критике отвлеченных начал» Соловьева: «…лишь при утвердительном решении вопросов о бытии Божием, бессмертии и свободе человека можем мы признать возможность осуществления нравственного начала» [Соловьев. Критика отвлеченных начал…: 182–183].
-
9 Ср. в «Византизме и славянстве» К. Н. Леонтьева: «Византизм, т. е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма» [Леонтьев: 331].
-
10 По-видимому, образ Миусова предопределен некоторыми воспоминаниями В. В. Розанова о Чаадаеве, вызвавшими следующий отзыв о нем: «…Чаадаев был ум гордый, высокомерный, изумительно талантливый по силе экспрессии, литературной выразительности, но принадлежавший человеку (судя по некоторым воспоминаниям о нем) едва ли не пустому » [Розанов: 259].
-
11 В. А. Викторович справедливо напоминает, что «слова эти вырвались у вдовы писателя в минуту раздражения: Анна Григорьевна осуждала выступление Вл. Соловьева против казни революционеров-первомар-товцев» [Викторович: 10]. Однако, кажется, это не слишком повлияло на беспристрастность ее суждения.
-
12 Отмеченная исследователями параллель к роману: Зосима признается, что любил Алешу в особенности потому, что тот «казался ему схожим» (14, 259) духовно с его рано умершим братом Маркелом, — а сам Достоевский признавался Соловьеву, что тот напоминает ему покойного друга его юности Шидловского [Достоевская: 262], — показательна еще и в том отношении, что демонстрирует соотнесенность образа Зосимы с самим Достоевским.
-
13 Между прочим, Ламенне также исповедовал теократические идеи и неоднократно становился предметом горячей защиты Соловьева от русского обскурантизма. См. об этом: [Никитина: 216].
-
14 См. об этом: [Кибальник, 2017b: 78–79].
-
15 Некоторые элементы подобного анализа присутствуют в отдельных статьях обобщающего труда: [Касаткина: 173].
Список литературы Спор о церковном суде в романе "Братья Карамазовы" (Ф. М. Достоевский и Вл. С. Соловьев)
- Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». -СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2007. -637 с.
- Ветловская В. Е. Комментарии//Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. -СПб.: ИД «Петрополис», 2015. -С. 793-934.
- Викторович В. А. Достоевский и Вл. Соловьев//Достоевский и мировая культура: Альманах № 1. -СПб.: Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, 1993. -Ч. II. -191 с.
- Достоевская А. Г. Воспоминания. -М.: Худож. лит., 1981. -517 с.
- «Братья Карамазовы». Современные проблемы изучения романа/под ред. Т. А. Касаткиной. -М.: Наука, 2007. -835 с.
- Кибальник С. А. О философском подтексте формулы «Если Бога нет…» в творчестве Достоевского//Русская литература. -2012. -№ 3. -С. 153-163.
- Кибальник С. А. Гоголь, Достоевский и «социальное христианство»//Вопросы философии. -2017. -№ 4. -С. 150-158. (a)
- Кибальник С. А. «Христианский социализм» или «социальное христианство»? (Гоголь и Достоевский в истории русской социально-философской мысли)//Проблемы исторической поэтики. -2017. -Т. 15. -№ 3. -С. 70-93 . -URL: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1506330970.pdf (02.03.2018). (b)
- Леонтьев К. Н. Византизм и славянство//Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. -СПб.: «Владимир Даль», 2004. -Т. 7. -Кн. 1. -С. 300-443.
- Никитина Ф. Г. Идеи Ламенне в России//Достоевский и мировая культура: Альманах № 8. -М.: Классика плюс, 1997. -С. 201-226.
- Радлов Э. Л. Соловьев и Достоевский//О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. Сб. статей. -М.: Книга, 1990. -С. 316-331.
- Розанов В. В. Размолвка между Достоевским и Соловьевым//Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX -начала XX века. -СПб.: Худож. лит., 1997. -С. 251-260.
- Соловьев В. С. Кризис западной философии//Соловьев В. С. Собр. соч.: в №9> т. -СПб., б. г. -Т. 1 (1873-1877). -С. 26-144.
- Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал//Соловьев В. С. Собр. соч.: в №9> т. -СПб., б. г. -Т. 2 (1878-1880). -С. 1-374.
- Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского//Философия искусства и литературная критика. -М.: Искусство, 1991. -С. 227-259.
- Соловьев В. С. Философские начала цельного знания//Соловьев В. С. Собр. соч.: в №9> т. -СПб., б. г. -Т. 1 (1873-1877). -С. 227-375.
- Соловьев В. Чтения о Богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров». Краткая повесть об Антихристе. -СПб.: Худож. лит., 1994. -527 с.
- Стоюнина М. Н. Мои воспоминания о Достоевских//Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. -СПб.: Андреев и сыновья, 1993. -331 с.
- Трубецкой Е. В. Миросозерцание Владимира Соловьева//Владимир Соловьев: pro et contra. Личность и творчество Владимир Соловьева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология: в 2 т. -СПб.: РХГИ, 2002. -Т. 2. -815 с.