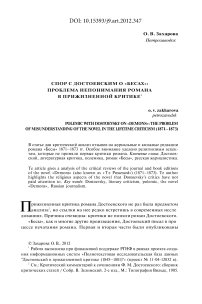Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.10, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье дан критический анализ отзывов на журнальные и книжные редакции романа «Бесы» 1871–1873 гг. Особое внимание уделено религиозным аспек- там, которые не приняли первые критики романа.
Достоевский, литературная критика, полемика, роман "бесы", русская журналистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14748828
IDR: 14748828
Текст научной статьи Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике
Te article gives a analysis of the critical reviews of the journal and book editions of the novel «Demons» (also known as «Te Possessed») (1871–1873). Te author highlights the religious aspects of the novel that Dostoevsky’s critics have not paid attention to. Key words: Dostoevsky, literary criticism, polemic, the novel «Demons», Russian journalism.
рижизненная критика романа Достоевского не раз была предметом анализа2, но ссылки на нее редко встретишь в современных иссле дованиях. Причина очевидна: критики не поняли роман Достоевского.
«Бесы», как и многие другие произведения, Достоевский писал в про цессе печатания романа. Первая и вторая части были опубликованы
-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта создания информационных систем «Полнотекстовая исследовательская база данных "Достоевский в прижизненной критике (1845–1881)"» (проект № 11-04-12032 в).
-
2 См.: Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского: сборник критических статей / Собр. В. Зелинский. 2-е изд., М.: Типография Вильде, 1905.
в «Русском Вестнике» за 1871 г. Отказ редакции журнала печатать главу «У Тихона» почти на год прервал публикацию романа3. Завершение публикации «Бесов» в ноябре – декабре 1872 г. совпало с выходом от дельного издания романа в январе 1873 г. В течение двух лет автор вы слушивал мнения критиков, которые в той или иной степени влияли на процесс создания романа и будущих его сочинений. Достоевский мог принимать или не принимать критику, но бесследно она не проходила.
Первые отклики на роман появились уже в феврале 1871 г.
Критики высказывались по поводу «общихъ достоинствъ и недостат ковъ автора «Преступленiя и наказанiя»», отмечали: …тонкій анализъ въ композиціи характеровъ лицъ, ум нiе разгадывать смыслъ душевныхъ движеній и, въ то же время, излишняя и м стами очень утомительная плодовитость въ разсказ и мелкія, но, въ сущности, весьма важныя черты неестественности, которыя м шаютъ художественной полнот и правд создаваемыхъ авторомъ типовъ и положеній»4, говорили, что Достоевский «зам чательный психологъ», что его новый роман «обещаетъ быть весьма интереснымъ», но творческая сила писателя «ослаб ла»5, обращали внимание на Степана Трофимовича, который обрисован «довольно слабохарактернымъ, слегка либеральнымъ уче нымъ», обличали его отношения с Варварой Петровной Ставрогиной:
Дружба эта, основанная на подчиненiи добродушнаго Степана
Трофимовича энергической и притомъ весьма своеобразной Варвар Петровн , очерчена авторомъ съ большимъ мастерствомъ и потому, не смо тря на свою исключительность, д лается для читателя совершенно понят ною, обрисовывая въ то же время чрезвычайно м тко характеръ стараго идеалиста, приб гающаго въ крайнихъ случаяхъ, для выраженiя своихъ ли беральныхъ мыслей, къ французскимъ фразамъ6.
Откликнулся на первые главы романа В. П. Буренин, критик и фелье тонист газеты «Санкт Петербугские Ведомости». Его неприятие романа выразилось уже в первом отзыве:
«Б совъ» г. Достоевскаго покуда появилось дв главы. Въ этихъ главахъ есть очень недурно обрисованное лицо – устар лый либералъ сороковыхъ годовъ. <…> Вм ст съ живыми лицами, въ род помянутаго либерала, выходятъ куклы и надуманныя фигурки; разсказъ тонетъ въ масс ненуж ныхъ причитанiй, исполненныхъ нервической злости на многое, что вовсе не должно бы вызывать злости, и т. п. Нервическая злость м шаетъ много роману и побуждаетъ автора на выходки, безъ которыхъ, право, можно было бы обойтись7.
Почти год спустя, 15 января 1872 г., признавая «крупный литератур ный талантъ» писателя, Буренин упрекал Достоевского:
Концепцiя «Б совъ» смутная, путанная, какъ вообще въ посл днихъ произведенiяхъ г. Достоевскаго; но въ немъ выдаются страницы большаго интереса, и сцены, написанныя со вс мъ блескомъ таланта8.
Более детально Буренин останавливается на анализе седьмой и вось мой глав, в которых «талантливый авторъ столько напустилъ стеб ницизма, что за него сов стно». Монологи героев романа, в которых «аномалiи современнаго развитiя прiурочены столь искусно къ общему настроенiю жизни», по мнению критика, «ретрограды» могут цитиро вать «въ подтвержденiе своихъ мыслей о всеобщемъ растл нiи совре меннаго русскаго общества»9.
Одним из немногих, кто осторожно похвалил роман, был А. П. Чебы шев Дмитриев, который писал, что роман, «хотя и не принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ автора, но, всетаки, является однимъ изъ капитальн йшихъ явленій русской литературы за нын шній годъ»10.
Особенно яростно напал на роман Достоевского Д. Д. Минаев. В фельетоне «Невинные заметки» (под псевдонимом L’homme qui rit, что в переводе с французского означает: «Человек, который смеется») он крайне резко отзывается о новом произведении писателя, публикация которого в журнале М. Н. Каткова после напечатанного в 1870 г. романа Н. С. Лескова «На ножах» является свидетельством того, что «наступи ли дни вавилонскаго см шенiя принциповъ, людей, понятiй, цинической откровенности и открытаго ренегатства», называет это «литературной кадрилью «Русского Вестника»»11, в результате которой Достоевский и Лесков «окатковились», «слились въ какой-то единый типъ, въ гомункула, родившагося въ знаменитой чернильнице», образовали «оркестръ г. Каткова»12. По мнению Д. Минаева, «каждый изъ этихъ романис товъ, сбросивъ шкурку своей индивидуальности, “озлобленный на новый вт>къ и нравы”, и отъ обскурантной злобы зеленая... обзавелся охотничьей трещоткой для запугиванья краснаго зверя, т. е. публики, разными красными призраками» и начал «облаву», «художественную травлю»13. Романы «Бесы» и «На ножах» он предложил рассматривать как «одно цельное произведете», так как они «есть ничто иное, какъ иллюстра-щя къ передовымъ статьямъ “Московскихъ Ведомостей”, передан-нымъ въ форме д1алоговъ и приправленнымъ нервно-болезненнымъ анализомъ Ф. Достоевскаго и видоковскою пронзительностью автора “Некуда”»14. Как иронизировал Минаев, герои романа «Бесы» - «невозможные монстры», выступают «въ качестве ехидныхъ злодЬевъ, умопотрясителей и изверговъ «новой идеи», порожденныхъ будто-бы сокрушитель нымъ духомъ времени», они «действительно, могутъ запугать воображеше доверчивыхъ замосковскихъ подписчиковъ», которые поверят в их правдивость15. Неприятие критиком произведений Достоевского и Лескова обнаруживается в таких выражениях:
...каждая глава романа есть новая мерзость, новый ужасъ, идупде crescendo; къ счастно для читателей, эти ужасы отличаются такимъ пересоломъ, та-кимъ уродовашемъ действительности, что подъ конецъ становятся смЬшны по своей каррикатурности16.
Критик «Биржевых Ведомостей», оспорив оценку таланта Достоевского Белинским, сравнил автора романа с гоголевским Поприщиным («Записки сумасшедшего»), который «не говорилъ ничего подобнаго тому, что разсказываетъ этотъ писатель о нашихъ отечественныхъ юно-шахъ», а «г. Достоевскш, человекъ несомнт>ннаго литературнаго таланта и находящшся притомъ въ полной памяти, хочетъ уверить насъ въ действительности существовашя типовъ, подобныхъ темъ, которыхъ
11 L’homme qui rit [Минаев Д. Д.]. Невинные заметки // Дело. 1871. № 11. Ноябрь. C. 57.
Там же. С. 57–58.
Там же. С. 58.
Там же. С. 58.
Там же. С. 58–59.
Там же. С. 59.
онъ рисуетъ намъ въ своемъ роман* “Бесы”»17. Критика возмущает, что «Шигалевщину», «весь этотъ бредь», «характеры болезненные, эксцентричные», «весь этотъ госпиталь его последняго еще неоконченна-го произведенш» автор выдает «за собрате людей новаго времени»18.
15 декабря 1872 г. вышла декабрьская книжка «Русского Вестника» с окончанием романа, а 16 декабря В. П. Буренин уже дал его оценку, отметив, что «Бесы» Достоевского «едва ли не лучшш романъ за настоя-щш годъ», несмотря на «фантасмагоричность этого романа» и «на всю болезненность творчества даровитаго автора»19.
Упреки в «фантасмагоричности» романа Достоевского критик развил в статье от 6 января 1873 г.:
Фактически подробности «исторш» и нЬкоторыя разсужденш отчасти заимствованы изъ одного недавняго процесса, отчасти созданы собственной фантаз1ей г. Достоевскаго, иногда разыгрывающейся съ цЬлью усилить гнусность поведенк и убьжденш негодяя, полунегодяевъ и полуидютовъ, иногда безъ всякой цЬли, единственно ради болЬзненно-мистическихъ капризовъ и бредней автора20.
По его мнению, фабула романа «крайне спутана: въ романъ введено много эпизодовъ и сценъ, вовсе не относящихся къ его основе, и прито-мъ эпизодовъ очень туманно мотивированныхъ», «вопреки требован1я-мъ искусства» они усугубляют композицию, в результате создается «разнообразная, пестрая и крайне-хаотическая картина»; образы «подполья» выглядят «фантасмогорическими призраками, пожалуй компашей субъ-ектовъ изъ съумасшедшаго дома», это «съумасшедшая компан1я», которую автор романа создает «по своему образу и подобие» 21 .
В первых же отзывах на роман ВОЗНИКЛИ пересуды критиков о том, что в «Бесах» Достоевский опирается на стенографические отчеты по делу Нечаева. Такой же вывод делает и Буренин, который замечает, что «къ мистическому бреду», «къ кликушечному настроение»» писатель «подбавляетъ некоторыя фразы и дЬйств1я, почти целикомъ заимство-ванныя изъ стенографическихъ отчетовъ о процессе, послужившемъ ему програмой для общаго содержанія романа и для н которыхъ его главъ»22. Он упрекает Достоевского в отсутствии анализа «условiй, при которыхъ появляются компанiи, въ род описываемой», и прихо дит к выводу, что этот анализ автор устраняет сознательно, так как «ему была дорога не истина д йствительности, а фантасмогорія, созданная его бол зненнымъ воображеніемъ»23. Монологи Шатова и Кирилова Буренин оценивает как «дикія» мнения. Он считает, что Достоевский приписывает свойственный собственному воображению мистицизм молодежи, которая «больна многимъ, но отъ мистицизма она, кажется, свободна», и ставит вопрос, возможны ли в действительности Шатов и Кирилов: первый – «задается» «дикою в рой въ какое то особенное апокалипсическое значеніе русскаго народа», второй несет мистический вздор, который «просто невыносимъ по своей нел пости»24.
Статья от 13 января 1873 г. посвящена анализу «реальной» стороны, лицам живым, без «признаковъ бол зненной авторской фанта зiи»25. Таким, по мнению Буренина, является Степан Трофимович Верхо венский, чья фигура «составляетъ средоточiе всего романа» и «за одно это живое лицо произведенiе… должно быть причислено къ категорiи т хъ, которыя являются продуктами творчества и мысли»26. Степан Трофимович – «это довольно обычный герой и довольно обычная тема многихъ пов стей и романовъ… писателей прежней литератур ной школы», но Достоевский, по мнению критика, «проштудировалъ его съ новой стороны и затронулъ новые, очень интересные мотивы»27. В его лице Достоевский изобразил «среднiй типъ либерала мечтате ля сороковыхъ годовъ, типъ тряпичнаго героя, у котораго бесплод ныя фразы и не мен е безплодная чувствительность поглотили все его существованiе»28. Образ либерала мечтателя является, по мнению Буренина, свидетельством настоящего творчества, художественного ма стерства Достоевского, так как «по художественной живописи, ясности и реальности представленiя, по глубин художественнаго анализа, типъ
Верховенскаго приближается къ типамъ, созданнымъ нашими лучшими писателями»29.
Активное участие в обсуждении романа приняли фельетони сты и обозреватели газеты «Голос». Один из фельетонистов газеты «Голос» Л. К. Панютин (под псевдонимом Нил Адмирари, что в пе реводе с латинского языка значило: «ничему не удивляйся») отмечал 14 января, что в «Бесах» «еще зам тн е стремленіе къ бол зненной фантастичности»30. Портрет писателя, написанный В. Г. Перовым, вызвал у Панютина «жалостливость»: это «портретъ челов ка, истомленнаго тяжкимъ недугомъ»31. Для «спасения» литературной репутации он сове тует писателю «почаще прочитывать имъ самимъ н когда писанное»32. 21 января Л. К. Панютин продолжил нападки на Достоевского, утвер ждая, что больной писатель вступил в борьбу «съ “сумасброднымъ прогресомъ”»33. Достоевский полемически ответил на личные выпа ды фельетониста «Голоса» в своем «Дневнике писателя» – в рассказе «Бобок» и в фельетоне «Полписьма одного лица»34.
Анонимный обозреватель «Московских заметок» обратился к ро ману в связи с началом публикации в «Московских ведомостях» 9 ян варя 1873 г. стенографического отчета по процессу над С. Г. Нечаевым в Московском окружном суде. Из стенографического отчета и из ро мана Достоевского обзревателю непонятны причины влияния, ко торым пользовался Нечаев. Прочтение романа вызывает «тяжо лое впечатл нiе страшной безалаберности»35. Критик соглашается с В. П. Бурениным, что писатель многое заимствовал из стенографи ческого отчета о заседании петербургской судебной палаты по «неча евскому» делу (1871), приводя пример – рассказ об убиении Шатова, которое в деталях «совпадает» с показаниями подсудимых об убийстве Иванова. Он упрекает писателя в том, что тот не ограничился «на су-дебномъ разбирательств*» и предпринял попытку «обобщить фактъ въ художественномъ произведенш, указать на “Бт>совъ”, которые, будто бы, целыми вереницами возятся въ нашей общественной жизни»36.
В следующем номере газеты нападки на Достоевского и его роман продолжил А. Г. Ковнер, который причислил «Бесы» к литературным курьезам37. Основной идеей романа он назвал «осмт>ян1е и безъ того смт>шныхъ нашихъ доморощенныхъ революцюнеровъ»38. Вслед за В. П. Бурениным и обозревателем «Московских заметок» А. Г. Ковнер иронизирует, что Достоевский взял «для своего “капитального произ-веден1я” цт>ликомъ изъ стенографическихъ отчетовъ готовыхъ героевъ и готовыхъ рт>чей», но этого мало - «готовыхъ, живыхъ людей, превращаете... въ идютовъ и маньяковъ и заставляетъ ихъ бредить на яву»39. По мнению А. Г. Ковнера, Достоевский «не объясняетъ причины», а «просто издевается надъ своими героями и заставляетъ ихъ рт>зать и вт>шать другъ друга безъ всякаго на то основашя»40. Курьезность романа фельетонист видит в том, что «что ни герой, то съумашедшш, убшца, самоубшца»41. В фельетоне «Литературные и общественные курьезы» от 25 января А. Г. Ковнер ставит в один ряд «Бесы» и «болезненный» «Дневник писателя», который «никоимъ образомъ не пишется “мозгомъ”»42. По его мнению, «грустно становится за писателя, который не понимаетъ больше окружающей его жизни съ настоящими ея страдашями, который неспособенъ уразуметь настоящш смыслъ снисходительности суда присяжныхъ и который, останавливаясь на ка-комъ-нибудь единичномъ уродливомъ явленш, анализируетъ его, какъ м1ровое собьте, и выводить изъ него законъ для общаго цт>лаго!..»43 В фельетоне от 1-го марта Ковнер призывает Достоевского «покаяться», он «краснеет» за писателя, упрекает его в двойственности идей, представленных, с одной стороны, в «Бедных людях», «Униженных и оскорбленных», «Записках из Мертвого дома» а с другой - «Бесах» и «Дневнике писателя»44. Роман Достоевского фельетонист называет «мистическимъ бредомъ», который никто не читает а если читает, то «Бесы» вызывают у читателя «горькое сожалт>н1е»45.
Другой критик «Голоса» иронизировал:
... г. Достоевскш, объяснивши! явлеше нигилизма тЬмъ, что нигилисты были т Ь самыя нечистыя животныя, въ которыхъ «во-время оно» повелЬно было вселиться «бъхамъ», еще такъ недавно утопилъ ихъ, всЬхъ до послЬдняго, именно въ «Русскомъ ВъхтникЬ», обративъ его на время въ Геннисаретское Озеро46.
В завершение своего пассажа критик готов был обвинить автора «Бесов» ни много ни мало в плагиате:
...манера оживлять романъ подробностями изъ действительной жизни, вчера только вычитанными въ газетныхъ кореспонденц1яхъ или стеногра-фическихъ отчотахъ судебныхъ засЬданш, не можетъ считаться достойною подражан1я, хотя бы потому, что это своего рода плапатъ47.
С критикой либерального «Голоса» были солидарны сотрудники сатирического журнала «Искра».
А. М. Скабичевский назвал «Бесы» Достоевского наряду с романом Лескова «Соборяне» «омерзительным фактом», оба романа «особенно ярко характеризуютъ своимъ уродствомъ наше время»48.
Д. Д. Минаев отнес роман «Бесы» «къ замт>чательнымъ произве-ден1ямъ нашей бт>дной современной литературы, но вовсе не съ художественной точки зрт>н1я, а единственно съ патологической, врачебной», так как «Бесы» оставляют «точно такое же крайне тяжелое впечатлите, какъ посЬщеше дома умалишенныхъ», «безполезное»49. По мнению автора, все действующие лица - «больные, тронутыя, съ поврежденными мозгами»50. Вспоминая эпиграф к роману, Минаев острит, что «отъ свиней и вообще ничего хорошаго ожидать нельзя, а отъ б снующихся – т мъ мен е, но не м шало бы вывести въ роман хоть одного такого челов ка, который бы напоминалъ собою исц лившагося, “сидящаго у ногъ Iисусовыхъ, од таго и въ здоровомъ ум ”»51. Состязаясь с самим собой в остроумии, Д. Д. Минаев объявил, что Достоевский «сочиняет теперь, тоже въ одиночку, – контръ революцiю»52.
В памфлете «Кому на Руси жить хорошо» Д. Д. Минаев описал обитателей сумасшедшего дома, куда он поселил «обезумевшего» Достоевского, которому сочинил такие слова:
Повсюду царство дьявола… Въ отставку подалъ Богъ… Лишь я чертей вс хъ выведу… Бобокъ…бобокъ…бобокъ!..
Пожары…революцiи…
Порокъ – вдоль поперегъ
Кто это?… «Б сы»? Стойте же!
Бобокъ, бобокъ, бобокъ…53
На выставке в Академии художеств он обнаружил «состряпанные по Достоевскому, по его мистически туманному съ бол зненными ужасами рецепту» картины Бронникова «Гимн пифагорейцев» и «Мозаичистов в инквизиции»54. В назидание автору и читателям фе льетонист сочинил, что один читатель уже сошел с ума от чтения романа Достоевского55, подарил писателю на Пасху сюжет «мистически забо ристаго» романа «Оборотни»56.
Другой автор «Искры», сочинивший «Дневник прохожего», приду мал, как Макар Девушкин, герой первого романа Достоевского, читает «Бесы» «посл бани» и ничего не понимает:
…слова вс понимаю въ отд льности, а къ чему вотъ все сочиненіе кло нится, хоть громъ меня разрази – не постигаю.
Его оценка романа: «Мразь одна!57
Критик еженедельника «Сияние» заявил, что «Бесы» Достоевского вызывают, «кром чувствъ досады», «сожал нiе, можетъ даже грусть», читателю «будетъ больно вид ть паденiе писателя, безъ сомн нiя та лантливаго, и паденiе челов ка въ этомъ роман »58. Цель своей статьи он видит в том, чтобы «ясн е показать плачевные результаты ренегат ства, особенно р зко отд лить его прежнюю д ятельность отъ настоя щей и въ конц концовъ признать его “больнымъ”, а его образы – про изведенiями бол зненно растроеннаго воображенiя»59. По его мнению, к Достоевскому критик «можетъ отнестись лишь равнодушно или съ презр нiемъ и съ сожал нiемъ»60. Роман Достоевского он называет «кле ветой», в которой представлены все «изчадiя революцiи»: «…и пожа ры, и убiйства, и с ти интригъ, и политическая агитацiя, и разбойники, и разные “тайные агенты”, и чуть даже не сходки и митинги», в нем есть «вс небылицы и ужасы и н тъ, по обыкновенiю, только одного: истины, 61 справедливости и жизненной правды…»
В январском номере «Отечественных записок» за 1873 г. появилась статья Н. М. Михайловского «Литературные и журнальные заметки», в которой критик полемизирует с суждениями Достоевского о социа лизме62. В «Дневнике писателя» (Гражданин. 1873. № 1) писатель вспо минал, что он «засталъ Б линскаго страстнымъ соцiалистомъ и онъ прямо началъ со мной съ атеизма», что ему «прежде всего сл довало низложить христiанство», «ему надо было низложить ту религiю, изъ ко торой возникли нравственныя основанiя отрицаемаго имъ общества»63. Оспаривая взгляды Достоевского и его опасения за будущее России, выразившиеся в романе «Бесы», Михайловский заявляет о социализме «какъ объ экономическомъ ученiи», имеющем в вопросах богословия «самыя различныя мн нiя», вплоть до тех, «въ которыхъ на бытiи бо жiемъ настаивается въ самыхъ опред ленныхъ и подчасъ пламенныхъ выраженiяхъ»64. Михайловский полагал, что «почти вс соцiалисты признавали» христианство «ученiемъ высоко нравственнымъ», а «неос новательныя показанiя и рассужденiя» Достоевского «путаютъ общест во и извращаютъ истину»65. По мнению автора заметок, «это ведетъ къ множеству печальныхъ результатовъ», один из которых – Нечаевское дело, «русская молодежь могла бы отв тить на вс его искушенiя», так как международному обществу рабочих «въ Россiи… д лать нечего», «соцiализмъ въ Россiи консервативенъ»66. История опровергла иллюзии Михайловского и, к сожалению, подтвердила опасения Достоевского.
Критику романа Достоевского Михайловский продолжил в февраль ском номере «Отечественных записок». По его мнению, «психиатри ческий» талант Достоевского более подходит для написания романов XIV–XV вв., в которых изображаются «вс эти бичующiеся, демонома ны, ликантропы, вс эти макабрскiе танцы, пиры во время чумы и проч., весь этотъ поразительный переплетъ эгоизма съ чувствомъ гр ха и жа ждой искупленiя»67. Среди героев Достоевского критик выделяет тип идеалиста сороковых годов, которому писатель «придаетъ… св жесть и оригинальность», но если «прекрасные фигуры» Степана Трофимовича и Кармазинова «впадаютъ м стами въ шаржу, то фигуры супруговъ Лембке положительно безупречны»68. Он порицает автора за «молодыхъ людей», которые «держатся на границ ума и безумiя, нормальнаго и не нормальнаго состоянiя воли», «занимающихся разр шенiемъ религiоз ныхъ вопросовъ»69. Критик сомневается в том, что «русская молодежь такъ пристально занимается мистико религiозными вопросами»70. По его мнению, Достоевский «не им етъ права выставлять эти черты въ качеств характерныхъ, типическихъ»71.
Особое внимание критик уделил эпиграфу об исцелении беснова того к «Бесам» Достоевского, который, по замечанию Михайловского, «получаетъ въ конц романа спецiальное объясненiе»72. Он спрашивает, «кто эти свиньи, въ которыхъ вселяются б сы, изгоняемые изъ больной Россiи», в чем «состоитъ ихъ б совскiй элементъ»73? В поисках ответа
Там же.
Там же. С. 160–161.
М. Н. [Михайловский Н. М.] Литературные и журнальные заметки // Оте-
чественные записки. 1873. Т. 206. Февраль. С. 315–316.
Там же. С. 317.
Там же. С. 317–322.
Там же. С. 323.
Там же. С. 324.
Там же. С. 326.
Там же. С. 326.
Михайловский обратился к «Дневнику писателя» Достоевского, кото рый «пишется подъ непосредственнымъ влiянiемъ писанiя “Б совъ”, но дневникъ этотъ можетъ быть разсматриваемъ какъ комментарiй къ “Б самъ”74. Так, Николай Ставрогин, по определению Михайловского, – «фигура съ претензiями, но крайне тусклая», который действует «въ качеств члена тайнаго “сладострастнаго” общества, “у котораго мар кизъ де Садъ могъ бы поучиться”, которое “заманивало и развраща ло д тей”»75. Критик не понимает характер героя, отношение к нему Достоевского и, сравнивая Ставрогина с «дерзостнымъ» и «кающим ся» мужиком (Власом) из «Дневника писателя», находит много обще го между ними: их безобразия объясняются «потребностью къ дер зости», жаждой страдания, «страстной потребностью» «искупить дерзость, гр хъ»76. Тихон представляется Михайловскому «схимни комъ», «монахомъ сов тодателемъ», «къ которому дерзостный му жикъ идетъ за эпитемьей»77. Отличие героя заключается лишь в том, что «Ставрогинъ не пошелъ за эпитемьей, не пошелъ за активнымъ, такъ сказать, страданiемъ, а страданiя пассивнаго, предложеннаго стеченiемъ жизненныхъ обстоятельствъ, не вынесъ и пов сился»78.
В рецензии Михайловского обращает на себя внимание значение, которое критик придал образу старца Тихона. В печатных редакциях романа, журнальной 1871–1872 гг. и книжной 1873 г., эпизод с испо ведью Ставрогина отсутствует. От первоначального замысла осталась лишь одна фраза:
Слушайте, сходите къ Тихону. <….> Къ Тихону. Тихонъ, бывшiй архiерей, по бол зни живетъ на поко , зд сь въ город , въ черт города, въ нашемъ Ефимьевскомъ Богородскомъ монастыр . <…> Къ нему здятъ и ходятъ. Сходите; чего вамъ? Ну чего вамъ?79
На нее мало кто обратил внимание. Придать ей значение мог тот, кто знал обстоятельства конфликта писателя с редакцией «Русского Вестника» и содержание отвергнутой М. Н. Катковым главы «У Тихона».
Вполне возможно, что Михайловский присутствовал при публичном чтении Достоевским этой главы или имел подробные сведения о ее со-держании80. Анализ образа Ставрогина определенно свидетельствует о посвященности критика в нереализованный замысел Достоевского.
Критик упрекал писателя в двусмысленном употреблении слова «Бог» автором и его героями: «...и г. Достоевскш, и Шатовъ, къ сожалт>нпо, иг-раютъ словомъ “Богъ”»81. Один смысл, «который ему придается всЬми людьми, какъ верующими всЬми исповт>данш, такъ и не верующими», когда «громятъ атеистовъ... въ качеств* людей, отрицающихъ суще-ствоваше личности творца вселенной», другой смысл - «нт>что иное, и именно кажется совокупность и высшую точку развитая нацюналь-ныхъ особенностей», в связи с чем «человт>къ, оторванный отъ народной, нацюнальной почвы, тт>мъ самымъ уже становится атеистомъ»82.
Михайловский так истолковывает суть идей и смысл романа Достоевского:
Бъхноватый больной, - это Россы, въ которую вселились бъхы, въ точности неизвестно когда. Бъхы, - это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко, - это оторванные отъ народной почвы citoyens du monde, это, «мы, мы и тЬ, и Петруша et les autres avec lui». ВсЬ они сохранили въ себь одну черту русскаго народнаго характера, - потребность дерзости, жажду отрицанш и разрушены83.
Как и другие критики, Михайловский не видит пророческого значения романа, он упрекает автора, что больной не исцелился и не сидит у ног Иисусовых, и иронично предполагает, что этого не происходит, так как «еще не вст> свиньи перетонули, а можетъ быть и потому, что народились новыя, особенныя, которыхъ г. Достоевскш просмотрт>лъ»84. Критик пытается убедить писателя в том, что «онъ многое просмотрт>лъ, онъ все просмотрт>лъ...», просмотрел «любопытнейшую и характернейшую черту нашего времени»85. Он укоряет писателя:
...еслибы вы не играли словомъ «Богъ» и ближе познакомились съ по-зоримымъ вами сощализмомъ, вы убедились бы, что онъ совпадаетъ съ некоторыми, по крайней мЬрЬ, элементами народной русской правды86.
Михайловский отрицал религиозный смысл романа. Он упрекает писателя, что в его романе «нт>тъ 6t>ca национального богатства, 6t>ca, самого распространеннаго и менее всякаго другого знающаго границы добра и зла», что в своем романе писатель ухватился «не за тт>хъ бесовъ»87. Критик и публицист готов оправдать одного беса - «6t>ca служен1я народу»: «пусть онъ будетъ действительно бесъ, изгнанный из больного тела Россш, - жаждетъ въ той или другой форме искуплен1я, въ этомъ именно вся его суть»88. Не разделяя опасений Достоевского, моралист не замечает, что учит писателя тому, что тот знает:
...рисуйте действительно нераскаянныхъ грЬшниковъ, рисуйте фанати-ковъ собственной персоны, фанатиковъ мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства89.
Общим местом в критике стало отрицание художественного значения романа. Так, обозреватель «Отечественных записок» Н. А. Деметр назвал «Бесы» как пример «уродливыхъ романовъ», которые «безъ позевоты и потяготы, действительно, читать невозможно»90.
Откровенная ругань в адрес романа содержится в «Современном обозрении» журнала «Дело», озаглавленном «Больные люди». Автором статьи был П. Н. Ткачев. Он замечает, что в юности Достоевский «увлекался», но «давно... покаялся и отрекся»91. Покаяние писатель, по мнению критика, начал «тихонько и исподволь: съ гг. Страхова, Апполона Григорьева и незабвенныхъ “кнутиковъ либерализма”, а кон-чилъ Мещерскимъ, “Гражданиномъ” и “Бесами”. “Русскш Вестникъ” служилъ ему переходною ступенью изъ стойла «Эпохи» въ причетническую “Гражданина”; “кнутики либерализма” и “свистуны изъ-за куска хлеба” логически привели его къ бесовщине г. Стебницкаго»92. Ткачев иронизирует над сетованием писателя, «что его не понимаютъ », притворно восклицает «бедный Достоевскш», высокомерно поучает:
...несчастное неумЬше сообразовать свои мысли и желанш съ словами, или, лучше сказать, полнЬйшее отсутств1е такта - того такта, безъ котораго и умный человЬкъ рискуетъ прослыть за полуумнаго, - вотъ это-то и состав-ляетъ, какъ кажется, характеристическую, болЬзненную особенность таланта г. Достоевскаго. Въ головЬ у него точно сидитъ какой-то злой духъ и, помимо воли и желанш бьднаго автора, постоянно заставляетъ его выдЬлывать таюе поступки и произносить такт рЬчи, отъ которыхъ ему самому впослЬдствш приходится отрекаться93.
Он предполагает, что автору «Двойника», предоставившему «тон-кш и необыкновенно искусный анализъ некотораго ncuxiampmecKazo случая, характеризующегося раздвоетемъ сознан1я», это состояние хорошо знакомо:
... въ г. Достоевскомъ тоже сидятъ два человека, его сознаше разделилось на два я: одно я сознаетъ себя неспособнымъ писать пасквили и гордо объявляете что оно «не торгуетъ своимъ перомъ» и гнушается даже самой мысли о какихъ-нибудь «заискиваншхъ au haut lieu» (Гражд. № 3). Другое я - ами-кошонствуетъ съ Мещерскимъ, сочиняетъ крокодиловъ, пишетъ инсинуацш на присяжныхъ и соперничаетъ съ Лъхковымъ въ «Бъхахъ»94.
Критик называет Достоевского «не просто кающимся и отрекающимся, а двойникомъ, одна половинка котораго кается и отрекается, а другая отнекивается отъ этого покаян1я и отречен1я», поэтому все его герои «странны и бесноваты»95. Он подозревает в Достоевском «болезненное настроеше ума» и приводит в доказательство публицистические статьи, в которых, на его взгляд, писатель «имеетъ обыкновеше выражаться такъ неясно, неопределенно, такъ мистически-туманно, такъ аллегорично», что он «двусмысленней»96. В романе «Бесы» критик видит разлад между тенденциозностью («не то благонамеренной, не то мистической») и художественностью, разлад между первым «я» и вторым «я» Достоевского97. Он упрекает Достоевского, что «беллетристъ, пичкаю-щш свои романичесюе вымыслы сырыми и непереработанными фактами и анекдотами изъ действительной жизни, перестаетъ быть художни-комъ и превращается въ простого хроникера, а подчасъ и сплетника», что «онъ всегда строго и буквально придерживается “документовъ”; безъ ихъ помощи онъ не въ состоянiи сочинить ни одной “ужасти”, даже ни одной сплетни, ни одного скандала», в отсутствии «всякой творче ской фантазiи»98, снисходительно наставляет писателя:
…процессъ художественного творчества и процессъ воспроизведенiя и передачи д йствительно свершившихся фактовъ – это два совершенно различные, и, во многихъ отношенiяхъ, дiаметрально противуположные процесса, см шивать ихъ никогда не сл дуетъ99.
По его мнению, герои Достоевского – «почти всегда ненормаль ные люди», в них «начинается вырожденiе челов ческаго характера, – вырожденiе, оканчивающееся идiотизмомъ, эпилепсiею, нравствен нымъ или мыслительнымъ пом шательствомъ»100, они не являются лучшими представителями своего поколения: «…въ бол зненныхъ пред ставленiяхъ уродцевъ, созданныхъ не совс мъ нормальной фантазiей г. Достоевскаго, – уродцевъ пом шавшихся на какихъ то неопред ленно мистическихъ пунктахъ, – очевидно, нисколько не отражается мiросо зерцанiе той среды, – среды лучшей образованной молодежи, изъ ко торой они вышли»101, писатель создает «ц лую галерею пом шанныхъ юношей… ни въ одномъ изъ нихъ не увидите ни образа, ни подобiя жи вого челов ка, это какiе то манекены, и къ каждому манекену нашитъ ярлыкъ съ означенiемъ характера бреда, которымъ онъ одержимъ»102. О Шатове Ткачев отказывается «говорить», так как «это плохое оли цетворенiе фельетоновъ “Гражданина” (Дневника писателя), какъ Верховенскiй олицетворенiе стенографическаго отчета, и ничего бол е», и «даже “Гражданинъ” не прочь позаимствовать у Шатова его мистиче скiя бредни»103. Достоевский изображает, по мнению критика, «боль ныхъ людей молодого поколенiя», «ложны ихъ характеры, вымышленно содержанiе ихъ бреда»104.
Критик снова и снова повторяет обвинение Достоевского в плагиате:
…начинаетъ переписывать судебную хронику, путая и перевирая факты, и наивно воображаетъ, будто онъ создаетъ художественное произведенiе105; …читатель видитъ только плохое олицетворенiе одного стараго стенографи ческаго отчета и пришитую къ нему б лыми нитками какую то нел пость, самимъ авторомъ изобр тенную; …простое, механическое сочетанiе отрыв ковъ стенографическаго отчета съ нел пыми идеями самого автора106.
В целом П. Н Ткачев представляет роман Достоевского как «пси хологическiй абсурдъ», это «исторiя умственнаго вырожденiя людей… людей, которые и не см ютъ, и не ум ютъ открыть доступъ своему иде алу во вн шнiй мiръ – въ мiръ широкой, практической д ятельности»107.
Однако всех превзошел в хамстве анонимный рецензент журнала «Дело». В том же номере, где было напечатано окончание статьи Ткачева, он дает С. Максимову, автору разбираемой книги «Куль хл ба и его по хожденiя», совет бросить сочинительство и поступить в «Гражданин», приводя в аргумент следующее соображение:
г. Достоевскiй былъ не хуже васъ; и ужь если челов къ, въ которомъ Б линскiй указывалъ чаянiе Израиля, дописавшись до чортиковъ въ своемъ роман «Б сы», поступилъ въ страннопрiимный домъ кн. Мещерскаго, – то вамъ то и подавно подобаетъ108.
Даже те из критиков, кто положительно отозвался о «Бесах», странно хвалили роман Достоевского. По мнению В. Г. Авсеенко, в «Бесах» пи сатель изображает «подполье нашей интеллигенціи», «явленіе вполн паталогическое, порожденное безпочвенностью нашей цивилизаціи отъ вчеряшняго числа и язвою полуобразованности»109. Критик ду мает, что делает автору комплимент: «...душевная патологiя» изучена им «въ совершенств*»110. В «Бесах» писатель «отъ анализа больной человеческой натуры перешелъ къ анализу больнаго общества, обобщая паталогическш явлен1я до степени бол*зни в*ка»т. Тривиально суждение критика:
Читатель какъ бы присутствуетъ въ клиник* нравственныхъ и душев-ныхъ болЬзней и читаетъ надъ изголовьями пащентовъ ихъ скорбные листы112.
Отдельные верные суждения критика не меняют общей концепции романа в восприятии критикой. Критик верно вслед за автором отмечает, что идея романа «прозрачно выразилась въ знаменательномъ эпиграф*, взятомъ авторомъ изъ Евангелш отъ Луки», в заключительных словах Степана Трофимовича113. Истоками «шигалевщины», «интелли-гентнаго подполья» Авсеенко считает «неравенство духовное, присут-CTBie въ обществ* высшихъ способностей, высокаго уровня науки, образованности и таланта», с которыми они не могли смириться и поэтому стремились устроить так, «чтобы въ новомъ обществ* этимъ высшимъ способностямъ не было м*ста»114. Сравнивая произведения Писемского и «Бесы» Достоевского, Авсеенко приходит к выводу:
...OTcyrcTBie идеаловъ, ненависть къ идеаламъ, протестъ противъ духов-наго неравенства, протестъ ординарныхъ умовъ противъ болЬе развитыхъ организации - вотъ исходный пунктъ броженк, грозящаго обществу общимъ понижешемъ интеллектуальнаго и нравственнаго уровня115.
На страницах газеты «Голос» Авсеенко возразил М. Г. Вильде, который выставил ее как «единственный въ своемъ род*» “курьезъ”»116. В своем фельетоне он иронизирует над наблюдением Авсеенко, что «Бесы» Достоевского - «сощальный романъ», называет его «ме-дицинскимъ изсл*довашемъ», «трактатомъ псих1атрш, и его м*сто не въ литератур*, а въ клиник* душевныхъ бол*зней», это «сплошная галюцинащя» 117 . Для Вильде «Бесы» «глубокое», «безусловное
Там же. С. 800.
Там же. С. 801.
Там же. С. 815.
Там же. С. 801.
Там же. С. 826.
Там же. С. 830.
W. [Вильде М. Г.] Литература и жизнь // Голос. 1873. № 253 (13 сент.).
Там же.
падете некогда значительнаго таланта»118. Он спешит уверить читателя, что «вст> бт>сы и вст> бт>сенята» существуют «въ болЪзненномъ воображении самого г. Достоевскаго», «люди романа г. Достоевскаго жи-вутъ, мыслятъ и дЬйствуютъ какъ бы внт> условш времени и общества, сосредоточенные въ себт> и въ фантастическихъ настроен1яхъ своего воспаленнаго мозга»119.
В целом прижизненная критика не приняла «Бесов»: клеймила автора в том, что он реакционер, ренегат, мракобес, сумасшедший эпилептик, упрекала его за то, что он оклеветал молодежь, раздражалась от обсуждения героями религиозных тем, не приняла христианское содержание романа.
Так спором с Достоевским был начат спор о романе, который был продолжен полемикой вокруг редакторства Достоевского в «Гражданине» и его «Дневника писателя».
Там же.
Там же.
Список литературы Спор с Достоевским о «Бесах»: проблема непонимания романа в прижизненной критике
- Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского: сборник критических статей/Собр. В. Зелинский. 2-е изд., М.: Типография Вильде, 1905.
- Замотин И. И. Ф. М. Достоевский в русской критике. Ч. I. 1846-1881. Варша-ва, 1913; Комментарии к изданию романа в собраниях сочинений Достоевского.
- Захаров В. Н. «Бесы»: опыт реконструкции журнальной редакции романа//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. Петрозаводск, 2010. Т. 9. С. 673-706.
- Библиография и журналистика//Голос. 1871. № 40 (9 февр.).
- Новые журналы//Биржевые ведомости. 1871. № 48 (19 февр.).
- Z. [Буренин В. П.] Журналистика//Санкт-Петербургские ведомости. 1871. № 65 (6 марта).
- Z. [Буренин В. П.] Журналистика//Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 15 (15 янв.).
- Ч. П. [Чебышев-Дмитриев А. П.] Журналистика и библиография//Голос. 1871. № 298 (28 окт.).
- L’homme qui rit [Минаев Д. Д.]. Невинные заметки//Дело. 1871. № 11. Ноябрь. C. 57.
- М. Н. Журналистика и библиография//Биржевые ведомости. 1872. № 83 (24 марта).
- Z. [Буренин В. П.] Журналистика//Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 345 (16 дек.).
- Z. [Буренин В. П.] Журналистика. «Бесы», роман г. Ф. Достоевского. («Русский вестник» 1871-1872 г.)//Санкт-Петербургские ведомости. 1873. № 6 (6 янв.).
- Z. [Буренин В. П.] Журналистика. «Бесы», роман г. Ф. Достоевского («Русский Вестник» 1871-1872 гг.)//Санкт-Петербургские ведомости. 1873. № 13 (13 янв.).
- Адмирари Нил [Панютин Л. К.]. Листок//Голос. 1873. № 14 (14 янв.).
- К. П. [Ковалевский П. М.] Вторая передвижная выставка картин русских художников//Отечественные записки. 1873. № 1. Январь. Т. 206. С. 94.
- Адмирари Нил [Панютин Л. К.]. Листок//Голос. 1873. № 14 (14 янв.).
- Адмирари Нил [Панютин Л. К.]. Листок//Голос. 1873. № 21 (21 янв.).
- Туниманов В. А. Л. К. Панютин и «Бобок» Достоевского//Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 2. Л., 1976. С. 160-164.
- Московские заметки//Голос. 1873. № 17 (17 янв.).
- Литературные и общественные курьезы//Голос. 1873. № 18 (18 янв.).
- Литературные и общественные курьезы//Голос. 1873. № 25 (25 янв.).
- Литературные и общественные курьезы//Голос. 1873. № 60 (1 марта).
- Литературные и общественные курьезы//Голос. 1873. № 74 (15 марта).
- Журналистика//Голос. 1873. № 47 (16 февр.).
- А. С. [Скабичевский А. М.] Общество и литература//Искра 1873. № 4 (14 февр.). C. 3.
- «Бесы» Федора Достоевского//Искра. 1873. № 6 (21 февр.). C. 5.
- М. [Минаев Д. Д.] Наши говоруны и общественные трапезы//Искра. 1873. № 9 (4 марта). С. 1.
- Литературное Домино. [Минаев Д. Д.] Кому на Руси жить хорошо//Искра. 1873. № 12 (14 марта). С. 7.
- М. [Минаев Д. Д.] На выставке в Академии художеств//Искра. 1873. № 14 (21 марта). С. 1-4.
- Неоконченное письмо. Всероссийская музыкальная реформа. (Несколько объяснительных слов)//Искра. 1873. № 14. (29 марта). С. 3.
- Литературное Домино. [Минаев Д. Д.] Праздничные подарки «Искры» (Сюжеты для современных русских деятелей)//Искра. 1873. № 19 (15 апр.). С. 3.
- Дневник прохожего//Искра. 1873. № 17 (1 апр.). С. 1.
- Новые книги. Бесы. Роман Федора Достоевского. В трех частях//Сияние. 1873. № 15. Т. 1. 20 апр. С. 239.
- М. Н. [Михайловский Н. М.] Литературные и журнальные заметки//Отечественные записки. 1873. Т. 206. Январь. С. 133-161.
- М. Н. [Михайловский Н. М.] Литературные и журнальные заметки//Отечественные записки. 1873. Т. 206. Февраль. С. 315-316.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты/Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. Т. 9.: Приложение: Бесы: роман: опыт реконструкции журнальной редакции: текстологическое исследование, комментарии. С. 246-247.
- Захаров В. Н. «Бесы»: опыт реконструкции журнальной редакции романа//Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. Т. 9. С. 675-677.
- М. Н. [Михайловский Н. М.] Литературные и журнальные заметки//Отечественные записки. 1873. Т. 206. Февраль. С. 332.
- Д. [Деметр Н. А.] Наши общественные дела//Отечественные записки. 1873. Т. 209. Июль. С. 146.
- П. Н. [Ткачев П. Н.] Больные люди. «Бесы», роман Федора Достоевского, в трех частях. Спб. 1873//Дело. 1873. № 3. Март. С. 151-152.
- П. Н. [Ткачев П. Н.] Больные люди. «Бесы», роман Федора Достоевского, в трех частях. Спб. 1873//Дело. 1873. № 4. Апрель. С. 368-369.
- П. Н. [Ткачев П. Н.] Больные люди. «Бесы», роман Федора Достоевского, в трех частях. Спб. 1873//Дело. 1873. № 3. Март. С. 160-161.
- П. Н. [Ткачев П. Н.] Больные люди. «Бесы», роман Федора Достоевского, в трех частях. Спб. 1873//Дело. 1873. № 4. Апрель. С. 369.
- Там же. С. 373-379.
- Куль хлеба и его похождения, рассказанные С. Максимовым. С 105 картинами и рисунками. Спб. 1873//Дело. 1873. № 4. Апрель. С. 392.
- А. [Авсеенко В. Г.] Общественная психология в романе Бесы, роман Федора Достоевского. В трех частях. С.-Петербург, 1873//Русский вестник. 1873. Т. 106. Август. С. 799.
- М. [Минаев Д. Д.] Фотографические карточки. V. На союз Ф. Достоевского с кн. Мещерским//Искра. 1873. № 2. С. 7.
- W. [Вильде М. Г.] Литература и жизнь//Голос. 1873. № 253 (13 сент.).