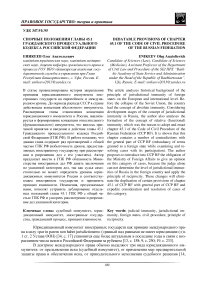Спорные положения главы 45.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
Автор: Еникеев Олег Анатольевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 4 (46), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована история закрепления принципа юрисдикционного иммунитета иностранных государств на европейском и международном уровне. До периода распада СССР в стране действовала концепция абсолютного иммунитета. Рассматривая этапы становления концепции юрисдикционного иммунитета в России, анализируется и формирование концепции относительного (функционального) иммунитета, что явилось причиной принятия и введение в действие главы 45.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). В работе показано, что данная глава содержит ряд противоречий с общей частью ГПК РФ (избыточность сроков, предоставляемых иностранному государству при рассмотрении и разрешении дел с его участием). Автор предлагает ввести в ГПК РФ обязанность Министерства иностранных дел РФ давать заключения по указанной категории дел, так как судья самостоятельно не может определить уровень юрисдикционных иммунитетов России в соответствующем иностранном государстве и применить принцип взаимности. Изменения, предложенные нами, позволят устранить дублирование отдельных положений главы 45.1 ГПК РФ с общей частью ГПК РФ и ускорить рассмотрение и разрешение дел указанной категории.
Судебный иммунитет, юрисдикционный иммунитет, иностранные государства, гражданский процесс, принцип взаимности
Короткий адрес: https://sciup.org/142233837
IDR: 142233837 | УДК: 347.91/.95
Текст научной статьи Спорные положения главы 45.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
Юрисдикционный иммунитет иностранных государств как принцип международного права в силу «par in parem non habet jurisdictionem» («равный над равными не имеет юрисдикции») (п. 1 ст. 2 Устава ООН) [34, c. 17] становится еще более актуальным в последние годы в связи с возрастанием числа исков к Российской Федерации за рубежом [13, c. 158; 9, c. 250; 19, c. 233].
В доктрине международного права обычно выделяют три вида юрисдикционного иммунитета: от предъявления иска (судебный иммунитет), от применения мер предварительной защиты права и обеспечения иска, от принудительного исполнения судебного решения [14,

c. 823; 20]. Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее ГПК РФ) [11, c.92] дополняет этот перечень иммунитетом иностранного государства от привлечения в качестве ответчика или третьего лица [15, c. 700]. Судебный иммунитет государства может быть конкретизиро- ван следующим образом: 1) ни одно государство не может принудить иностранное государство быть ответчиком в национальных судах [18, c. 61]; 2) иностранное государство подсудно судам другого государства в случаях прямо выраженного согласия со стороны этого иностранного государства [7, c. 213-238]; 3) совершение одним государством на территории другого государства юридических действий (приобретение движимого или недвижимого имущества, осуществление торговых, кредитных и иных операций) не означает тем самым подсудность судам иностранного государства; 4) явно выраженное согласие одного государства на рассмотрение дела судом иностранного государства не является согласием в отношении предварительного обеспечения судебного решения [3, c. 750].
Впервые принцип юрисдикционного иммунитета был применен в 1968 году, когда иностранный суд признал незаконным арест трех испанских военных судов, которые были задержаны в связи с задолженностью испанского короля. Вместе с тем, с начала 70-х гг. прошлого века начала формироваться концепция ограниченного (функционального) иммунитета иностранных государств. Данная концепция устанавливает, что когда государство выполняет публичные функции, оно всегда имеет юрисдикционный иммунитет. В случае же занятия государством коммерческой деятельностью на территории другого государства – оно не обладает иммунитетом [4; 7, c. 216; 24, c. 156]. По мнению ряда авторов, развитие доктрины ограниченного иммунитета государств обусловлено прогрессивным вовлечением государств в гражданский оборот, получением кредитов и финансовой помощи от международных организаций и банков, и целым рядом других причин [1, c. 340; 35, c. 71].
Указанная теория была закреплена в Европейской конвенции о государственном иммунитете 1972 г. [30, c. 55] (РФ не ратифицирована [21, c. 69]), в законодательстве США (1976 г.), Великобритании (1978 г.), Австралии (1981 г.), Канады (1981 г.), Сингапура (1979 г.), ЮАР (1981 г.). На базе теории ограниченного иммунитета разработана Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности [22, c. 703;25; 38; 39; 40; 42]. Наряду с принципом ограниченного иммунитета в странах западного мира в ряде стран приняты законы запрещающие арест культурных ценностей во время их экспонирования в данных странах (Франция [5, c. 41-60; 41], США (в штатах Нью-Йорк и Техас), в четырех провинциях Канады, Австрии (Закон 1986 г.), Ирландии (Закон 1994 г.) [6, c. 256]).
Европейским Судом по правам человека по делу «Кордова против Италии» сформулирована позиция, согласно которой государство не может безоговорочно и бесконтрольно изъять из юрисдикции судов группу гражданских исков или освободить определенную категорию лиц от всякой ответственности, не проигнорировав при этом принцип верховенства права и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [27]. По мнению Коноваловой Л.Г. «данная позиция с учетом обстоятельств конкретного дела распространяется, в том числе и на применение судебного иммунитета государств» [16, c. 15-24; 31, c. 314]. Основываясь на правовых позициях ЕСПЧ, теорию функционального иммунитета широко применяют суды Бельгии, Финляндии, Австрии, Италии, Германии [21, c. 70], Греции и иных государств Европейского союза. Более того принцип ограниченного иммунитета распространился и в законодательстве бывших республик СССР [20].
Ранее суды СССР придерживались концепции абсолютного иммунитета, судебный иммунитет государства понимался довольно широко, едва ли не безгранично. Например, все торговые морские суда СССР объявлялись находящимися под его судебным иммунитетом [24, c. 153; 17, c. 66]. В 1994 г. статья 124 Гражданского кодекса Российской Федерации [10] установила, что «Российская Федерация … выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами, … если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов». Процедура отказа от судебного иммунитета России в иностранных судах прямо предусмотрена статьей 23 Федерального закона "О соглашениях в разделе продукции" [28; 15, c. 756, 32, c. 158].
Нешатаева Т.Н. в 2001 г. отмечала, что «современная судебная практика в РФ склоняется в сторону ограниченного иммунитета иностранного государства на основе принципа определения цели сделки – извлечения прибыли или выполнения публичной функции» [23, c. 91]. Еще до принятия действующего ГПК и АПК РФ факт обращения иностранного государства в суд или арбитражный суд в связи со спором по коммерческому контракту нашими высшими судебными инстанциями признавался свидетельством отказа от судебного иммунитета по этому контракту [12, c. 93].
В 2005 г. в Государственной Думе в первом чтении был принят законопроект "О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его собственности" [26; 15, c. 755; 8, c. 257]. К сожалению оставшиеся два чтения удалось пройти только к 3 ноября 2015 [29]. А в Гражданском процессуальном кодексе глава 45.1 «Производство по делам с участием иностранного государства», конкретизирующая порядок реализации вышеупомянутого закона, появилась лишь 29.12.2015. Далее мы обсудим спорные вопросы главы 45.1 ГПК РФ, затрудняющие реализацию принципа юрисдикционного иммунитета в гражданском процессе.
К спорным моментам рассмотрения и разрешения дел с участием иностранных государств можно отнести положения п.3 ст. 417.1 устанавливающего 9-месячный срок рассмотрения и разрешения указанной категории дел. Тогда как, общепринятый срок рассмотрения дел в судах первой инстанции согласно ст. 154 ГПК РФ составляет 2 месяца. Мы полагаем целесообразным указанный пункт либо полностью исключить из ГПК РФ, либо ограничить срок рассмотрения таких дел четырьмя месяцами, что соответствует максимальному сроку рассмотрения и разрешения дел Верховным Судом РФ в качестве суда надзорной инстанции согласно п. 2 ст. 391.6 ГПК РФ.
К избыточным положениям главы можно отнести положения п.4 ст. 417.3 ГПК РФ буквально дословно дублирующим положения статьи 54 ГПК РФ. Мы полагаем необходимым в п. 4 указанной статьи сохранить лишь положения о международных специальных процессуальных полномочиях представителей иностранных государств: 1) право представителя этого иностранного государства на отказ от судебного иммунитета, иммунитета в отношении мер по обеспечению иска, иммунитета в отношении исполнения судебного решения.
Статья 417.6 ГПК РФ устанавливает порядок вручения судебного извещения иностранному государству посредством взаимодействия министерства юстиции и иностранных дел с указанным государством. Между тем до сих пор отсутствуют Приказы или письма указанных министерств, конкретизирующих порядок реализации данных вопросов в гражданском процессе России.
Вышеупомянутая статья 417.6 в пункте 3 устанавливает такой способ извещения иностранного государства как «дипломатическая нота». Между тем для процессуального законодательства эта новинка появилась в процессуальных кодексах только с 29.12.2015 как в гражданском так и в арбитражном процессуальном кодексе (АПК РФ) [2] в сходных главах. Процедурных механизмов оформления, фиксации и определения данного способа судебного извещения ни в одном из указанных нормативных актах не содержится, также как и в международных договорах Российской Федерации с иностранными государствами [33].
Интересным представляется срок извещения иностранного государства о дате предварительного судебного заседания или обычного судебного заседания, который п.6 ст. 417.6 определяется как 6 месяцев, что представляется нам крайне избыточным в эпоху интернета и развитого авиасообщения. Мы полагаем целесообразным сократить указанный срок до месяца.
Статья 417.7 ГПК РФ в пункте 5 устанавливает такое дополнительное основание для прекращения производства по делу как вывод суда о наличии у иностранного государства судебного иммунитета. Мы полагаем целесообразным положения указанного пункта перенести в статью 220 ГПК РФ «основания для прекращения производства по делу», что облегчило бы работу и понимание ГПК РФ правоприменителями.

Статья 417.8 ГПК РФ определяет порядок участия государственных органов в производстве по указанной категории дел. Между тем главным упущением данной статьи мы полагаем формулировку о том, что Министерство иностранных дел может предоставлять заключения о наличии или отсутствии юрисдикционных иммунитетов у России в иностранных государствах. Мы полагаем необходимым данное полномочие сделать обязанностью Министерства иностранных дел по указанной категории дел. Так как суды Российской Федерации не могут располагать информацией о юрисдикционных иммунитетах России за рубежом и соответственно о применимости принципа взаимности в каждом конкретном деле.
Спорными представляются и положения п.3 ст. 417.10 ГПК РФ в 8 раз увеличивающий общепринятый срок подачи заявления об отмене заочного решения суда при наличии в материалах дела данных о надлежащем извещении иностранного государства (ст. 237 ГПК РФ). Мы считаем возможным п.3 исключить из данной статьи ГПК РФ.
Пункт 1 ст. 417.11 ГПК РФ устанавливает невозможность наложения судебного штрафа на иностранное государство в гражданском процессе. Памятуя о поведении наших «партнеров» - иностранных государств хотя бы в Совете безопасности ООН, лишение суда права наложения судебного штрафа представляется преждевременным [36].
Анализ истории и современного состояния закрепления юрисдикционного иммунитета иностранных государств в процессуальном законодательстве России и изученный зарубежный опыт [37, c. 121] позволяют нам предложить к обсуждению потенциально спорные положения главы 45.1 ГПК РФ и, тем самым, ускорить рассмотрение и разрешение дел с участием иностранного государства.
Список литературы Спорные положения главы 45.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
- Ануфриева Л.П. Международный гражданский процесс. М.: БЕК, 2001. Том 3.
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 23.06.2016): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 14 июня 2002 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ / Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.
- Арбитражный процесс: учебник / А.В. Абсалямов, И.Г. Арсенов, Е.А. Виноградова и др.; отв. ред. В.В. Ярков. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2010.
- EDN: QRRFQD
- Арсентьева Н.А. Правовое регулирование платных образовательных услуг в условиях модернизации системы образования / Международный академический вестник. 2015. № 4. С. 40-44.
- EDN: UIZEJD
- Богуславский М.М. Иск Ирины Щукиной / Московский журнал международного права. 1994. № 2. С. 41-60.
- EDN: WXBMRO