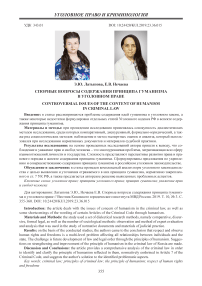Спорные вопросы содержания принципа гуманизма в уголовном праве
Автор: Латыпова Эльвира Юрьевна, Нечаева Елена Владимировна
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовное право и криминология
Статья в выпуске: 3 (37), 2019 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматриваются проблемы содержания идей гуманизма в уголовном законе, а также некоторые недостатки формулировки отдельных статей Уголовного кодекса РФ в аспекте содержания принципа гуманизма. Материалы и методы: при проведении исследования применялась совокупность диалектических методов исследования, среди которых компаративный, дискурсивный, формально-юридический, а также ряд социологических методов: наблюдение и метод экспертных оценок и анализа, который использовался при исследовании нормативных документов и материалов судебной практики. Результаты исследования: на основе проведенных исследований авторы пришли к выводу, что соблюдение и уважение прав и свобод человека - это многоуровневая проблема, затрагивающая всю сферу взаимоотношений личности и государства. Сложность представляют перспективы развития права и правового порядка в аспекте содержания принципа гуманизма. Сформулированы предложения по укреплению и совершенствованию содержания принципа гуманизма в российском уголовном законодательстве. Обсуждение и заключения: в статье проведен комплексный анализ норм уголовного законодательства с целью выявления и уточнения отражаемого в них принципа гуманизма, нормативно закрепленного в ст. 7 УК РФ, а также предлагается авторское решение выявленных проблемных аспектов.
Уголовное право, принципы уголовного права, принцип гуманизма, уважение прав и свобод человека
Короткий адрес: https://sciup.org/142223015
IDR: 142223015 | УДК: 343.01 | DOI: 10.24420/KUI.2019.23.36.015
Текст научной статьи Спорные вопросы содержания принципа гуманизма в уголовном праве
Принцип гуманизма является одним из фундаментальных начал для права в целом и для уголовного права в частности. Мусаевым М.А. отмечается, что принцип гуманизма насыщает все уровни правового гуманизма, формируя его качество, при этом две указанные категории существенно различаются [1, с. 37].
Нормативное закрепление принцип гуманизма нашел только в уголовном законе. Так, в ст. 7 УК РФ определяется основополагающее начало: «Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека». Указанная идея заключается в человечном, милосердном и уважительном отношении к субъектам юридической ответственности при ее установлении и применении. Саму по себе безопасность можно рассматривать в двух аспектах – как безопасность преступника, отбывающего наказание, от воздействия на него потерпевшего или его родственников (так называемый «самосуд»), а также безопасность общества от указанного преступника, ранее совершившего преступление. Однако при уголовно-правовом анализе принципа гуманизма нами выявлен ряд серьезных проблем, требующих незамедлительного решения.
Обзор литературы
Обратимся к традиционному пониманию принципа гуманизма как гуманного отношения к лицу, совершившему преступление. Так, В.Б. Шабановым обоснованно, на наш взгляд, утверждается, что реализация принципа уважения прав и свобод человека и гражданина требует ювелирной точности, и ориентирована она на соблюдение не только национального законодательства, но и норм международных стандартов [2, с. 40].
Принципы уголовного права обязательно применяются и при назначении наказания. Так, в литературе справедливо отмечается, что при назначении наказания надлежит руководствоваться принципами законности, равенства граждан перед законом, ответственности за вину, справедливости и гуманизма, неотвратимости уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление, а также индивидуализации наказания [3, с. 153; 4; 5; 6].
Начало XIX века ознаменовалось изменением государственной политики в отношении несовершеннолетних в сторону либерализации отдельных уголовно-правовых институтов: перечень наказаний для этой группы существенно ограничен по сравнению с совершеннолетними лицами, также сокращены сроки и размеры применяемого наказания [7, с. 71]. Есть и другие элементы гуманизации ответственности применительно к несовершеннолетним (сокращение срока погашения судимости, сроков давности и т.п.). Например, Нечаевой Е.В. выявлено, что суды в 40-45 % случаев приговаривают несовершеннолетних к лишению свободы, отбываемому условно, тогда как реально лишение свободы отбывают только около 16–18 % осужденных этой группы [7, с. 73]. Наказания, не связанные с лишением свободы, назначаются несовершеннолетним реже, что негативно влияет на их эффективность и уж точно не свидетельствует о гуманном отношении. Мы убеждены в целесообразности расширения практики применения наказания в виде обязательных работ, которые в настоящее время назначаются лишь в 18-22 % случаев, сделав данное наказание базовым среди реализуемых в отношении несовершеннолетних.
Наиболее сложно реализуется принцип гуманизма в местах лишения свободы в отношении отдельных категорий осужденных, таких как инвалиды, тяжело больные или пожилые осужденные [8, с. 59]. Проблема гуманизации условий отбывания наказания в местах лишения свободы напрямую связана с увеличением количества осужденных инвалидов и осужденных лиц пожилого возраста. Также растет смертность осужденных в местах лишения свободы1. На наличие коллизий в данной сфере указывают и другие авторы [9].
Результаты исследования
Принципом гуманизма (ст. 7 УК РФ) устанавливается, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. В данном случае речь идет именно о специальной цели причинения физических или психических страданий, что не исключает возможности причинения их в процессе отбывания того или иного наказания при реализации иных целей наказания. Так, если лицо отбывает наказание в виде лишения свободы, то осужденный должен назвать свою фамилию и статью, по которой он осужден, при нахождении рядом посторонних людей. Цель этих действий отнюдь не в причинении психических страданий, связанных с напоминанием осужденному о совершенном им де- янии, а прямо противоположная – предупреждение постороннего лица о потенциальной опасности, так как сведущий человек уже по номеру статьи может определить, что потенциальная опасность вора несколько ниже, чем убийцы.
Обратимся к исполнению наказания в виде пожизненного лишения свободы. При передвижении по исправительной колонии осужденный к пожизненному лишению свободы принимает определенную специфическую позу – наклон под углом 90 градусов, при этом подняв руки за спиной вверх. Нами проводились опросы среди обучающихся вузов (более 200 человек): 95 % из них считают, что указанная поза унижает человеческую честь и достоинство. Но такое унижение отнюдь не является в данном случае целью и объясняется тем, что из указанной позы невозможно незаметно подготовить нападение, значит, она является одним из средств безопасности в отношении других лиц.
Даже пребывание осужденных в камере по двое тоже может определенным образом нарушать принцип законности, так как постоянное нахождение в камере с одним и тем же человеком психологически очень тяжело переносится. В данном случае за психическим состоянием здоровья осужденных следят психологи, которые есть в каждой колонии строгого и особого режима. Неустранимые противоречия в соответствии со ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) приводят к переводу осужденного по заявлению и по постановлению начальника исправительного учреждения в другую камеру или в одиночную камеру. Отметим, что многие исследователи считают негуманным даже само наличие наказания в виде пожизненного лишения свободы. В обществе бытует мнение о возможности замены данного наказания на смертную казнь. Однако, не начиная дискуссию, отметим, что такое решение представляется противоречащим идее гуманизма.
В аспекте применения наказания в виде пожизненного лишения свободы Н.М. Ибрагимовой [10, с. 175] поднимается вопрос о начале исчисления фактического срока отбытия данного вида наказания (с момента заключения осужденного под стражу в порядке меры пресечения или с момента принятия Президентом РФ указа о помиловании осужденного к смертной казни либо назначения ему наказания в виде пожизненного лишения свободы) и отмечается, что этот порядок исчисления срока не урегулирован ни уголовным, ни уголовно-исполнительным законодательством. Полагаем, что в данном случае именно содержание принципа гуманизма диктует нам необходи- мость использовать наиболее мягкий вариант, т.е. исчисление двадцатипятилетнего срока именно с момента заключения осужденного под стражу. Отметим, что указанная проблема по большей части является надуманной, ибо за все время существования колоний для пожизненно осужденных на свободу смогли выйти лишь пять человек1.
В уголовном процессе закреплен принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), но понятие личности здесь у́же, чем понятие человека [2, с. 40], так как в кодексе речь идет только об участниках уголовного судопроизводства. Данным принципом запрещается осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья [11, с. 62-68]. Однако, как справедливо отмечает М.А. Мусаев [1, с. 38], между признанием и обеспечением прав и свобод существует определенная дистанция. Такое отношение опосредовано государственной идеологией, когда человек, его права и интересы рассматриваются в качестве высшей цели и ценности [12, с. 159].
В уголовном законодательстве присутствует тенденция, в соответствии с которой происходит общая гуманизация наказания, изменяются, а то и вовсе исключаются минимальные его размеры, что не всегда целесообразно. Так, 7 марта 2011 г. Федеральным законом № 26-ФЗ было изъято указание на минимальный размер наказания применительно к ст. 111 УК РФ: теперь в ней присутствует указание только на максимальный его размер, который составляет для ч. 1 ст. 111 УК РФ восемь лет лишения свободы, для ч. 2 ст. 111 УК РФ – десять лет лишения свободы, для ч. 3 ст. 111 УК РФ – двенадцать лет лишения свободы и для ч. 4 ст. 111 УК РФ – пятнадцать лет лишения свободы. При этом минимальный срок наказания не указан, соответственно, по ч. 2 ст. 56 УК РФ он составляет два месяца. Возникает вопрос, насколько целесообразно назначение наказания в размере два – четыре – шесть месяцев лишения свободы, если в результате причинения тяжкого вреда здоровью наступила смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)? В данном случае в полном объеме реализуется принцип гуманизма по отношению к осужденному, и в полном объеме нарушается этот же принцип применительно к потерпевшему.
В качестве одного из аргументов изъятия указания на минимальный срок наказания применительно к ст. 111 УК РФ высказывалось мнение, что это позволит более дифференцированно назначать наказание в случае наличия смягчающих обстоятельств. Однако и сейчас, и в 2011 году такая возможность у суда была: исходя из содержания ст. 64 УК РФ, имеется возможность назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, включая возможность снижения срока наказания, изменения вида наказания (например, замена лишения свободы на ограничение свободы или принудительные работы), изменение категории преступления.
Сомнительным и негуманным представляется в данном случае объяснение изъятия минимально установленного размера наказания, поскольку потерпевший не был лишен жизни. При причинении тяжкого вреда здоровью значительно ухудшается качество жизни потерпевшего, особенно, если в результате преступления потерпевший остался калекой, повредил или утратил конечности, была обезображена его внешность и т.п.
Несоответствие принципу гуманизма наблюдается также при назначении наказания и освобождении от уголовной ответственности по преступлениям в сфере экономической деятельности. На наличие такого несоответствия ранее уже указывалось различными учеными [13, с. 47], что привело в итоге к определенным изменениям [14, с. 376]. Несмотря на произведенные изменения, гуманистический потенциал ч. 2 ст. 76.1 УК РФ далек от идеала. Так, ч. 1 ст. 172 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность в случае, если это деяние причинило крупный ущерб. Исходя из примечания к ст. 170.2 УК РФ, крупным признается ущерб в сумме, превышающей 2 млн. 250 тыс. руб., однако минимальным наказанием за преступление по ч. 1 ст. 172 УК РФ является штраф в сумме от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Исходя из принципа гуманизма, лицу, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести (а преступление по ч. 1 ст. 172 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, так как в качестве альтернативы возможно назначение наказания до четырех лет лишения свободы), обычно назначаются наказания, не связанные с лишением свободы, особенно, если по делу будут установлены смягчающие обстоятельства относительно виновного. Соответственно, присутствует значительная разница между причиненным ущербом и возможным наказанием, что может определенным способом даже способствовать совершению преступлений данной группы.
В качестве гуманной меры законодатель предлагает возможность освобождения от уголовной ответственности в порядке ч. 2 ст. 76.1 УК РФ при условии, что лицо возместит ущерб, причинен- ный бюджету Российской Федерации. Для этого необходимо возместить в государственный бюджет сумму причиненного ущерба (в нашем случае 2 млн 250 тыс. руб.), а также денежное возмещение в размере двукратной суммы (4 млн 500 тыс. руб.). Итого «стоимость» освобождения в данном случае составит 6 млн 750 тыс. руб.
В такой ситуации для лица, совершившего незаконную банковскую деятельность, присутствует определенная «экономическая целесообразность» в привлечении его к уголовной ответственности с возможностью выплаты штрафа, который в любом случае гораздо меньше полученного дохода, в отличие от применения в отношении него ч. 2 ст. 76.1 УК РФ.
Своеобразным проявлением гуманизма к обществу представляется назначение осужденному наказания, полностью соответствующего степени его общественной опасности. Так, Р.Р. Мусиной [3, с. 156] выявлена проблема, возникающая при назначении наказания за преступления, совершенные с альтернативными признаками объективной стороны, когда при перечислении в диспозиции ряда альтернативных признаков (по отдельным составам их бывает до пяти – семи) суд не учитывает их количество, ограничиваясь назначением наказания в пределах, указанных в санкции данной статьи. Для решения указанной проблемы автор предлагает дополнить УК РФ статьей 701 УК РФ, предусмотрев в ней правила назначения наказания за преступление с альтернативными действиями и иными признаками объективной стороны, для учета количества реально совершенных преступником элементов преступления, что представляется целесообразным.
Подводя итоги проведенному исследованию, согласимся, что предыдущая редакция ч. 6 ст. 86 УК РФ, предусматривавшая прекращение всех правовых последствий судимости, была более гуманной по отношению к осужденным, тогда как настоящая редакция предусматривает аннулирование только тех последствий, которые предусмотрены непосредственно в УК РФ [15, с. 124–125]. Наличие у субъекта судимости ограничивает как его права и свободы, так и может вызывать ограничение отдельных прав и свобод иных лиц, имеющих с ним родственные отношения. Так, наличие судимости у близких родственников препятствие для поступления на службу в правоохранительные органы или при продолжении трудовых отношений с указанными органами, что указано, например, в Федеральных законах «О полиции», «О статусе судей» и др. Такая ситуация не согласуется и с принципом гуманизма и равноправия, особенно в ситуации, когда ребенок в действительности не общается с одним из родителей, имеющим суди- мость, по причине того, что они развелись либо вообще не оформляли брачные отношения и не вели совместного хозяйства.
Обсуждение и заключения
Принцип гуманизма может быть применен как в отношении лица, совершившего преступление, так и в отношении общества в целом и отдельных его членов, пострадавших от действий преступника. Таким образом, мы полагаем, что принцип гуманизма означает перечень необходимых требований правового регулирования: запрет применения пыток, насилия и унижающего человеческое достоинство обращения; установление определенной системы льгот (например, исключений при применении принципа неотвратимости или равенства) в зависимости от определенных осо- бых характеристик субъекта (таких как несовершеннолетие, старость, инвалидность, тяжелая болезнь и т.п.) либо вне зависимости от их наличия в соответствии с актом амнистии или помилования.
К сожалению, отдельные изменения уголовного законодательства, обладающие хорошим гуманистическим потенциалом, неожиданно для законодателя оборачиваются проблемами для правоприменителя (например, рассмотренное нами исключение из ст. 111 УК РФ минимального размера наказания в виде лишения свободы и др.). Решение проблем проявления принципа гуманизма, возникающих на практике, может обогатить и гуманизм российского права в целом, особенно применительно к принципу справедливости юридической ответственности как элемента правового гуманизма.
Список литературы Спорные вопросы содержания принципа гуманизма в уголовном праве
- Мусаев М.А. Гуманизм в системе правовых принципов: некоторые исходные положения // Мир политики и социологии. 2016. № 4. С. 73-80.
- Шабанов В.Б. Нормативное закрепление международного принципа уважения прав человека и основных свобод в национальном уголовно-процессуальном законодательстве // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 4. С. 39-42.
- Мусина Р.Р. О назначении наказания за совершение преступления при наличии альтернативных действий и иных признаков объективной стороны // Правовая культура. 2013. № 1 (14). С. 153-158.
- Кропачев Н.М. Принципы применения мер ответственности за преступления // Правоведение. 1990. № 6. С. 71-76.
- Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: теория и законодательная практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2000. 400 с.
- Минязева Т. Об индивидуализации уголовной ответственности // Советская юстиция. 1987. № 23. С. 9-11.
- Нечаева Е.В. Система наказаний в отношении несовершеннолетних нуждается в совершенствовании // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3. (35). С. 71-76.
- Заборовская Ю.М. Реализация принципа гуманизма в отношении тяжело больных осужденных инвалидов, отбывающих наказание в виде лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 58-66.
- Кашуба Ю.А., Скиба А.П. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные основы правового положения больных осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2012. №1 (13). С. 52-55.
- Ибрагимова Н.М. Отбытие установленного законом срока наказания как одно из правовых условий применения условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким видом наказания // Актуальные проблемы экономики права. 2008. № 4 (8). С. 174-178.
- Латыпова Э.Ю., Погребнова Е.В. Психологические проблемы и квалификация преступлений, связанных с вынесением судьей неправосудного приговора (ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика: материалы III международной научно-практической конференции 16 мая 2019 года. В 3-х т / отв. ред. Л.А. Остапец. Донецк: Цифровая типография, 2019. Т. 3. С. 62-68.
- Мехович А.М., Мордовец А.С., Силантьева Е.Л. Законность и уважение прав человека в деятельности органов внутренних дел // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. № 3. С. 154-162.
- Gilmanov E.M. Criminal matters for violation of fiscal discipline // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2011. № 1 (4). С. 46-48.
- Гильманов Э.М. Некоторые правовые аспекты освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права: межвузовский сборник научных трудов / под общей редакцией А.Г. Безверхова. Самара, 2013. С. 84-90.
- Нечаева Е.В. Правовые последствия судимости в контексте последних законодательных изменений // Вестник Российского университета кооперации. 2016. № 1. (23). С. 124-125.