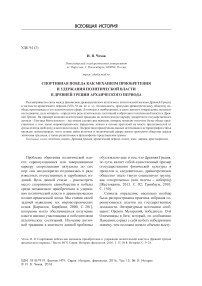Спортивная победа как механизм приобретения и удержания политической власти в Древней Греции архаического периода
Автор: Чехов Игорь Валерьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 8 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается связь между феноменом древнегреческого атлетизма и политической жизнью Древней Греции, в частности архаического периода (VIII-VI вв. до н. э.). Агональность, присущая древнегреческому обществу вообще, пронизывала и его политическую сферу. Логичным и необходимым, в свете данного утверждения, выглядит исследование, цель которого - определить роль атлетических состязаний в обретении политической власти в Древней Греции. На примере влияния атлетической традиции на политическую карьеру конкретного государственного деятеля - Питтака Митиленского - мы можем сделать ряд выводов, которые позволят получить более общее представление о том, какие мировоззренческие парадигмы лежали в основе претензий на власть представителей из среды атлетов (αεθλητάς) в античном полисе. Посредством привлечения данных источников и историографии статья наглядно демонстрирует, что в основе связи атлетики и политической сферы жизни греческого общества лежала эпическая традиция, а также религиозные и философские представления греков.
Атлетизм, власть, древняя греция, архаический период, полис, эпос, лирика, аристократизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147219659
IDR: 147219659 | УДК: 94
Текст научной статьи Спортивная победа как механизм приобретения и удержания политической власти в Древней Греции архаического периода
Проблема обретения политической власти соревнующимися или завершившими карьеру спортсменами актуальна до сих пор: она неоднократно поднималась в ряде известных отечественных и зарубежных изданий. Цель данной статьи – рассмотреть место спортивного единоборства и победы среди механизмов приобретения и удержания политической власти в древнегреческом полисе архаической эпохи. Мы ставим своей задачей выявление тех мировоззренческих основ [Барзилов, Барябина, 2000. С. 201], которыми могло обеспечиваться получение власти именно участниками и победителями атлетических состязаний. Изучение античной традиции в контексте данной проблемы обусловлено еще и тем, что Древняя Греция, по сути, являет собой единственный пример огосударствления физической культуры в прошлом и, следовательно, древнегреческое общество знало такую социальную группу, как «спортсмены» (или атлеты – αεθλητάς) [Жестоканов, 2013. С. 82; Гринбаум, 2010. С. 150].
Сначала определим, насколько вообще была распространена практика избрания соревнующихся атлетов на государственные должности. Литературные источники сообщают: Орсипп Мегарский, победитель 15-й Олимпиады в беге, который, по сообщению Павсания, сорвал с себя на бегу набедренную повязку, чем положил начало обычаю высту-
Чехов И. В. Спортивная победа как механизм приобретения и удержания политической власти в Древней Греции архаического периода // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 8: История. С. 9–24.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 8: История © И. В. Чехов, 2016
пать обнаженными, впоследствии был избран гражданами военачальником в войне с Коринфом (Paus. I.44.1). Такой же чести удостоился победитель-пятиборец Фринон, вышедший впоследствии на поединок с Питта-ком Митиленским в споре Афин и Митилены за Сигей (Plut. De Herod. XV). Кулачный боец Никодор Мантинейский прославился в своем полисе и как законодатель (Ael. Var. Hist. II.23). Знаменитый борец Милон Кротонский помимо шести олимпийских побед возглавлял войско родного Кротона в войне с соседним городом Сибарисом (Diod. XII. 9. 2). Чемпион по бегу Килон пытался стать тираном в Афинах (Herod. V. 71). Высокие спортивные достижения имели тираны и законодатели Писистрат (Herod. VI. 103), Клисфен Сикионский (Paus. X.7.6), Периандр (Diog. Laert. 1.7), Алкивиад (Plut. Alc. 11.2) 1.
Из всех перечисленных выше случаев мы рассмотрим один – поединок Фринона и Питтака, как имеющий ключевое значение в рамках поставленной нами задачи. Именно Питтак послужил Аристотелю единственным примером при описании такой интересной формы архаической монократии, как эсимнетия (Arist. Pol. III. 9. 5–6, p. 1285a. 30– b. 4). Исследователи сходятся во мнении, что данный институт являлся примечательной особенностью политической самоорганизации архаического полиса как такового, имея экстраординарный характер [Рогович, 2012. С. 30; Фролов, 2004. С. 126; Соломатина, 2003; Пальцева, 2002. С. 21]. Следовательно, изучение роли спортивной победы в политической карьере государственного деятеля, занявшего благодаря ей столь высокий пост, позволит получить как можно более полное представление о роли атлетики в приобретении политической власти вообще. Олимпийские победы Фринона требуют вписать его поединок с Питтаком именно в атлетический контекст, одновременно отследив преемственность агонистики по отношению к эпической традиции 2.
Общепринято мнение о том, что все сферы жизнедеятельности греков были пронизаны духом состязательности – агонизма [Же-стоканов, 2013. С. 82; Хейзинга, 1992. С. 87; Зайцев, 2000. C. 116]. Однако, касаясь вопроса взаимосвязи атлетизма и политической карьеры, исследователи зачастую не глубоки в своем анализе. Тот же К. К. Зельин, проработав достаточно большой объем источников, как нам кажется, вообще не ставил цели понять причины выдвижения олимпийцев к власти [1962]. В то же время Х. Туманс и А. В. Зберовский показывают [Туманс, 2002], как, анализируя одно событие на основании источников, можно, перейдя к более общим и концептуальным моментам, дать оценку целому аспекту мировоззрения 3. Развивая подход А. В. Зберовского, мы согласны с ним в том, что древнегреческие представления о политической власти не могут быть всесторонне изучены на материалах только афинских авторов V–IV вв. до н. э., без привлечения текстов Гомера и архаической лирики 4. Тем более что если политические представления афинян и карьера афинских политиков – это традиционный объект исследований огромного количества ученых-историков, философов, политологов 5, то государственная деятельность Питтака освещена в литературе уже намного хуже, ввиду недостаточности и противоречивого характера источников (Paus. I.23.1; Diog. Laert. Praef. 13; I. 41–43). Тем не менее за период 1939– 2014 гг., вследствие обнаружения и публикации новых фрагментов Алкея и Сапфо, мы можем глубже понять взаимосвязь победы
[Шанин, 2001; Hawhee, 2004; Scanlon, 2002; Golden, 1998].
над Фриноном и политической карьеры Пит-така [Мякин, 2014; 2003. С. 6].
Среди источников нас в первую очередь интересует творчество Алкея, как современника, соратника и впоследствии ярого противника Питтака. Ключевое значение также имеют сочинения Аристотеля, обобщившего в «Политике» данные своего исследования 153 политий различных полисов, включая Митилену, и определившего положение Пит-така, как эсимнета. Наконец, биографические данные о жизни этого государственного деятеля можно почерпнуть из текста «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» Диогена Лаэртского. Косвенно же тема как митиленской эсимнетии, так и связи атлетики и власти в античной Греции поднимается неоднократно у многих древних авторов.
Говоря об историографии вопроса, нужно отметить неоднозначность оценки положения Питтака 6 античными авторами и общую скудность источников, что заставляет обратиться к концептуальным работам о древнегреческой тирании вообще. Например, к монографии Г. Берве, в которой отстаивается точка зрения, что Питтак, несмотря на исключительность своих полномочий, был именно эсимнетом, а не тираном, в силу выборности предоставленной ему власти [Berve, 1967; Берве, 1997]. Тем не менее Г. Берве не признает за Питтаком звания «народного вождя» и также считает бесспорным его аристократическое происхождение: исследователь, помимо прочего, ссылается на Фукидида (Thuc. 4.107.3), у которого встречается царское имя Питтак. Среди работ отечественных исследователей важно выделить труд В. В. Латышева [1996], в котором он дает положительную оценку институту эсим-нетии, определяя ее как результат взаимодействия господствующей олигархии и народных масс. Значительный вклад в разработку тем древнегреческой тирании и эсимнетии вносят труды Э. Д. Фролова [2004б]. Он считает, что Аристотель, определив эсимнетию как выборную тиранию, подчеркивал таким образом «ее чрезвычайный характер народной диктатуры» [Там же. С. 126]. В истори- ографии можно встретить и другую точку зрения, согласно которой два этих института практически не отличались друг от друга. Так, например, А. И. Доватур полагает, что Аристотель привлек отрывок из стихотворения Алкея (Alc. fr. 348), где Питтак назван тираном, для подтверждения правильности отождествления обеих форм власти [Дова-тур, 1965. С. 317]. Исследователь Э. Эндрюс в своей работе также скептически оценивает выделение эсимнетии в самостоятельную магистратуру применительно к Митиле-нам – он замечает, что, кроме Аристотеля, ни один другой источник не называет Питтака эсимнетом [Andrewes, 1956. P. 97]. Вопрос о природе эсимнетии разрешается также в работах, посвященных непосредственно социально-политической истории Митилены: Е. В. Рогович отстаивает позицию «аристократичности» магистратуры [2012. С. 31], в то время как Т. Г. Мякин высказывает точку зрения о ее демократической сущности [2004. С. 11]. О том, что Питтак, избранный эсимне-том, выступал с демократических позиций, говорит также и В. Г. Борухович. Тем не менее, по мнению исследователя, мы недостаточно ясно представляем себе, насколько широк был круг лиц, наделенных гражданскими правами [1979. C. 27]. Ценные замечания по истории политической борьбы в Митиленах содержит также работа А. Е. Гониделлиса [Γονιδελλησ, 2012]. В посвященных уже непосредственно проблеме эсимнетии Питтака статьях Е. И. Соломатиной и Л. А. Пальцевой исследовательницы заключают, что путь и к тирании, и к эсимнетии практически не отличается друг от друга, но если первая видит в этом институте очередной способ аристократии установить личную власть [Соломатина, 2003. С. 37], то вторая полагает, что уникальность магистратуры заключена как в личных качествах избранного на эту должность, так и в историческом факте консенсуса, к которому сумели прийти жители Митилены, и эти обстоятельства рознят ее с тиранией [Пальцева, 2002. С. 34].
Учитывая тот факт, что одним из основных источников для нас остаются стихотворения Алкея, следует привлечь ряд литературоведческих работ, посвященных поэту и его творчеству. Так, Б. Джентили, давая оценку сведениям, которые мы можем полу- чить в результате работы с дошедшими до нас фрагментами, справедливо замечает, что Алкей оказался «главным проигравшим» в социально-политической борьбе, развернувшейся в Митилене в рассматриваемый период. Следовательно, к его свидетельствам нужно относиться с осторожностью, отделяя «правду Алкея» от собственно исторической [Gentili, 1990. P. 208, 209]. Косвенно на необходимость более критично воспринимать сочинения Алкея указывает и Г. Берве [Berve, 1967. S. 572]. Значительный объем фактического материала и ряд интересных, на наш взгляд, предположений содержатся в работе А. П. Бернетт [Burnett, 1983]. Ко всему прочему, это одно из немногочисленных исследований, в котором детальнее рассматривается, хотя все равно весьма опосредованно, значение победы Питтака над Фриноном для его карьеры политического деятеля.
Общую сводку фактической информации о Питтаке, основанную на данных исторических источников, дает статья Вильгельма Кролля и Карла Миттельхауза в Реальной энциклопедии науки о классической древности [Kroll, Mittelhaus, 1950].
Переходя к анализу роли победы над олимпиоником в политической карьере Питтака, необходимо в первую очередь заострить внимание на некоторых моментах его биографии. Так, например, дискуссионным остается вопрос происхождения эсимнета, важный для нашей работы ввиду того, что принадлежность к аристократическому роду сама по себе, особенно в архаический период, являлась серьезной предпосылкой к обретению властных полномочий. Более того, по мнению ряда исследователей, доклассиче-ский период вообще не позволял гражданам незнатного происхождения претендовать на власть [Соломатина, 2003. С. 30] 7.
Согласно Диогену Лаэртскому, отец Пит-така был родом из Фракии (Diog. Laert. I. 4. 74). Эту информацию подтверждает Суда (Suid. s.v. Pittakos). В комментариях к одному из фрагментов стихотворения Алкея (Alc. fr. 112) мы встречаем мнение о принадлежности Питтака к роду Археанактидов [Dale, 2011. P. 16], которое, тем не менее, не вызывает доверия ввиду общепринятого в источниках фракийского происхождения отца Питта-ка 8. Также в Суде говорится о том, что его мать родилась на Лесбосе. Неоднозначность в определение происхождения Питтака вносит проблема социального статуса его отца. Статья в Реальной энциклопедии науки о классической древности [Kroll, Mittelhaus, 1950. Sp. 1863] указывает, что, согласно Дионисию Фракийскому и Джону Энтони Крамеру, отец Питтака занимал в Митиле-не высокий пост, он был назван буквально «Μιτυλαναίων βασιλεύς». С другой стороны, Гесихий утверждает, что он был незнатного происхождения (Hesych. s. v. Hyrradios).
Одним из наиболее спорных моментов является обозначение Питтака, данное Алкеем (Alc. fr. 348), которое передает в своем сочинении Аристотель (Aristot. Pol. 1285a): «τὸν κακοπατρίδαν Φίττακον πόλις τὰς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος ἐστάσαντο τύραννον, μέγ’ ὲπαίνεντες ἀόλλεες». Используемое им оскорбление – какопатрид – указывает на низкое происхождение, по аналогии со словом «эвпа-трид», обозначавшим благородность и принадлежность к знати. По мнению ряда исследователей [Пальцева, 2002. С. 23; Борухович, 1979. С. 30], термин имел однозначные социальные коннотации. Не рассматривать его в подобном ключе призывает Е. И. Соломатина, приводя следующие аргументы: данное оскорбление было использовано Алкеем как выражение чувства ненависти к Питтаку, но не как обозначение факта, и также Фринон, являясь олимпийцем, не принял бы вызов от человека низкого происхождения [2003. С. 29, 30]. А. Е. Гониделлис также считает, что это оскорбительное обозначение вызвано именно фактом предательства Питтака, который перешел на сторону Мирсила, хотя изначально был участником заговора против него [Γονιδελλης, 2012. P. 86]. Тем не менее нам видится более справедливым замечание о том, что, в отличие от Питтака, представители династий Клеанактидов и Археанакти-дов, которые также были ненавистны Алкею, не получали в свой адрес подобных высказываний [Пальцева, 2002. С. 24], что косвен- но указывает на принадлежность поэта и его оппонента к разным социальным группам. Что касается невозможности для Фринона принять вызов человека неблагородного происхождения – следует отметить, что в уставе Олимпийских игр вопрос родовитости участников не оговаривается – к состязаниям допускались все свободные граждане, поэтому попытка увидеть черты «классовой неприязни», сославшись на олимпийское прошлое афинского полководца, не выглядит убедительной. Более того, победа Питтака была одержана им благодаря хитрости и находчивости – он использовал сеть (Diog. Laert. 1.4.80). Общеизвестно, что позднее в традиции гладиаторских поединков существовал тип гладиатора – ретиарий, вооруженный также трезубцем, ножом и сетью [Горонча-ровский, 2009. С. 81]. Этот тип символизировал собой рыбака (классическое противостояние ретиария и мирмиллона – еще одного типа гладиаторов – символизировало собой противостояние рыбака и рыбы). Подобный набор вооружения мог ассоциироваться с таким неблагородным видом деятельности, как ловля рыбы, и в архаическую эпоху. В свете этого предположения мы можем согласиться с замечанием Л. А. Пальцевой, что подобная манера ведения поединка, несвойственная аристократам, не позволяет видеть в Пит-таке человека благородного происхождения [2002. С. 29].
Анализ контекстов употребления слова κακός Алкеем также дает основание увидеть в использованном им оскорблении негативный социальный, и даже политический подтекст: так, например, именно из-за дурных дел (κάκων ἔργων) Приама боги разрушают Трою (Alc. fr 42). Это прилагательное тесно связано у поэта с темами постыдной судьбы (μόρος αἰσχρός) (Alc. fr. 10b), клятвопреступления (Alc. fr. 67) и оскорбительного высокомерия (κακῆς ὓβρεως) (Alc. fr. 306g). Сложно предположить, чтобы в картине мира поэта эти явления могли быть связаны с представителями аристократии.
Помимо творчества Алкея в древнегреческой литературной традиции слово κακός употребляется в различных контекстах. Этим словом, к примеру, определяется злой умысел: κακὰ φρονέουσ᾽ («зло замышляя», Hom. Od. X, 316) в Одиссее, либо же жестокость нрава: ὕβρις τε μέμηλε κακὴ («в надменности злой коснеет», Hes. Op., 238) в «Трудах и днях». Оно также используется для описания трусости в битве: οἵτινες ... ἐγένοντο ἄνδρες κακοὶ ἢ ἀγαθοὶ ἐν τῇ ναυμαχίῃ («которые… оказались трусами или проявили доблесть в морской битве», Herod. 6.14) и некрасивой внешности: τοῦ προσώπου κακός («лицом некрасив», Paus. 8.49.3) [Liddel, Scott, 1996. P. 863]. Каждый из этих недостатков, безусловно, вступал в противоречие с набором ценностей, определявших благородного мужа (позднее их вместит в себя определение καλοκαγαθία [Лосев, 1975. С. 115–123]). Однако для нас более интересно то обстоятельство, что слово κακός напрямую использовалось для определения низкого происхождения. Сразу несколько отрывков из Одиссеи однозначно свидетельствуют в пользу этого. Так, например, Менелай, встречая Телемаха и Писистрата, отпрысков царских родов, замечает: ἐπεὶ οὔ κε κακοὶ τοιούσδε τέκοιεν («худые таких бы, как вы, не родили», Hom. Od. 4.64). Также и Одиссей, научая Евриклею, как подобает общаться с мертвыми, использует это слово как антоним понятию «благородный»: οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτις σφέας εἰσαφίκοιτο («Не почитали они никого из людей земнородных – Ни благородных, ни низких, какой бы ни встретился с ними» (Hom. Od. 22.415). Что примечательно, согласно Гомеровскому словарю, это слово у поэта нечасто обозначает дурного именно в моральном отношении [Autenrieth, 1958. P. 151], а значит – скорее в имущественном плане. В мире, представляемом нам Илиадой и Одиссеей, невозможно себе вообразить бедного аристократа. Это лишний раз подтверждает, что данное определение вмещало в себя социальное наполнение. Даже в описании Терсита, полном различных негативных определений (αἴσχιστος, φολκός, χωλός и др. Hom. Il. 2.210–220), мы не встречаем ни одного родственного слову κακός, потому как, при всех своих недостатках, Терсит все же оставался именно аристократом – двоюродным братом Тидея и дядей Диомеда [Лосев, 2006. С. 122]. Этот персонаж также интересен нам еще и тем, что, несмотря на принадлежность к знатному роду, он был отнесен к тем, кого Одиссей называл «Невоинственный муж и бессильный»
(ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, Hom. Il. 2.201) и кто, по его мнению, «значащим никогда не бывал, ни в боях ни в советах» (οὔτέ ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ, Hom. Il. 2.202). Царь Итаки лишает Терсита права голоса, а значит, отказывает ему в определенных претензиях на власть, как раз таки из-за военной несостоятельности последнего. Любой знатный воин гомеровского эпоса – почти всегда состоявшийся атлет, следовательно, в архаическую эпоху атлетические качества определяли статус человека в обществе и обосновывали возможность обретения им власти. В данном контексте Питтак, сразивший олимпийского чемпиона, видится нам, и виделся современникам, классическим гомеровским героем.
Еще более красноречиво об употреблении слова κακός для указания на низкое происхождение человека говорит отрывок элегии Феогнида – поэта, известного своими про-аристократическими взглядами. Сетуя на участившиеся случаи браков по расчету между представителями разных социальных групп, он пишет: χρήματα μὲν τιμῶσι καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε καὶ κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ πλοῦτος ἔμειξε γένος («Деньги чтут: на дочке дурного женат достойный, а дурной у доброго взял; богатство смешало породу» Theog. Eleg. 189–190). Что примечательно, помимо Алкея слово «какопатрид» также использует именно Феогнид:
Αὐτός τοι ταύτην εἰδὼς κακόπατριν ἐοῦσαν εἰς οἴκους ἄγεται χρήμασι πειθόμενος εὔδοξος κακόδοξον, ἐπεὶ κρατερή μιν ἀνάγκη ἐντύνει, ἥτ’ ἀνδρὸς τλήμονα θῆκε νόον.
(«Ведь сам же, зная, что от дурного она отца, в дом вводит, деньгами прельстившись, славный – бесславную, оттого что могучая неизбежность повелевает, научая терпению ум мужа», Theog. Eleg. 193–196).
И хотя написание слова несколько отличается от того, что мы встречаем у Алкея, в словаре Лиддела – Скотта указывается на то, что эти формы синонимичны [Liddel, Scott, 1996. P. 863]. О том, что Феогнид вкладывает в это слово значение именно низкого происхождения, говорит другой отрывок, приведенный выше – πλοῦτος ἔμειξε γένος («богатство смешало породу», Theog. Eleg. 190).
У Аристофана, еще одного поэта, поднимавшего в своем творчестве проблему смены благородного поколения людьми низкими и подлыми, в комедии «Лягушки» мы встречаем уподобление достойных граждан прошлого – полновесной монете. В то же время современники автора сравниваются с монетами, которые имеют τῷ κακίστῳ κόμματι («дурной оттиск», Aristoph. Ran. 726).
На основании вышесказанного можно утверждать, что у слова κακός, в древнегреческой литературной традиции, был социальный подтекст. Следовательно, используя определение κακόπατρις, Алкей указывает именно на низкое происхождение Питтака.
В пользу невысокого происхождения эсимнета свидетельствует и эпиграмма Каллимаха, передаваемая Диогеном Лаэртским, анализируя которую он говорит о презрении к Питтаку его жены, более знатного рода (Diog. Laert. 1.4.81). Здесь же мы находим объемный перечень оскорбительных высказываний Алкея в адрес Питтака (Ibid.). Среди вышеперечисленных обозначений нет таких, которые могли бы прямо указывать на низкий статус человека, которому они были адресованы. Тем не менее, например, слово σαράποδα («плосконог») может говорить нам о том, что человек занимается тяжелым физическим трудом, отчего его походка также тяжела и неуклюжа, в то время как аристократы, чьим уделом были война и атлетика, ходят легко и быстро [Борухович, 1979. С. 34].
Вызывает интерес и использование Алкеем слова τύραννος в адрес Питтака. Есть основание полагать, что само по себе это обозначение не имеет в глазах поэта того негативного смысла, которое оно получит позже. Так, например, тиранами Алкей называет братьев Диоскуров (Alc. fr. 34A. 6). Для него это слово, скорее, характеризует абсолютную власть – есть мнение, что он называет так Питтака в силу несоблюдения им условий его избрания на должность [Dale, 2011. P. 21]. Мы же склонны считать, что во fr. 348 поэт указывает именно на несоответствие происхождения эсимнета и полученной им власти.
Следует отметить, что и факт брака Пит-така на представительнице рода Пенфели- дов, в котором некоторые исследователи усматривают подтверждение его высокого происхождения, не является убедительным аргументом. Выше указывалось, что уже в поэтических посланиях Феогнида юноше Кирну мы встречаем описание устоявшейся тенденции к бракам между представителями разных социальных слоев общества [Дова-тур, 1989. С. 44, 45]. В своем предположении о невысоком социальном статусе Питтака до обретения им звания эсимнета А. П. Бернетт также указывает на кровно-родственный элемент. Исследовательница замечает, что за спиной Питтака, скорее всего, не стояла никакая сильная группировка родственников-аристократов, иначе после своей победы над Фриноном он непременно попытался бы взять власть единолично, а не делить ее с Мирсилом [Burnett, 1983. P. 111, 112].
Разрешая проблему социальной принадлежности Питтака, исследователи обращаются также к анализу его законодательной деятельности на посту эсимнета. Основываясь на немногочисленных данных источников, есть все основания полагать, что она носила антиаристократическую направленность. Так, закон об ограничении роскоши на похоронах, приписываемый Питтаку Цицероном (Cic. De leg. II. 26. 66), и закон об установлении двойной пени с пьяного за проступок (Diog. Laert. I, 76) были прямым «ударом» по аристократии, поскольку поставили под вопрос центральный момент образа жизни данного сословия – симпосии [Libero, 1996. S. 356]. Помимо этого, данные законы безусловно можно считать одним из проявлений объективного процесса постепенного укрепления полисной политической структуры (коллективного начала) в противовес аристократическому индивидуализму [Соломатина, 2003. С. 31]. В дополнение ко всему, у нас есть свидетельства того, что Питтак способствовал ослаблению аристократического влияния в полисе посредством организации наемнических экспедиций, костяком которых становились боеспособные представители аристократии. История Древней Греции полна примеров, когда развитие полисов в сторону демократизации обращали именно представители аристократии [Burnett, 1983. P. 114]. Однако, в свете неопределенности социального статуса законодателя, более ло- гичным выглядит отнесение его к одному из неаристократических слоев общества.
Дискуссию о происхождении Питтака видится необходимым продолжить также в еще одном, чрезвычайно интересном, на наш взгляд, направлении. Алкей мог использовать слово «какопатрид», имея в виду не худородность своего политического противника, но его неэллинское происхождение. На это, например, достаточно однозначно указывает Г. Берве [Berve, 1967. S. 573]. Гораздо более подробно этносоциальный аспект политического противостояния на Лесбосе в своей работе рассмотрел Т. Г. Мякин [2003. C. 13, 14]. Нам же достаточно будет отметить справедливость замечания о том, что, если рассматривать столкновение интересов этнических групп фракийцев и эолийских греков как ключ к пониманию социально-политической борьбы в Митилене – становится понятной ненависть Алкея как к отцу Питтака Гиру, так и презрительное отношение к происхождению самого эсимнета.
Подводя промежуточный итог, можно сказать, что происхождение митиленского эсимнета, будь он «полу-аристократом», как склонна считать Е. И. Соломатина [2003. С. 30], или человеком незнатного происхождения, добившегося высокого общественного положения и всеобщего признания ценою собственных усилий, согласно точке зрения Л. А. Пальцевой, все равно остается довольно-таки неопределенным. Этого достаточно, чтобы с уверенностью заключить – в ходе борьбы за власть Питтак не располагал в полной мере теми возможностями, которые могла предоставить принадлежность к аристократическому роду. Согласно распространенному в древности представлению, Пит-так был владельцем мельницы и, возможно, пекарни (Plut. Sept. sap. conv., XIV, 157d-e; Diog. Laert., I, 81; Ael. V. H., VII, 4). Очевидно, таким был тот уровень, с которого стартовал будущий митиленский эсимнет [Пальцева, 2002. С. 25].
Предоставив свое видение данного вопроса, необходимо разрешить еще один, также носящий дискуссионный характер. Мы не сможем в полной мере оценить роль, которую сыграла победа Питтака над олимпийским чемпионом, для обретения им экстраординарных властных полномочий, пока не будем иметь полное представление о сущности этой магистратуры. В приведенном выше обзоре литературы обозначены некоторые точки зрения, однако нам видится целесообразным заострить на этом внимание более подробно.
В гомерическом эпосе мы дважды встречаемся с употреблением слова «эсимнет» или производного от него (Hom. Il. XXIV, 347; Od. VII, 258–260). В «Илиаде» употреблено выражение κούρῳ αἰσυμνητῆρι, понимаемое в исторической традиции как «юноша благородного происхождения, правитель» [Romer, 1982. P. 27]. Во фрагменте седьмой книги «Одиссеи» эсимнеты предстают в качестве выборных судей на состязаниях по пляскам, устроенным царем Алкиноем в честь Одиссея:
αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν δήμιοι, οἳ κατ᾽ ἀγῶνας ἐὺ πρήσσεσκον ἕκαστα,
Судьи, в народе избранные, девять числом, на средину
Поприща, строгие в играх порядка блюстители, вышли
(пер. В. А. Жуковского).
Второй вариант употребления слова «эсимнет» вызывает особенный интерес в рамках данной работы, поскольку уже несет в себе два аспекта – выборность должности и связь с агонистикой. Именно это значение слова стало отправной точкой в определении сущности эсимнетии [Соломатина, 2004. C. 161]. Этимология слова до сих пор остается дискуссионным вопросом. Общую картину дискуссии в своей статье представила Е. И. Соломатина [Там же], для нас же замечательной представляется точка зрения С. Я. Лурье. Он признает значение первого корня: αἰσα- «рок, судьба», но выдвигает интересную (хотя и неубедительную, по мнению Е. И. Соломатиной) теорию о том, что вторая часть слова происходит от слова ὐμνος [Luria, 1963. S. 36]. На основании этого он заключает, что первоначально эсимнеты были в Греции победителями на музыкальных состязаниях и как победители могли стать государственными деятелями. Э. Д. Фролов также выводит институт эсимнетии из древнегреческой агональной традиции на материале надписей об эсимнетах мольпов в Милете [2004б. C. 124]. Милетские мольпы (буквально – «певцы», а точнее – исполнители ритуальных песен и плясок), как считают специалисты, – институт древнейшего религиозно-агонального корня, приобретший в историческое время также и политическое значение.
В литературе, таким образом, неоднократно можно найти подтверждение связи агональной традиции и эсимнетии как политического института. В данном контексте приход Питтака к этой должности вследствие победы над олимпийским победителем – олицетворением агонального духа для греков – выглядит вполне логичным. Однако достаточно ли демократической была природа этого института, чтобы претендент на должность мог использовать подобные достижения, имевшие смысл, безусловно, только при возможности опереться на поддержку широких масс. У Аристотеля неоднократно подчеркивается близость тирании и эсимне-тии (Arist. Pol. III. 9. 5–6, р. 1285а 30 – 1285b 3), однако с указанием на то, что от тирании последнюю отличает фактор выборности. То, что Питтак был приведен к власти посредством выборов, признает и Алкей – собственно, на его отрывок, приведенный выше (Alc. fr. 348), и ссылается Аристотель. И хотя поэт укоряет жителей города в том, что они поставили тираном над мирным несчастным городом Питтака, человека худородного, он все же признает факт всеобщего одобрения его кандидатуры.
Таким образом, можно заключить, что, не обладая знатным происхождением (во всяком случае, уже современниками оно ставилось под сомнение), Питтак получил экстраординарную власть путем всеобщего избрания. Деяние, послужившее для этого поводом, должно было восприниматься его согражданами, как нечто великое. Источники указывают на то, что ключевую роль в политической карьере эсимнета сыграла его победа над афинским военачальником Фри-ноном (Strab., XIII, 1, 38; Diog. Laert., I, 74; Suid. s.v. Pittakos). Об этом же говорится и в обозначенной выше статье Реальной энциклопедии науки о классической древности [Kroll, Mittelhaus, 1950. Sp. 1867]. У нас нет оснований подвергать критике это утверждение. Тем не менее мы практически не встречаемся с объяснением причин столь высокой награды за одержанную победу. Так, на- пример, в своей Истории древнего Лесбоса А. Е. Гониделлис, признавая ключевое значение поединка в карьере Питтака, уделяет его описанию лишь строку [Γονιδελλην, 2012. P. 86]. Вопрос выглядит еще более интересным, если вспомнить про случай с Мильти-адом, пожелавшим себе масличного венка после победы при Марафоне (Plut. Cim. 8.1) и получившим отказ. В то же время битва за Сигей, в ходе которой Питтак одолел Фрино-на, завершилась для митиленцев поражением – и тем не менее возымела исключительно благоприятные последствия для будущего эсимнета. Именно в этой стычке Алкей бежал, бросив свой щит, о чем написал своему другу Меланиппу. Нам же об этом сообщает Геродот (Herod. V. 95).
Изучив этот вопрос и решив для себя, что заставило жителей Митилены, несмотря на неудачный для них исход сражения, поставить во главе полиса человека, который во время него над ними предводительствовал, мы сможем в более широком плане понять значение атлетической победы как относительно карьеры Питтака, так и в целом.
Начать следует с возвращения к описанному случаю с Мильтиадом. Для нас особую ценность представляет формулировка отказа: «Когда ты, Мильтиад, в одиночку побьешь варваров, тогда и требуй почестей для себя одного» («ὅταν γάρ,’ ἔφη, ‘μόνος ἀγωνισάμενος, ὦ Μιλτιάδη, νικήσῃς τοὺς βαρβάρους, τότε καὶ τιμᾶσθαι μόνος ἀξίου.») Главное отличие между победами Питтака и Мильтиада здесь видится как раз в том, что первый боролся с противником самостоятельно, в то время как второй полагался на силу войска. Если посмотреть на это более широко, то мити-ленский военачальник представляется нам именно атлетом (в дополнение ко всему прочему ему противостоял победитель олимпийских игр). Торжество принципа древнегреческого антропоцентризма, увековеченного Протагором 9, превозносит в данном случае первого над вторым – деяние, совершенное в одиночку, ценится выше, чем коллективное. Истоки этого лежат, должно быть, еще в традиции поединка вождей, которым могло разрешаться противостояние целых армий.
В ситуации, когда от победы в битве один на один мог зависеть исход войны, власть получали, и это логично, лучшие воины, каковыми греки привыкли видеть атлетов, судя по данным как исторических источников, так и эпоса. Так, например, греки почитали Париса за храброго воина (ἀριστῆα πρόμον), ничего не зная о его боевых качествах, но только лишь «потому что красив» («οὕνεκα καλὸν» Hom. Il. III.44). Если принять во внимание победы Париса в гимнастических состязаниях [Гигин, 2000. C. 228], то в данном случае его «красота» безусловно включала в себя и атлетическое телосложение. И хотя в нашем случае победа «вождя» не решила исход сражения – ее символическое значение, как мы видим, оставалось еще очень большим. А. П. Бернетт в связи с этим справедливо отмечает [Burnett, 1983. P. 111], что победа над Фриноном сделала Питтака своего рода воплощением («epic avatar») данного эпического наследия. В свете этого тем замечательнее выглядит факт того, что согласно Страбону (Strab. 13.1.38) стены Сигея укреплялись с помощью камней, взятых с руин Трои. Возможно, это только усиливало впечатление современников от победы Питтака.
Об этом же говорит А. В. Зберовский, отмечая то, что в общественном сознании эллинов политика воспринималась не как нечто командное, но сугубо индивидуальное 10.
Однако атлеты были, в представлении современников, не только лучшими в физическом отношении, но также избранниками богов. Достаточно подробно этот вопрос, на примере изучения поэзии Пиндара, рассмотрел М. Л. Гаспаров [1980. С. 361–383]. По замечанию автора, исход состязаний в греческом представлении определял не того, кто лучше был к ним подготовлен, но того, чье дело боги считают правым, кому они являют свою милость. Подтверждение этой гипотезы мы можем найти у Гомера: в Илиаде и Одиссее множество примеров того, как боги незримо принимают участие в состязаниях между смертными (Hom. Od., 8.193–198, 18.69–71; Hom. Il. 23.383–873). Идея наделения смертных божественной благодатью (χάρις) в литературных источниках тесно переплетена с темой атлетизма. Так, именно благодатью объяснял Гесиод неординарные атлетические навыки героини Аталанты в беге (Hes. Fr. 73.2–5 M–W). Плутарх же называет благодатным современное Пелопиду государство (IV в. до н. э.), в котором благодаря атлетике воинственное связывается с прекрасным (Plut. Pel. 19.2). Гаспаров сравнивает ожидания зрителей от состязаний с получением пророчеств оракула. Значение же оракула для греков сложно переоценить, публичная и частная жизнь в полисах без него немыслима [Кулишова, 2001. С. 9]. Оракул неоднократно выказывал свое благоволение атлетам или их памяти. Наиболее известные примеры – случай со статуей Феогена из Фасоса, пересказанный Павсанием (Paus. VI.11.2), и судьба Клеомеда из Астипалейи, о которой мы узнаем из жизнеописаний Плутарха (Plut. Rom. 28).
Так, нарушившие священное право убежища при расправе над сторонниками Кило-на были «ненавидимы всеми» (Plut. Sol. 12), а о том, насколько тема божественного покровительства могла искусно использоваться политиками, исключительно красноречиво говорит одно из возвращений Писистрата из изгнания, превращенное в целое театральное действо (Herod. I. 61).
На попытке Килона захватить власть в Афинах стоит остановиться подробнее. И неудавшийся тиран, и Питтак имели тесную связь с олимпийской традицией – первый сам был олимпийским победителем (о чем в первую очередь говорят источники, представляя нам Килона [Туманс, 2002. С. 185]), второй же одержал победу над олимпиоником. Также каждый из них претендовал на получение экстраординарной власти, и здесь необходимо предпринять исследование причин, позволявших Килону рассчитывать на нее. Во-первых, как уже было сказано, олимпийский победитель был вправе считать себя богоизбранным, и эту веру в Килоне утвердил оракул в Дельфах, одобривший его замысел по захвату власти (Thuc. I. 126). Разумеется, ореолом божественной милости в глазах сограждан мог быть окружен и тот, кто сразил олимпионика – Питтак, в нашем случае. Примечательно, что согласно эпической традиции на царскую власть мог претендовать любой человек, совершивший подвиг, вне зависимости от его происхождения [Там же].
Корни этого представления уходят в древнегреческую мифическую традицию, в которой мы часто встречаем сюжеты, описывающие атлетические состязания, призом в которых является власть: как, например, в мифе об учреждении Олимпийских игр Эндимионом, когда его сыновья состязались между собой за царство (Paus. V. 1.4). Широко известен миф о состязании Пелопа с Эномаем, в котором говорится о том, что победившему Пелопу в качестве награды досталась дочь Эномая и его царство в придачу (Diod. IV. 73). Одним словом, можно говорить о некой универсальной архетипной модели, свойственной мифологическому мышлению в ту эпоху, когда вместо писаного права политический порядок определяла религиозная харизма. Идеология Олимпийский игр была построена как раз на этой древней модели, которая таким образом вошла и в политическое мышление древних греков [Там же. С. 187].
На основании данных, полученных в ходе исследования, можно заключить, что как в конкретном случае обретения должности эсимнета Питтаком, так и в более общем историческом контексте, мы в праве считать участие в атлетических состязаниях напрямую или приобщение к состязательной традиции (например, через победу над олимпио-ником) действительным способом обретения политической власти в Древней Греции.
Список литературы Спортивная победа как механизм приобретения и удержания политической власти в Древней Греции архаического периода
- Барзилов С. И., Барябина Е. Н. Особенности политической ментальности провинциального социума//Регион как субъект политики и общественных отношений. М., 2000. С. 198-208.
- Берве Г. Тираны Греции/Пер. с нем. О. Е. Рывкиной. Ростов н/Д: Феникс, 1997. 640 с.
- Борухович В. Г. Из истории социально-политической борьбы на Лесбосе (конец VII -начало VI в. до н. э.)//Античный полис. Л., 1979. С. 27-42.
- Бузескул В. П. История афинской демократии. СПб.: ИЦ Гуманитарная академия, 2003. 480 с.
- Гаспаров М. Л. Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты. М.: Наука, 1980. 503 с.
- Гигин. Мифы. СПб.: Алетейя, 2000. 480 с.
- Горончаровский В. А. Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2009. 256 с.
- Гринбаум Н. С. Взгляд в античность. VARIA. СПб.: Нестор-История, 2010. 380 с.
- Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. Л.: Наука, 1965. 391 с.
- Доватур А. И. Феогнид и его время. Л.: Наука, 1989. 208 с.
- Жестоканов С. М. Спорт и спортивные состязания в Древней Греции//Феномен досуга в античном мире. СПб., 2013. С. 82-108.
- Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. 2-е изд., испр. и перераб. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. 320 с.
- Зельин К. К. Олимпионики и тираны//ВДИ. 1962. № 4. С. 21-29.
- Кессиди Ф. Х. Философия, диалог и диалектика в Древней Греции классического периода//Проблемы античной культуры. М., 1986. С. 18-23.
- Кравцов Н. А. Симфония полиса. Государственная власть, право и искусство в Древней Греции. М.: Вузовская книга, 2012. 224 с.
- Кулишова О. В. Дельфийский оракул в системе античных межгосударственных отношений (VII-V вв. до н. э.). СПб.: ИЦ Гуманитарная академия, 2001. 432 с.
- Курбатов А. А. Военное значение аристократии в архаической Греции//Античный мир и археология. Саратов, 1990. Вып. 7. С. 3-14.
- Латышев В. В. Очерк греческих древностей. М.: Наука, 1996. Ч. 1. 343 с.
- Лосев А. Ф. Гомер. М.: Молодая гвардия, 2006. 400 с.
- Лосев А. Ф. История античной эстетики. М.: Искусство, 1975. Т. 4: Аристотель и поздняя классика. 672 с.
- Маринович Л. П. Античная демократия в свидетельствах современников. М.: Ладомир, 1996. 383 с.
- Мякин Т. Г. Лесбосская демократия. Политический строй античной Митилены с древнейших времен до V в. н. э. Новосибирск, 2004. 86 с.
- Мякин Т. Г. «Мудрая» Сапфо или философия древнегреческой инициации (сапфический фиас в свете новейших археологических и папирологических открытий)//SCOLH. Философское антиковедение и классическая традиция. Новосибирск, 2014. Т. 8, вып. 2. С. 425-444.
- Мякин Т. Г. Становление полисного строя на Лесбосе (VII-VI вв. до н. э.).//История и социология государства. Новосибирск, 2003. С. 5-18.
- Пальцева Л. А. Питтак Митиленский (к вопросу об эсимнетии в архаической Греции)//Античное государство. Политические отношения и государственные формы в античном мире. СПб., 2002. С. 21-34.
- Радциг С. И. Килонова смута в Афинах//ВДИ. 1964. № 3. С. 3-14.
- Рогович Е. В. Социально-политическое развитие Митилены в конце VII -начале VI в. до н. э.: к проблеме характера эсимнетии//Вестник ЯрГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 4/1. С. 30-32.
- Соломатина Е. И. Питтак Митиленский: народный диктатор или вождь аристократов?//«Studia historica». М., 2003. Vol. 3. С. 19-37.
- Соломатина Е. И. Эсимнеты: тираны, верные традициям, или неверно понятая традиция?//ВДИ. 2004. № 2. С. 159-179.
- Суриков И. Е. Аристократия и демос. Политическая элита архаических и классических Афин. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2009. 256 с.
- Туманс Х. Рождение Афины: Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла (VIII-V вв. до н. э.). СПб.: ИЦ Гуманитарная академия, 2002. 544 с.
- Фролов Э. Д. Парадоксы истории -парадоксы античности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004а. 420 с.
- Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. 2-е изд. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004б. 266 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня/Пер. с нидерл. В. В. Ошиса. М.: Прогресс, 1992. 464 с.
- Шанин Ю. В. Олимпия. История античного атлетизма. СПб.: Алетейя, 2001. 192 с.
- Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.: Наука, 1990. 271 с.
- Γονιδελλησ Α. Ε. Ιστορια της αρχαιας Λεσβου. Μυτιλήνη: Αιολίδα, 2012. σελ. 283. (на греч. яз.)
- Andrewes A. Greek Tyrants. Tiptree: The Anchor Press, 1956. 167 p.
- Aristophanes Comoediae/Eds. F. W. Hall, W. M. Geldart. Oxford: Clarendon Press, 1907. Vol. 2. 382 p.
- Aristotle's Politica/Ed. by W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1957. 210 p.
- Autenrieth G. A. Homeric Dictionary for Schools and Colleges. Oklahoma: Univ. of Oklahoma Press, 1958. 191 p.
- Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. München: Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1967. 796 S.
- Burnett A. P. Three Archaic Poets. Archilochus, Alcaeus, Sappho. London: Duckworth, 1983. 320 p.
- Campbell D. A. Greek Lyric. Sappho et Alcaeus. London: Harvard Univ. Press, 1990. 492 p.
- Claudii Aeliani de natura animalium libri XVII, Varia historia, Epistolae fragmenta, ex recognitione Rudolphi Hercheri. Leipzig: B. G. Teubner, 1866. Vol. 2. 787 p.
- M. Tullius Cicero. De Legibus/Ed. by G. de Plinval. Paris: Belles Lettres, 1959. 204 p.
- Dale A. Alcaeus on the Career of Myrsilos: Greeks, Lydians and Luwians at the East Aegean, West Anatolian Interface//Journal of Hellenic Studies. Cambridge, 2011. Vol. 131. P. 15-24.
- Diodori Bibliotheca Historica/Immanuel Bekker, Ludwig Dindorf, Friedrich Vogel, Kurt Theodor Fischer. Leipzig: B. G. Teubner, 1905. Vol. 3: Diodorus Siculus. 386 p.
- Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers/Transl. by R. D. Hicks. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1972. 586 p.
- Gentili B. Poetry and Its Public in Ancient Greece: From Homer to the 5th Century. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1990. 384 p.
- Golden M. Sport and Society in Ancient Greece. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. 216 p.
- Hawhee D. Bodily Arts Rhetoric and Athletic in Ancient Greece. Austin: Univ. of Texas Press, 2004. 226 p.
- Herodotus, Historiae, with an English translation by A. D. Godley. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1920. Vol. 1. 504 p.; 1922. Vol. 3. 592 p.
- Hesiod. The Homeric Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G. Evelyn-White. London: William Heinemann, 1914. 620 p.
- Hesychii Alexandrini Lexicon/Ed. by K. Latte. Copenhagen: Munksgaard, 1953. Vol. 1. 492 p.; 1965. Vol. 2. 806 p.
- Homer, Iliad//Homeri Opera/Transl. by D. B. Monro, T. W. Allen. Oxford: Clarendon Press, 1920. Vol. 1. 266 p.; Vol. 2. 320 p.
- Homer. The Odyssey with an English Translation by A. T. Murray. London: Clarendon Press, 1919. Vol. 1. 481 p.; Vol. 2. 480 p.
- Kroll W., Mittelhaus K. Pittakos//Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 40 Hb. Bd. Weimar, 1950. Sp. 1862-1873.
- Libero L. de. Die Archaische Tyrannis. Stuttgart: Franz Steiner, 1996. 478 S.
- Liddel H. G., Scott R. Greek-English Lexicon. With revised suppl. 1996. Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. 1705 p.
- Luria S. Kureten, Molpen, Aisymneten//Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, 1963. Т. 11. Fasc. 1-2. S. 31-36.
- Pausaniae Graeciae Descriptio, ex recognitione F. Spiro. Leipzig: B. G. Teubner, 1903. Vol. 1. 420 p.; Vol. 2. 389 p.; Vol. 3. 357 p.
- Plutarchi, Moralia, ex recognitione Gregorius N. Bernardakis. Leipzig: B. G. Teubner, 1893. Vol. 5. 499 p.
- Plutarch's Lives, with an English Translation by Bernadotte Perrin. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1914. 631 p.
- Romer F. E. The Aisymneteia: A Problem in Aristotle's Historic Method//American Journal of Philology. Baltimore, 1982. Vol. 103. No. 1. P. 25-46.
- Scanlon T. F. Eros and Greek Athletics. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. 466 p.
- Strabo. Geographica/Ed. by A. Meineke. Leipzig: B. G. Teubner, 1877. 836 p.
- Suidae Lexicon/Ed. by A. Adler. Leipzig: B. G. Teubner, 1933. Vol. 3. 632 p.
- Theognis/Ed. by F. Ferrari. Milan: Biblioteca Universale Rizzoli, 1989. 327 p.
- Thucydides. Historiae. Oxford: Clarendon Press, 1942. Vol. 1. 350 p.