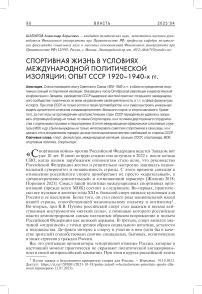Спортивная жизнь в условиях международной политической изоляции: опыт СССР 1920-1940-х гг.
Автор: Шатилов А.Б.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 4 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена опыту Советского Союза 1920–1940-х гг. в области преодоления спортивных санкций и спортивной изоляции. Оказавшись после Октябрьской революции в идеологической конфронтации с Западом, руководство СССР выдержало жесткий прессинг тогдашнего «международного сообщества» практически по всем направлениям своей деятельности, в т.ч. в сфере физкультуры и спорта. При этом СССР не только устоял в таком противоборстве, но и сумел выстроить уникальную модель органичного сочетания и взаимодополнения «большого спорта» и спорта массового. Кроме того, за счет игры на противоречиях капиталистических стран СССР периодически удавалось прорывать спортивную блокаду не только по линии Спортинтерна, но и по линии двустороннего сотрудничества с отдельными странами и территориями. В итоге международные официальные спортивные структуры (МОК и др.) были вынуждены не только интегрировать советских спортсменов в свои ряды, но и сделать это в инициативном порядке, да еще после выполнения жестких требований со стороны СССР.
Спорт, физкультура, международная изоляция, санкции, СССР, спартакиада, МОК, спортивная политика, Спортинтерн
Короткий адрес: https://sciup.org/170211058
IDR: 170211058
Текст научной статьи Спортивная жизнь в условиях международной политической изоляции: опыт СССР 1920-1940-х гг.
«С портивная война» против Российской Федерации ведется Западом вот уже 10 лет. В свою острую стадию она вступила в 2022 г. после начала СВО, когда нашим зарубежным оппонентам стало ясно, что руководство Российской Федерации жестко и решительно настроено защищать национальный суверенитет и независимость страны. С этого времени санкции в отношении российского спорта приобретают не просто «карательный», а «демонстративно-унизительный» и «отменяющий характер» [Жилкин 2018; Порошин 2023]. Смысл такой политики международных спортивных организаций (прежде всего МОК) состоит в следующем. Во-первых, практически все нулевые и десятые годы XXI в. большой спорт являлся культовым для России и ее населения. Более того, он стал своего рода национальной идеей нашей страны, способствующей национальному подъему и оптимизму1. Во-вторых, при В.В. Путине российский спорт стал важным и весьма действенным инструментом «мягкой силы», с помощью которого российские власти демонстрировали самым наглядным образом возрождение и подъем Российской Федерации как великой державы. В-третьих, спорт являлся значимой «отдушиной» с точки зрения сброса социального негатива, усталости и недовольства. Де-факто интерес к спорту и участие в нем (хотя бы в качестве зрителей) способствовали снятию социальных, бытовых, политических и иных стрессов у граждан России.
Все это учитывали организаторы «спортивной отмены» России, которые в настоящий момент практически не скрывают политической ангажированности своей антироссийской кампании. При этом в кругах российской элиты отношение к «спортивной войне» Запада до сих пор неоднозначное. Кто-то призывает смириться с санкциями и выполнить волю «международного спортивного сообщества». Кто-то считает, что надо взять паузу и переждать «бурю», не вступая в конфронтацию с МОК и международными спортивными федерациями, невзирая на их откровенную враждебность. Кто-то полагает, что в таких условиях России не остается ничего иного, как «закрыться» и найти новые формы культивирования спорта (в т.ч. спорта высших достижений) в условиях навязанной нам Западом изоляции. В этом плане небезынтересно проанализировать отечественный опыт 1920–1940-х гг., когда длительное время советский спорт существовал в условиях «автаркии», но при этом ставились рекорды, развивались новые виды спорта, создавались оригинальные форматы спортивных состязаний.
После победы Октябрьской революции в России и особенно после успешного для большевиков завершения Гражданской войны и учреждения Советского Союза отношения «первого в мире государства рабочих и крестьян» с окружающим «буржуазным миром» были более чем холодными, а иногда откровенно враждебными. Даже отмена политики военного коммунизма, введение нэпа и массовое дипломатическое признание СССР странами Запада в 1923–1924 гг. не привели к «оттепели» и сближению. По большому счету, сторонами во взаимных «уступках» двигал прагматический расчет: советским властям требовалось время для преодоления разрухи и подготовки масштабных реформ, «западникам» – доступ к советскому рынку и советским природным ресурсам. При этом в идеологическом и политическом отношении и та и другая сторона оставались непримиримыми: в советском руководстве долгое время рассматривался вариант «мировой революции» (даже после провозглашения И.В. Сталиным курса на «построение социализма в отдельно взятой стране»), на Западе вплоть до начала 1930-х гг. всерьез прорабатывались сценарии с иностранной интервенцией для свержения «красного режима».
Такого рода политическая конъюнктура накладывала свой отпечаток практически на все сферы двустороннего взаимодействия, в т.ч. на спортивную жизнь; причем, как ни парадоксально, спортивное размежевание было более глубоким, поскольку не затрагивало рациональных интересов сторон и поэтому являлось «безграничным» полем идеологического противостояния [Копысов 2024].
Так, с 1917 по 1946 г. СССР находился в полной спортивной изоляции и одновременно самоизоляции в отношении так называемого буржуазного спорта. Причин тому было несколько. Так, «западники» обвиняли советский режим в «нелегитимности», и поэтому все, что выходило за рамки «прожиточного минимума» рационального сотрудничества, выносили за «красную черту». В свою очередь, руководство СССР не желало иметь ничего общего (опять же за исключением отдельных взаимовыгодных моментов сотрудничества) со «старым миром». Так что неприятие было обоюдным, и ни одна из сторон не желала идти на уступки, хотя и в Советском Союзе, и на Западе уже в 1920-х гг. осознают огромную пропагандистскую и мобилизующую силу «большого спорта».
Тем не менее, даже пребывая во враждебном окружении, СССР сумел найти достаточно действенные методы прорыва спортивной блокады. Прежде всего, это касается взаимодействия с международным рабочим спортивным движением, которое в 1920–1930-х гг. хотя и уступало буржуазному по своим возможностям и достижениям, но считалось весьма авторитетным и альтер- нативным не только официальным спортивным федерациям, но даже международному Олимпийскому комитету. Более того, в связи со значительным распространением на Западе левых идей рабочее спортивное движение имело своих покровителей и даже свои наднациональные управляющие структуры. Так, в 1920 г. в швейцарском городе Люцерне был основан Люцернский спортивный интернационал (с 1929 г. – Социалистический рабочий спортивный интернационал), политический тон в котором задавали социалисты, социал-демократы и другие «умеренные левые». И хотя он позиционировал себя в качестве альтернативы буржуазно-империалистическому спортивному миру, тем не менее ЛСИ также весьма неодобрительно относился к «радикалам слева». Поэтому, несмотря на то что в его программных документах можно найти строки с призывом к борьбе «против капитализма, национализма и милитаризма» и заявку на объединение пролетариев-спортсменов, большую часть своего существования «люцернцы» боролись против своего «собрата» – Красного спортивного Интернационала, действовавшего под эгидой Коминтерна. Доходило до того, что членов КСИ (образованного в Москве в 1921 г.) не допускали к соревнованиям «умеренных», а сторонников «красных» исключали из ЛСИ.
Одновременно ЛСИ-СРСИ фактически монополизировал проведение Рабочих олимпиад, которые в качестве массовых «левых» спортивных форумов проводились в Европе в 1921–1937 гг. При этом на первые такие олимпиады официально не допускались «просоветские» спортсмены, и лишь во второй половине 1930-х гг. перед лицом активизации ультраправых в лице нацизма и фашизма в спорте также де-факто возникает «народный фронт»: в 1936 г. в Барселоне заявляется, но так и не стартует Всемирная народная олимпиада, объединившая СРСИ и КСИ. Рабочий спортивный форум был сорван путчем Ф. Франко, при этом некоторые заранее прибывшие спортсмены и делегации были вынуждены вернуться в свои страны, хотя отдельные наиболее идейные атлеты-пролетарии остались в Испании и приняли участие в гражданской войне в составе интербригад. Последним объединенным «левым» спортивным форумом стала Всемирная рабочая Олимпиада в Антверпене (Бельгия), которая состоялась в 1937 г. и в которой приняла участие большая делегация СССР. Таким образом, невзирая на то что «рабочие олимпиады» по своему составу и результатам чаще всего весьма уступали буржуазному спорту «высших достижений», используя их возможности, советским спортсменам удавалось, с одной стороны, демонстрировать международной общественности факт наличия у Советского Союза огромного спортивного потенциала, а с другой – развивать трансграничные спортивные связи.
Помимо участия в деятельности Красного Спортинтерна, СССР удавалось периодически прорывать спортивную изоляцию, используя политическую и идеологическую конъюнктуру. Так, например, в начале 1920-х гг. политическую независимость попыталась продемонстрировать Скандинавия – на статусный конькобежный турнир в Норвегии по принципу «спорт вне политики» были официально приглашены трое советских спортсменов – Яков Мельников и братья Ипполитовы, Василий и Платон, имевшие отличную репутацию и серьезные достижения еще с «имперских» времен. Однако такой демарш переполнил чашу терпения «буржуазного» МОКа, который после указанного турнира ввел жесткий запрет на участие в официальных спортивных мероприятиях спортсменов «непризнанного государства». Тем не менее запрет не касался тех видов спорта, которые не входили в олимпийскую программу: так, советские шахматисты свободно выступали за рубежом и в
1920-е, и 1930-е гг. (например, в 1936 г. на крупнейшем турнире в английском Ноттингеме восходящая звезда советских шахмат М. Ботвинник разделил 1-е и 2-е места с экс-чемпионом мира Х.-Р. Капабланкой). При этом за границей советские спортсмены зачастую выступали не только как участники соревнований, но и как амбассадоры «первого в мире государства рабочих и крестьян», принимали участие в «красных» митингах, давали политические интервью левой прессе [Глушич 2024: 112].
Одновременно СССР устраивал международные турниры и игры на своей территории, а также проводил товарищеские встречи. В этом плане примечательна, например, серия футбольных встреч сборных СССР и Турции в 1924– 1925 гг. в Москве и Анкаре, а также серия матчей сборной СССР с так называемой сборной народных домов Турции (такое название «временно» приняла сборная Турции, чтобы избежать санкций со стороны ФИФА). Иногда удавалось выступать за границей и отдельным нашим командам: так, летом 1940 г. состоялась поездка московского «Спартака» в Болгарию, где состоялись товарищеские встречи с местными клубами. Ну а апогеем такого «неформального» футбольного международного сотрудничества стало «советское турне» неофициальной сборной Басконии в 1937 г. в условиях полыхающей гражданской войны в Испании.
Более того, с учетом неблагоприятной международной конъюнктуры советские власти не столько делали упор на международные контакты, сколько развивали внутреннюю спортивную жизнь, причем по двум направлениям: как «спорт рекордсменов», так и массовый спорт, причем если первый был важен с точки зрения пропаганды достижений советской власти, то второй рассматривался и как необходимый элемент допризывной и военной подготовки. Еще в 1918 г. в Москве и Петрограде были открыты первые 9-месячные курсы Главного управления Всевобуча (Всеобщее военное обучение), которые далее были преобразованы в институты физической культуры. В том же 1918 г. при непосредственном участии знаменитого красного военачальника М.В. Фрунзе были созданы первые советские спортивные общества «Спартак» и «Спорт». Несколько позже появляются общество «Динамо» и спортивный клуб Красной Армии. При этом в рамках клубов и обществ культивируются прежде всего спортивные дисциплины «двойного назначения» (многодневные эстафеты, автопробеги, фехтование, бокс, конный спорт и др.). Как пелось в одной из популярных в то время песен, в случае войны «спортивные сменим снаряды на саблю, гранату и штык»1.
Одновременно с организационным оформлением начинается строительство спортивной инфраструктуры и популяризация спорта среди широких слоев населения. Дело в том, что до революции отношение к спорту среди непривилегированных слоев населения было весьма скептическое – в основном спортивные занятия воспринимались как «баловство» и бесцельная трата сил, а иногда и как классово чуждая «господская» забава. Однако мобилизационный и динамичный характер советского режима тех лет требовал сильных, выносливых и здоровых кадров «строителей коммунизма», причем обоего пола. Соответственно, уже с начала 1920-х гг. начинается продвижение в общественном мнении СССР идеи о физиологической и культурной пользе и даже необходимости занятия физкультурой и спортом. Особенно непросто было продвигать спортивную тематику на окра- инах Советского Союза (особенно в национальных республиках) и в сельской местности. Так, деревенские жители зачастую не имели ни спортивной инфраструктуры, ни инвентаря, ни даже свободного времени для занятий спортом, а в консервативных регионах развитию спорта препятствовали как местные традиции, так и религиозное противодействие со стороны верующих (особое неприятие последних вызывало вовлечение в спортивную жизнь девушек и женщин).
Особо стоит подчеркнуть усилия советского руководства по развитию собственных форматов спортивных соревнований. Так, уже в 1920-х гг. в СССР стали проводить всесоюзные спартакиады как альтернативу олимпийским играм. Причем «альтернативность» была заложена уже в самом названии. Вот как объяснял его видный советский государственный и партийный деятель, член исполкома Коминтерна Миха Цхакая: «Мы берем слово Спартакиада от имени Спартака, исторического героя древнего мира, вождя восставших рабов против римских аристократов… Вот почему наше всесоюзное, всепро-летарское выступление по физкультуре мы назвали Спартакиадой»1. Более того, Спартакиада СССР в определенный момент даже переросла союзный уровень и фактически стала международным, наднациональным явлением. Так, например, в Спартакиаде 1928 г. проводились соревнования по 21 виду спорта, в ней участвовали 7 125 спортсменов, из которых 612 представляли 14 зарубежных стран.
Немалое внимание уделялось в межвоенном СССР и проблемам информационного и PR -сопровождения советской спортивной жизни. В частности, нужно отметить работу культмассового сектора по проведению спортивных праздников и фестивалей, сценарии которых были креативны, мероприятия оформлены в духе советского авангарда, а энтузиазм участников являлся неподдельным [Истягина-Елисеева 2018]. При этом активно развивались и множились различного рода спортивные издания (центральные, региональные, спортивных обществ, вузов и крупных предприятий) и рубрики. А 26 мая 1926 г. на советском радио стартовали первые спортивные репортажи – первая трансляция была посвящена футбольному матчу сборных команд РСФСР и УССР.
Таким образом, нужно констатировать, что, невзирая на спортивную изоляцию РСФСР, а потом СССР, советскому руководству удалось не только обеспечить интенсивное и эффективное развитие физкультуры и спорта, но даже обеспечить подготовку рекордсменов в спорте высших достижений, разработать новые оригинальные формы организации и реализации спортивных мероприятий, подготовить массовые кадры физически крепких и здоровых людей – защитников своей Родины. Итогом такой политики «спортивного суверенитета» стало фактическое поражение санкционной политики Запада в отношении СССР. А после 1945 г. функционеры большого «буржуазного» спорта просто осаждали советских коллег с предложениями присоединиться к работе международных спортивных организаций и федераций. Примечателен, например, тот факт, что согласие Советского Союза на вступление в МОК было получено лишь тогда, когда из руководства Международного Олимпийского комитета были удалены лица с нацистским прошлым или попавшие туда по протекции Третьего рейха [Адельфинский 2024: 110].
Обращаясь к советскому опыту «спортивной автаркии», можно порекомендовать современным российским спортивным функционерам следующее.
Во-первых, проводить более жесткую линию в отношении МОКа, ВАДА и иных наднациональных спортивных структур. С учетом масштабов российского влияния в мире наши оппоненты будут вынуждены пойти на уступки, иначе слишком велика будет опасность раскола международного спортивного движения.
Во-вторых, помимо спорта «высоких достижений», нужно стимулировать развитие массового дворового, вузовского и корпоративного спорта. Также возможно реанимировать опыт проведения всероссийских спартакиад.
В-третьих, важно продвигать собственные масштабные проекты вроде Игр дружбы, вести политику «мягкой силы», в т.ч. на спортивном и околоспор-тивном направлениях. Цель – создание за рубежом сети «агентов влияния» среди спортсменов и спортивных функционеров.
В-четвертых, основной упор спортивной работы должен быть сделан на страны глобального Юга, которые являются более «сговорчивыми» в политическом плане. Кроме того, в этих странах Россия вполне может вести селекционную и скаутскую работу, рекрутируя спортсменов «мировой периферии» в отечественные клубы.
В-пятых, необходимо проводить целенаправленную и эффективную идеологическую работу со спортсменами, начиная с детско-юношеского уровня, с целью формирования у них чувства сопричастности к великой стране и великой культуре и преодоления присущего современному спорту духа космополитизма и товарно-денежных отношений.